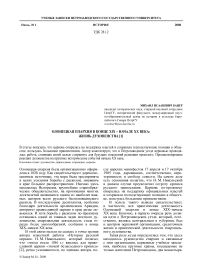Олонецкая епархия в конце XIX - начале XX века: жизнь духовенства
Автор: Бацер Михаил Исаакович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что церковь опиралась на поддержку властей и сохраняла господствующие позиции в обществе, пользуясь большими привилегиями. Автор констатирует, что в Петрозаводском уезде церковью проводилась работа, ставящая своей целью сохранить для будущих поколений реликвии прошлого. Проанализирована реакция духовенства на крупные исторические события начала ХХ века.
Духовенство, православие, староверие, церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/14749387
IDR: 14749387 | УДК: 281.2
Текст научной статьи Олонецкая епархия в конце XIX - начале XX века: жизнь духовенства
Олонецкая епархия была организационно оформлена в 1828 году. Как свидетельствуют дореволюционные источники, эта мера была предпринята в целях усиления борьбы с расколом, имевшим в крае большое распространение. Именно здесь находилась Выгореция, крупнейшее старообрядческое общежительство, на протяжении многих десятилетий являвшееся одним из наиболее важных центров всего русского беспоповщинского раскола. В последующие десятилетия, особенно благодаря деятельности архиепископа Аркадия, авторитет православной церкви в крае резко повысился. И хотя борьба с расколом по-прежнему оставалась одной из главных задач местного духовенства, епархиальная деятельность стала гораздо более многообразной, особенно в конце XIX–начале XX века.
В этой связи нельзя не сказать о точке зрения автора известной работы «История русской церкви» Н. М. Никольского, который полагал, что «эпоха после 1861 г.» явилась для православной церкви «эпохой безысходного кризиса» [2], резко усилившегося, по мнению автора, по- сле царских манифестов 17 апреля и 17 октября 1905 года, даровавших, соответственно, веротерпимость и свободу совести. На самом деле есть основания полагать, что Н. М. Никольский в данном случае преувеличил остроту кризиса русского православия. Церковь по-прежнему опиралась на поддержку официальных властей и сохраняла господствующие позиции в обществе, пользуясь большими привилегиями.
В пользу такого вывода свидетельствует, в частности, вся практическая деятельность Олонецкой епархии в конце XIX–начале XX века. Конечно, в первую очередь речь должна идти о Петрозаводском уезде, который, естественно, являясь центральным в губернии, был и центром церковной организации, средоточием жизни и практической деятельности епархиального духовенства.
Такая роль уезда определялась тем, что здесь находилось руководство епархии и связанные с ним организации, церковные учебные заведения, наиболее крупные храмы, посещаемые не только жителями Петрозаводска, два монастыря.
Надо принять во внимание, что в уезде было наибольшее количество приходов и 45 церковноприходских школ, а к 1909 году их число увеличилось до 73-х.
В последней четверти XIX и начале XX века во главе епархии находились епископы Павел Доброхотов (1882–1897 гг.), Назарий Кириллов (1897–1901 гг.), а затем Анастасий (1901– 1905 гг.), Михаил (1905–1908 гг.), Никанор (1908–1916 гг.). Каждый из них, конечно, стремился к преемственности и решал традиционные церковные задачи. Но при этом были в их деятельности и особенности, отличавшие одного от другого. Например, вот как характеризовала епископа Назария «Памятная книжка Олонецкой губернии»:
«Своею широкою и разностороннею деятельностью преосв. Назарий оставил по себе имя ревностнейшего архипастыря.
На собранные преосвященным Назарием средства выстроено против собора большое одноэтажное каменное здание (очевидно, здесь и располагался впоследствии названный в честь его основателя Братский Назариевский дом. – М. Б.). Несмотря на бездорожье, Владыка лично побывал почти во всех приходах (имеется в виду вся Олонецкая епархия, в которой только «зараженных» расколом было 139 приходов. – М. Б.), даже в таких, куда еще по сие время летом ведут одни верховые тропы. По распоряжению Владыки начато (с 1 июля 1898 года) издание епархиальных ведомостей, в которых сотрудничали лучшие силы из среды духовенства и учительского персонала» [3].
Предшественником Назария, как сказано выше, был Павел Доброхотов, человек преклонного возраста. Однако именно он отдал руководящие распоряжения по упорядочению хозяйственного управления церковными доходами. Правда, многого в этом деле добиться ему не удалось, так как он «по дряхлости и болезненному состоянию в епархию для обозрения не выезжал, находился неотлучно в Петрозаводске» [4].
На страницах «Олонецких епархиальных ведомостей» публиковались материалы, не только утверждающие православные церковные истины, но и имеющие дискуссионный характер. Печатались здесь даже стихи, правда, исключительно религиозного содержания. Среди постоянных авторов поэтических произведений особенно выделялся количеством публикаций преподаватель Олонецкой духовной семинарии Д. Ягодкин. Из-под его пера вышли, например, такие строки:
Люби, мой друг, от всей души творенье Бога! Везде в нем есть для счастья светлый уголок. Везде к нему найдется верная дорога, Не будь лишь сам от светлых радостей далек.
Смотри на мир Творца ты светлым взором. Найди во всем ты мудрый, светлый интерес. Не будь, мой друг, пленен ты низким разговором Про чудный мир Творца, про мир его чудес! [5]
Конечно, эти стихи нельзя судить по законам высокой поэзии, но они интересны стремлением адресоваться не к работникам епархии, а к их пастве.
Как и повсюду в России, в Петрозаводском уезде церковь вошла во все поры жизни населения. Без нее не могли обойтись ни создание новой семьи, ни рождение ребенка, ни смерть близкого, ни стремление исповедоваться о своей жизни, решить, что праведно, что неправедно. Конечно, не следует идеализировать всю эту деятельность, ведь и священники были разные (что составляет особую страницу в истории епархии). И все же, особенно в дни религиозных праздников, церковь немало делала для того, чтобы проповедовать высокие моральные принципы среди населения всех возрастов.
Вот какую заметку, любопытную во многих отношениях, опубликовали в 1902 году «Олонецкие епархиальные ведомости»:
«3 января в Братском Назарьевском доме был устроен для учащихся всех церковно-приходских школ г. Петрозаводска детский праздник «елка». Праздник был устроен на средства попечителей И. Ф. Тихонова, A. M. Пикина, Н. Н. Румянцева, С. Л. Леонтьева и других жертвователей. Средств понадобилось немало, так как, кроме обычных гостинцев всем детям, которых было около 350 человек, очень многим из них как беднякам были даны весьма существенные подарки вроде платьев, рубашек, сапогов и т. п.
Детский праздник почтили своим посещением Преосвященнейший Владыка Анастасий, г. Управляющий губерниею, Вице-губернатор К. С. Старынкевич, ректор семинарии, г. начальник Олонецких горных заводов И. С. Яхонтов, председатель земской управы И. Г. Лазук, секретарь консистории и многие другие.
Праздник можно считать вполне удавшимся» [6].
Следует подчеркнуть, что и эта елка, как и многое другое, проводимое по инициативе церкви, опиралась на своеобразное меценатство со стороны тех, кто обладал необходимыми средствами и был готов пожертвовать часть из них на доброе дело. Именно в этом смысле приковывает внимание та материальная помощь, которая оказывалась церковно-приходским школам, причем не только со стороны отдельных богатых людей, прежде всего купцов, но и всего земства. Известно, например, что в 1901 году очередное Олонецкое губернское земское собрание ассигновало в качестве пособия на нужды церковно-приходских школ более пяти тысяч рублей. По тем временам это были большие деньги, что особенно существенно, если учесть, что такие ассигнования делались ежегодно. Поэтому совершенно естественно то, что Олонецкий Епархиальный Училищный Совет счел долгом выразить губернскому земскому собранию благодарность за назначение упомянутого пособия церковным школам Олонецкой епархии.
Многое, конечно, зависело и от практической деятельности руководителей епархии. В частности, немало благодарностей было адресовано епископу Мисаилу. В посвященной ему книге «25-летие служения в епископском сане Преосвященного Мисаила, Епископа Олонецкого и Петрозаводского» говорилось: «В нашей Олонецкой епархии Вы епископствуете еще только два года. Но уже в это время Вы успели во время летних поездок ознакомиться со многими приходами, монастырями, с положением духовенства и с религиозно-нравственным состоянием мирян, так что можете судить о состоянии епархии не по одним только бумагам, но и на основании своих личных наблюдений».
И далее: «Но предметом особых попечений Ваших всегда были вдовые, сирые, бедные, голодные и обездоленные судьбой. Вами устроена при Архиерейском доме и отчасти на Ваши средства содержится бесплатная столовая, которая питает всех неимущих, немощных без различия, и о которой здесь засвидетельствовано как о явлении, небывалом в летописях г. Петрозаводска» [7].
Если учесть, что олонецкая миссия Мисаила относится к сложному времени (1905–1908 гг.), то нельзя не отнестись с определенным уважением к этим свидетельствам.
В своей практической деятельности владыки Олонецкой епархии и все их окружение стремились постоянно поддерживать связи со светскими властями, с руководителями горных заводов, с широкими слоями купечества и обеспеченного крестьянства. Это объяснялось не только и не столько тем, что церковь рассчитывала на материальную поддержку и получала ее, но и тем, что таким образом все перечисленные выше привлекались к укреплению связей между церковью и широкими массами населения.
Характернейшим примером служит история организации в 90-е годы так называемого Алек-сандро-Свирского братства, которое получило свое название от св. Александра Свирского чудотворца, имя которого носил один из крупнейших монастырей Олонецкой губернии. Чрезвычайно показателен состав Главного совета Александро-Свирского братства, данные о котором относятся к 1902 году. Входившим в совет попечителем братства являлся епископ Олонецкий и Петрозаводский Анастасий, председателем совета братства – ректор семинарии архимандрит Нафанаил. Почетными членами были тогдашние председатель Олонецкой губернской земской управы и председатель Петрозаводского уездного съезда. Членами совета – директор Олонецкой губернской гимназии, управляющий государственными имуществами Олонецкой губернии, губернский врачебный инспектор, губернский архитектор, кафедральный протоиерей – настоятель собора, законодатель и инспектор классов Олонецкого епархиального женского училища, директор народных училищ Олонецкой губернии и ряд представителей церкви.
В число почетных членов, кроме того, входили: олонецкий губернатор, действительный статский советник В. А. Левашов, крупнейший петрозаводский предприниматель, потомственный почетный гражданин М. Н. Пикин, пудожский купец М. И. Плоскирев, торгующий крестьянин И. В. Распутин (он же и попечитель братской воскресной школы), торгующий крестьянин М. И. Оленев, олонецкий купец В. Е. Куттуев, пудожский 1-й гильдии купец Н. А. Базегский, лодейнопольский купец И. И. Корнышев и ряд других петрозаводских и вытегорских купцов и торгующих крестьян.
Здесь не приведены имена деятелей церкви, занимавших официальные посты в братстве, и даже архиепископа Ионафана и епископа Назария. Суть этого перечисления фамилий и должностей состоит в том, что состав членов совета непосредственно свидетельствует о стремлении духовенства епархии объединить вокруг себя всех сильных мира сего, на которых можно положиться и от которых можно многого ожидать. А ведь был еще состав так называемых пожизненных членов братства, в числе которых наряду с игуменами – статские советники, камер-юнкеры, купцы…
Организационные мероприятия сочетались с культурно-просветительными, неизменно проводившимися на религиозно-церковной основе. К их числу, прежде всего, надо отнести религиознонравственные чтения, проводившиеся с 24 сентября 1900 года по воскресным и праздничным дням. Проходили они в Братском Назариевском доме.
«Выработана была программа религиознонравственных чтений, – писал в „Олонецких епархиальных ведомостях“ член комиссии по организации чтений, преподаватель духовной семинарии В. И. Крылов. – Каждое чтение, по постановлению комиссии и с утверждения его преосвященства (Назария. – М. Б.) должно состоять из трех отделений: 1) из объяснения воскресного или праздничного евангельского чтения; 2) из религиозно-нравственного чтения на какую-либо божественную или церковноисторическую тему, причем чтения могли быть и самостоятельного характера, т. е. составленные самими лекторами, и несамостоятельного характера, т. е. чтения по книжке на темы, предложенные или самими лекторами, с разрешения Председателя комиссии и ведома заведующего, или избранные заведующим чтениями (таковым состоял автор цитируемого текста В. И. Крылов. – М. Б.) и 3) из какого-либо поучительного рассказа или стихотворения религиозно-нравственного содержания. Нужно, впрочем, заметить, что намеченная программа не всегда обязательно выполнялась: по разным причинам и по независящим от устроителей чтений обстоятельствам бывали некоторые отступления от намеченной программы – иногда, например, не объяснялось праздничное или воскресное евангелие, а иногда предлагалось чтение исключительно из Отечественной истории.
Всех чтений в отчетном году было 29.
Само стоятельных чтений, т. е. составленных самими лекторами на различные темы религиозно-нравственного содержания, предложено было – 13…»
Далее автор сообщает некоторые подробности: «Чтения сопровождались пением разных церковных песнопений, исполнявшихся некоторое время специально организованным для религиозно-нравственных чтений под руководством В. П. Семенова и Д. П. Островского „Любительским братским хором“… Потом на нескольких чтениях было общее пение всех собравшихся слушателей… Большею же частью пели архиерейский и семинарский хоры певчих и несколько раз хор воспитанниц Епархиального женского училища. Исполнялись преимущественно церковные песнопения, а иногда пелись гимны.
Чтения несомненно имели успех, ибо обширный зал Братского дома был всегда полон, и на многих чтениях так переполнен, что дышать было очень трудно. Но какие чтения более нравились посетителям – трудно с точностью определить. Кажется, с большим вниманием слушались рассказы из разных сборников и производили большее впечатление. При чтении некоторых рассказов, например, „Слезы сиротские вопиют к небу“, и стихотворений, например, „Иоанн Да-маскин“ и других многие из посетителей плакали. Справедливость требует еще отметить, что некоторые из чтений самостоятельного характера слушались с большим интересом, вызывали оживленный обмен мнений» [8].
Здесь не приводится список конкретных чтений, но стоит подчеркнуть, что почти все они носили религиозный характер по тематике, да и литературные произведения, о которых сказано выше – тоже. Однако стоит напомнить, что вызвавшая благодарные слезы слушателей поэма А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» в течение длительного времени была источником непримиримого конфликта между министерством просвещения и Третьим отделением, которое через своих цензоров пыталось ее запретить. Сложность и разнообразие религиозной тематики чтений свидетельствует о том, что вопросы богословия были родной стихией для петрозаводского духовенства, а многочисленность аудитории – об очевидном интересе населения к этому регулярно проводившемуся мероприятию.
Через двадцать два года после организации Братства, в 1914 году вышла книга «Александро-Свирское Братство в 1911–1913 годах», в которой наряду с данными, относящимися к этому периоду, дается характеристика всей деятельности Братства, ставшего формой организации религиозного «актива» епархии. Далее излагаются основные положения его устава: «Александро-Свирское Братство открыто 9 февраля 1892 года. Главным предметом его деятельности на первых порах существования были церковные школы, которые до 1895 года находились даже и в адми- нистративном заведовании Братства. Вместе с тем, как и тогда, так – особенно – в последующее время – Братство несло заботу о распространении в народе книг и брошюр религиознонравственного содержания, об устройстве чтений такого же содержания, о содействии успехам Олонецкой противораскольнической миссии. Но, по-прежнему, значительная часть Братских средств уходила на церковно-школьное дело. В 1908 году при участии тогдашнего Олонецкого Архипастыря, Преосвященнейшего Мисаила, был выработан новый устав, который и введен в действие после бывшего 11 марта 1908 года общего собрания Братства. По нынешнему уставу, у Александро-Свирского Братства главная цель деятельности – религиозно-просветительская. Соответственно этой цели, в круг деятельности Братства входит: 1) устройство внебого-служебных бесед, назидательных чтений для разных классов населения, духовных концертов и народных читален, как непосредственно самим Братством, так и содействие в этом духовенству и школам путем снабжения их книгами, брошюрами, листками и указаниями; 2) содействие миссионерам при обращении заблудших в лоно Православной церкви чрез снабжение их книгами, оказание денежной помощи при устройстве миссионерских курсов и привлечение к миссионерской деятельности ревнителей веры из мирян; 3) устройство складов и распространение чрез книгонош книг, брошюр, икон, крестиков и картин религиозно-нравственного содержания и различных церковно-богослужебных принадлежностей для более удобного приобретения их духовенством и населением; 4) забота о поддержании памятников церковной старины» [9].
Членов Братства было до 850 человек. В него входили все священнослужители епархии, по § 11 устава являвшиеся непременными членами Братства: 394 священника, 103 диакона, 243 псаломщика. Что касается остальных, то их место в системе Братства определялось размерами взноса: 50 рублей для пожизненных членов, 3 рубля для действительных членов и от 50 копеек до 1 рубля для членов-соревнователей. Последние две категории, чтобы сохраниться в членах Братства, должны были повторять свои взносы ежегодно. И вот еще любопытная деталь: членами-соревнователями, оказывается, могли быть лица «неправославного вероисповедания». Конечно, это было не случайно, являлось одним из способов вовлечения их в православие. Все действительные члены Братства по уставу участвуют с правом голоса в общих собраниях и могут быть избираемы в должности по делам Братства.
Изложение было бы неполным без более подробного описания функций Братского Дома, ставшего центром всей общественной практики религиозных кругов. В книге говорится: «С 1900 года Братство имеет в г. Петрозаводске свой дом под названием Назариевского, как устроенный по мысли и при содействии Высокопреосвященного Назария, Архиепископа Херсонского, в бытность его Епископом на Олонецкой кафедре. Главное назначение этого дома – устройство в нем религиозно-нравственных чтений. Но в то же время он служил и служит многим и другим целям и нуждам. Здесь помещаются библиотеки: епархиальная миссионерская, церковно-учительская, собственно Братская, Карельского Братства, Палестинского общества. Некоторое время в доме была библиотека-читальня гимназического Александро-Невского Братства с канцелярией его и производилось регистрирование учеников гимназии. Тут же, в Братском доме, находятся два музея – церковно-школьный и с предметами Олонецкой церковной старины, в свое время помещались здесь две школы – постоянная и воскресная; устраивались временные педагогические курсы для учащих церковных школ и курсы миссионерские; была художественно-бытовая выставка, устроенная высшим кругом светской интеллигенции; производились выборы в Государственную Думу. – Съезды духовенства, миссионерские, наблюдательские; собрания Епархиального Училищного совета и Петрозаводского Уездного Отделения его (у первого здесь и архив с канцелярией, у второго книжный склад), Совета Александро-Свирского Братства, Карельского Братства, Палестинского Отдела, Миссионерского Комитета и разных светских учреждений и обществ, чтения Попечительства о народной трезвости, палестинские и иные; популярные лекции от Петрозаводского общества распространения образования; концерты гимназические – Александро-Невского братства и разных благотворительных и просветительных учреждений; юбилейные и прощальные чествования; наконец, в последнее время, лекции для полицейских стражников – все это имело и имеет место для себя в Братском доме» [10].
Из приведенного текста видно, что борьба с расколом, хотя и стала менее интенсивной и более гибкой, все еще приковывала к себе внимание официальной церкви. Но появились у нее и новые заботы. Свидетельство этому – книга «25-летие служения в епископском сане Преосвященного Мисаила, Епископа Олонецкого и Петрозаводского», выпущенная в 1908 году. Среди многих заслуг епископа перед православием упоминается и такая, весьма своеобразная: «При Вас, при Вашем полном сочувствии и деятельнейшей поддержке, учреждено Православное Карельское Братство и Вами лично открыто в Петрозаводске Олонецкое отделение его, поставившее себе задачей охранять от врагов православия и русской государственности в Олонецкой епархии целую окраину, ее так называемую Олонецкую Карелию, которой вместе с другими – Финляндской и Архангельской Карелиями – грозит опасность панфинско-лютеранской пропаганды, и утверждать среди православных карел русские церковные и народные начала» [11].
Одним словом, получается так – из беспоповцев в ортодоксальные приверженцы церковной иерархии, из лютеран – в православные. Все это имело место в те годы в России, и особенно в Олонецкой губернии, хотя в большинстве стран Европы в то время уже взяла верх религиозная терпимость. И все же к чести руководителей епархии и, в частности, Мисаила следует отнести то, что в своих стремлениях они руководствовались лишь организационными и пропагандистскими мерами. И хотя отличившимся членам Православного Карельского Братства по указу царя выдавались специальные нагрудные знаки, насилия и принуждения здесь, в основном, не было.
Олонецкая епархия, как, впрочем, и вся русская православная церковь, постоянно направляла свои взгляды к святым местам – Палестине и Иерусалиму – куда систематически выезжали паломники и из Олонецкой губернии. В этой связи уместно привести письмо, адресованное в 1904 году епископу Олонецкому и Петрозаводскому Анастасию дядей царя великим князем Сергеем Александровичем: «Преосвященный Владыко! Считаю приятным долгом выразить Вашему Преосвященству мою глубокую благодарность как за вполне успешное руководительство действиями состоящего под Вашим Архипастырским председательством Олонецкого отдела Палестинского общества в истекшем 1903–1904 году, так и за благопопечительное внимание и сочувствие, с которыми Вы изволили отнестись к Обществу в годину ниспосланного нашей дорогой родине испытания, своевременно приняв меры к производству в 1904 году в церквях вверенной Вам Олонецкой епархии тарелочного сбора на нужды православных в Иерусалиме и Святой Земле» [12].
Чем же объясняется такое внимание великого князя к тем, кто оказывает содействие Палестинскому обществу именно в этот период? Ответ содержится в самом письме, где речь идет о «године ниспосланного нашей дорогой родине испытания». Здесь имеется в виду, конечно, русско-японская война.
Несомненно далеко идущие цели ставились и перед созданным в 1912 году Олонецким Епархиальным историко-археологическим Комитетом, которому предстояло провести большую работу по сбору и сбережению памятников старины, имеющих крупное историческое и художественное значение. Сохранился документ, имеющий прямое отношение к организации этого дела. Речь идет об указе Олонецкой духовной консистории от 28 февраля 1912 года за № 1694, в котором сообщено предложение епископа Никанора от 25 февраля того же года за № 829. В тексте говорится: «В видах прочности и активности Олонецкого епархиального археологического комитета предлагаю пополнить его членами по должности: а) членом Консистории, заведующим строением храмов; б) секретарем консистории; в) преподавателем литургии; г) смотрителем духовного училища; д) епархиальным наблюдателем церковных школ и е) епархиальным миссионером. 2) В собраниях Комитета, по его приглашению всегда желательны в качестве почетных членов собраний: начальник губернии и его помощник, Преосвященные, Ректор семинарии, кафедральный протоиерей, а также лица, имеющие в своем распоряжении музеи или исторические коллекции, например, настоятели монастырей и пр.» [13].
На собрании Комитета, состоявшемся в Братском Назариевском доме, во исполнение этих пожеланий было признано необходимым «сосредоточить дело регистрации, хранения и описания предметов старины в духовном ведомстве, тем более, что и первоначальное сбережение этих предметов нужно отнести к заслуге духовенства. Преосвященнейший Владыка Никанор заявил, что он лично признал бы целесообразным иметь одно объединенное древлехранилище с двумя отделениями – церковным и гражданским. В виду этого найдено уместным просить подлежащую гражданскую власть о передаче в ведение историко-археологического Комитета имеющихся у нее предметов старины.
За сим разбирался вопрос о регистрации и описании церквей и часовен в Олонецкой епархии и постановлено: 1) просить в этом содействия отцов благочинных, 2) предоставить каждому члену Комитета внести как в это, так и вообще во все археологическое дело свой посильный труд – чрез разного рода услуги, чрез доклады, описания, снимки и проч., располагая полным содействием Комитета; 3) составить особенно подробное описание тех церквей, часовен, крестов, которые стоят на месте бывших Олонецких монастырей, в свое время многочисленных и 4) собравши сначала весь отдельный статистический, исторический и прочий, нужный для археологического дела материал, разобрать, систематизировать и объединить его» [14].
Приведенные выше факты о деятельности комитета, возглавляемого священником Д. Островским, проявившим себя и широтой взглядов, и миссионерской деятельностью, и публицистическими работами (статьи, книги) свидетельствуют о том, что в Петрозаводском уезде церковью проводилась позитивная работа, ставящая целью своей сохранить для будущих поколений реликвии прошлого.
Именно тот же Д. Островский из номера в номер писал в «Олонецких епархиальных ведомостях», как и за счет чего пополнялось и из чего состояло Олонецкое Епархиальное Церковное Древлехранилище. Любопытно, что и тут автор счел возможным возвратиться к теме Выгореции. Он писал: «Из других икон, находящихся в древлехранилище, заслуживают внимания иконы, писанные рукою выговских старообрядческих мастеров. Их имеется до 10-ти. Иконы эти можно назвать образчиками иконопи- си нашей северной поморской иконописной, к сожалению, старообрядческой школы. Известно, что в Выговском старообрядческом монастыре, бывшем в Повенецком уезде, иконописное дело в XVIII в. было в цветущем состоянии. Впрочем, Выгореция того времени и во многих других отношениях была выдающимся центром старообрядчества, влияющим не только на Олонецких старообрядцев, но и на старообрядческий мир всей России. Имеющиеся в древлехранилище иконы и являются образчиками работ Выговской иконописной школы. В древлехранилище иконы переданы из кладовой Петрозаводского кафедрального собора, а сюда они попали, надо полагать, в 1854–1855 гг. – в то самое время, когда по Высочайшему повелению закрывались Выговские монастыри, а часть имущества их передана была собору. Иконы принадлежали даниловскому большаку или настоятелю Степану Иванову. Об этом гласит имеющаяся на обороте надпись на бумажной наклейке, сделанная неизвестным составителем описи: «из моленной даниловского большака Степана Иванова». Вы-говские иконы писаны на досках с выемкою, на каких обычно писали свои иконы древнерусские иконописцы. На некоторые доски наложен холст, затем алебастр и затем уже самое изображение, в большинстве, на позолоченном или желтом (от вохры) фоне. На других досках холста нет, а изображения сделаны прямо на алебастре».
Однако, как бы спохватившись, автор вдруг делает недоказанный вывод о том, что «на основании имеющихся образчиков нельзя сказать, чтобы работы выговских иконописцев отличались художественностью», и противопоставляет им в качестве образца иконы школы Симона Ушакова (XVII в.), которые, в сущности, знаменовали собой кризис и разложение древнерусского искусства посредством усвоения чуждых ему реалистических тенденций. Выговская иконописная школа следовала глубинным традициям древнерусского искусства, традициям Андрея Рублева и Феофана Грека. И, конечно, Д. Островский это понимал, о чем свидетельствуют следующие строки этой публикации: «Но в то же время надо заметить, что работа их (вы-говцев. – М. Б.), несомненно выше многих работ современных нам владимировцев – разных па-леховцев и мстерцев, столь широко распространяющих свои произведения в народе» [15].
Как бы там ни было, Олонецкое Епархиальное Церковное Древлехранилище самим фактом своего существования показывает, что и в 1913 году в Олонецкой епархии стремились бережно хранить реликвии прошлого.
Характерным для руководства епархии было стремление на основе помощи богатых доброхотов (а купцов в Олонии было много) к строительству церквей и других объектов религиозного назначения. Еще архиепископ Игнатий (1828– 1842 гг.) ознаменовал свое управление возведением до сорока новых каменных и деревянных церквей. Активно занимались этим и его поздние преемники. Например, в целое торжество вылилось открытие и освящение церкви в деревне (селе) Ватчела Петрозаводского уезда в 1912 году. Это стало общеепархиальным событием, о чем «Олонецкие епархиальные ведомости» писали так:
«Скоро стало известно, что Владыка днем освящения храма назначает 4 марта и намерен сам прибыть.
3 марта, к 12 ч. дня, в деревню Ватчелу прибыло окружное духовенство из шести приходов… В ожидании Владыки пропеты были некоторые песнопения из чина освящения храма, всенощного бдения и литургии. Около пяти часов вечера послышались колокольчики… показался поезд… духовенство и народ высыпали на улицу встречать Владыку.
Когда тройка сытых, лучших, конечно, лошадей торжественно въехала в деревню и остановилась у предназначенного для Владыки, украшенного национальными флагами дома и Владыка изволил выйти из повозки, духовенство во глазе с о. Благочинным Иоанном Успенским, ученики Вахтозерского министерского училища под управлением г. учителя И. А. Харитонова, дружно и громко пропели „ис-полла“…
Преподав общее благословение, благословив о.о. иереев и облобызав каждого из них, Владыка вступил на крыльцо, где встретил Его хозяин дома, местный церковный староста, крестьянин Василий Назаров и приветствовал его хлебом и солью и низким поклоном.
Войдя в дом, Владыка изволил с дороги выкушать стакан чая и, сделав предварительные к службе распоряжения, велел звонить ко всенощной. Встреченный по обычаю в храме со св. крестом местным священником о. Василием Соколиным и приложившись ко кресту, Владыка прошел чрез царские двери в алтарь. Получив Архипастырское благословение, о. Василий Соколин начал служение всенощной. За порядком службы следил сам Владыка» [16].
Та приподнятость описания, которая характерна для этой заметки, свидетельствует о стремлении показать освящение церкви и присутствие на нем владыки как крупное событие. Надо полагать, что оно и было в тогдашних условиях крупным событием. Новая церковь в деревне! Что же касается таких деталей, казалось бы, не имеющих отношения к делу и носящих прозаический характер, как, например, информация о том, что владыка «выкушал стакан чая», то и это как бы сближало его с повседневной жизнью и бытом приходских крестьян (тем более, что и остановился он в крестьянском доме, к которому, однако, подъехал на звенящей бубенцами тройке «сытых, лучших лошадей»).
Жизнь епархии протекала по определенному, десятилетиями установившемуся порядку, к которому привыкли прихожане, что создавало условия для серьезного влияния церкви на об- щество. При всем этом происходили события выдающиеся, знаменующие собой новый этап церковной деятельности. Таким этапом в 1912 году было приглашение епархиального владыки просвященнейшего Никанора согласно воле царя в г. Петербург для присутствия на летней сессии Святейшего Синода. Событием это стало в связи с тем, что в последний раз олонецкий владыка получал такое приглашение за полвека до этого. Тогда приглашенным был архиепископ Аркадий, чьи заслуги в преодолении влияния раскола высоко оценивались в правительственных и церковных кругах. Чем же объяснить новое приглашение через пятьдесят лет, когда уже несколько лет имело место терпимое отношение к старообрядцам? По-видимому, на этот раз были другие причины, например, возросшая роль Олонецкой губернии в экономике России, да и активность местного духовенства.
В связи с готовящимся отъездом владыки в Петрозаводском уезде и за его пределами состоялось много мероприятий богослужебного и иного характера. Вот как об этом писали «Олонецкие епархиальные ведомости»: «6 мая наш Епархиальный Владыка Преосвященней-ший Никанор в виду предстоящего отъезда своего на довольно продолжительное время (месяца на 3–4) изволил в кафедральном соборе церковно прощаться с своею паствою. После торжественного служения, положенного на 6 мая, Владыка обратился к предстоящим, городскому духовенству, представителям гражданской власти во главе с временно управляющим губернией, к учащим и учащимся и другим богомольцам с сердечным прощальным словом. Владыка трогательно и поучительно говорил о связи с паствою, о любви к ней, просил не нарушать установившегося порядка, уклада в церквах и вне их, взаимности молитв, прощении обид, выражал искренние благожелания всем…»
В этом тексте есть немало примечательного: и упоминание владыкой о необходимости поддержания установившегося порядка, уклада в церквах и вне их, и присутствие на церемонии руководителей губернии во главе с временно управляющим ею, а также «учащих и учащихся».
Этим торжественным служением не ограничились предотъездные мероприятия. Далее газета писала:
«С мая вечером Владыка совершил в соборе торжественную вечерню и молебен св. Иоасафу с общенародным пением.
8 мая в духовной семинарии Владыка служил литургию, молебен и умилительно говорил праздничное слово учащим и учащимся. В этот же день Владыка был на выпускном экзамене в мужской гимназии и говорил отеческое напутствие учащимся. Вечером 8-го Владыкой совершено было в Крестовой церкви торжественное бдение Св. Николаю. 9 мая литургию и молебен Владыка совершил в Александро-Невской церкви. 10 мая Преосвященный Владыка среди хло- потливых сборов не опускал посещать экзамены в разных учебных учреждениях Петрозаводска. Утром его Преосвященством посещены были все классы духовной семинарии и снова преподано учащим и учащимся отеческое наставление и утешение. Кроме того, Владыка изволил посетить и напутствовать Архипастырским словом назидания и любви учащих в епархиальном женском и мужском духовных училищах, в двухклассном женском и мужском городских училищах, в образцовой школе и др.»
На этот раз стоит особо отметить наличие в тексте такой детали, как присутствие владыки не только на выпускном экзамене в гимназии, но и в ряде других учебных заведений, прежде всего церковных.
Статья завершается развернутой картиной проводов и отъезда епископа. 11 мая «в 12-м часу в покои Преосвященнейшего владыки собрались о. Ректор семинарии, секретарь и протоиереи члены Консистории, смотритель духовного училища и его помощник, ключарь собора, преподаватель семинарии иеромонах Иоанн, иеромонахи Крестовой церкви и пр. В 12 час. Владыка с немногими спутниками при торжественном колокольном звоне и теплых благожела-ниях и пении „исполла“ провожавшими выехал в Александро-Свирский монастырь и далее в С-Петербург» [17].
Можно себе представить, что все эти церковные церемонии в тогда еще небольшом, малонаселенном Петрозаводске привлекали к себе всеобщее внимание и служили основным целям церкви – усилению своего влияния на паству. Надо иметь в виду, что в течение всего этого предотъездного времени проводился целый ряд молебнов в церквах Петрозаводского уезда, на которых присутствовали тысячи людей.
Естественно, в течение всего периода пребывания епископа Никанора в Петербурге олонецкая пресса подробно сообщала обо всех синодальных мероприятиях, в которых принимал участие владыка. Особое внимание было уделено тому, что «Владыка, вместе с прочими синодальными иерархами, удостоился приема государем императором в Петергофском дворце». Рассказывалось и о том, что «Владыка молился за литургией Зимнего дворца с народом», что «он вечером участвовал в Синодальном (особом) заседании в доме на Литейном, 62», что «на подворье совершал раннюю литургию, посвятив в диаконы учите- ля В. Тервинского», что вместе с прочими иерархами участвовал в крестном ходе из Казанского собора к Зимнему дворцу и в совершении молебна по случаю 100-летия Бородинской битвы», что «вместе с прочими иерархами Владыка совершал крестный ход в Александро-Невской лавре и молебен у раки сего Князя. По литургии была парадная трапеза в покоях Высокопреосвященного священника – архимандрита лавры» [18]. И так день за днем, час за часом. Во всем этом просматривалось стремление духовенства активно привлекать массы населения к духовным ценностям в церковном их понимании. Естественно, предполагалось, что все эти торжественнорелигиозные церемонии получат отклик на местах, в епархиях. По всей видимости, так оно и происходило, например, в той же Олонецкой епархии и во время пребывания епископа Никанора в Петербурге, и после его возвращения.
Большую роль в жизни города и в распространении религиозных истин играла Олонецкая духовная семинария, располагавшаяся в здании, которое считалось одним из лучших в Петрозаводске. Во главе семинарии с 1898 по 1902 год стоял архимандрит Нафанаил, отличавшийся большими организационными способностями и умевший продуктивно строить отношения не только с духовной, но и со светской властью. В повседневной жизни семинарии большую роль играли не только обычные, свойственные этому учебному заведению занятия, но и участие семинаристов в мероприятиях Братского Назариевско-го дома, в его хоре, религиозно-нравственных чтениях, «живое проповедывание слова божьего» в городских церквах, не говоря уже о литературно-музыкальных вечерах в самой семинарии. По мнению местного духовенства, весьма полезными были выступления учащихся семинарии в городской тюрьме и местной казарме.
Руководитель семинарии и его помощники при содействии епархиального руководства и местных властей не только усовершенствовали здание самой семинарии, но и позаботились о том, чтобы были возведены иные здания – для церковно-приходской школы (считавшейся образцовой) и для местной больницы. При этом благодаря большой экономии и сбережению средств при строительстве удалось обратить часть сумм, которые были выделены, на улучшение быта и питания семинаристов, на приобретение новых парт, шкафов и иной мебели.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Никольский Н. М. История русской церкви. M. 1985. С. 404.
-
2. Памятная книжка Олонецкой губернии на 1902 год. Петрозаводск. 1902. С. 225–226.
-
3. Там же. С. 225.
-
4. Ягодкин Д. О любви к творению Божию // Олонецкие епархиальные ведомости. 1905. № 4. С.109.
-
5. Елка в Назариевском доме для учащихся церковных школ г. Петрозаводска. Олонецкие епархиальные ведомости. 1902. № 2. С. 80.
-
6. 25-летие служения в епископском сане Преосвященного Мисаила, Епископа Олонецкого и Петрозаводского. Петрозаводск. 1908. С. 5, 9.
-
7. Крылов В. Религиозно-нравственные чтения в Братском Назариевском доме г. Петрозаводска в 1900–1901 году // Олонецкие епархиальные ведомости. 1902. № 1. С. 19–22.
-
8. Александро-Свирское Братство Олонецкой епархии в 1911–1913 годах. Петрозаводск. 1914. С. 3, 4.
-
9. Там же. С. 8, 9.
-
10. 25-летие служения в епископском сане Преосвященного Мисаила, Епископа Олонецкого и Петрозаводского. Петрозаводск. 1908. С. 9.
-
11. Рескрипт Его Императорского Высочества, Великого Князя Сергия Александровича… // Олонецкие епархиальные ведомости. 1905. № 4. С. 105.
-
12. Второе заседание Олонецкого Епархиального историко-археологического Комитета // Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 18. С. 317.
-
13. Там же.
-
14. Островский Д. Краткое описание церковных древностей Олонецкого Епархиального Церковного Древлехранилица. Иконы // Олонецкие епархиальные ведомости. 1913. № 2. С. 26, 27.
-
15. Духовное торжество в селе Ватчеле Петрозаводского уезда 4 марта 1912 г. // Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 14. С. 257–258.
-
16. Отъезд в С-Петербург для присутствования в Св. Синоде Его Преосвященства, Преосвященнейшего Никанора, епископа Олонецкого и Петрозаводского // Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 15. С. 275–277.
-
17. Служения Епархиального Преосвященного // Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 29. С. 498.
Список литературы Олонецкая епархия в конце XIX - начале XX века: жизнь духовенства
- Никольский Н. М. История русской церкви. M. 1985. С. 404.
- Памятная книжка Олонецкой губернии на 1902 год. Петрозаводск. 1902. С. 225-226.
- Там же. С. 225.
- Ягодкин Д. О любви к творению Божию//Олонецкие епархиальные ведомости. 1905. № 4. С.109.
- Елка в Назариевском доме для учащихся церковных школ г. Петрозаводска. Олонецкие епархиальные ведомости. 1902. № 2. С. 80.
- 25-летие служения в епископском сане Преосвященного Мисаила, Епископа Олонецкого и Петрозаводского. Петрозаводск. 1908. С. 5, 9.
- Крылов В. Религиозно-нравственные чтения в Братском Назариевском доме г. Петрозаводска в 1900-1901 году//Олонецкие епархиальные ведомости. 1902. № 1. С. 19-22.
- Александро-Свирское Братство Олонецкой епархии в 1911-1913 годах. Петрозаводск. 1914. С. 3, 4.
- Там же. С. 8, 9.
- 25-летие служения в епископском сане Преосвященного Мисаила, Епископа Олонецкого и Петрозаводского. Петрозаводск. 1908. С. 9.
- Рескрипт Его Императорского Высочества, Великого Князя Сергия Александровича.//Олонецкие епархиальные ведомости. 1905. № 4. С. 105.
- Второе заседание Олонецкого Епархиального историко-археологического Комитета//Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 18. С. 317.
- Островский Д. Краткое описание церковных древностей Олонецкого Епархиального Церковного Древлехранилица. Иконы//Олонецкие епархиальные ведомости. 1913. № 2. С. 26, 27.
- Духовное торжество в селе Ватчеле Петрозаводского уезда 4 марта 1912 г.//Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 14. С. 257-258.
- Отъезд в С-Петербург для присутствования в Св. Синоде Его Преосвященства, Преосвященнейшего Никанора, епископа Олонецкого и Петрозаводского//Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 15. С. 275-277.
- Служения Епархиального Преосвященного//Олонецкие епархиальные ведомости. 1912. № 29. С. 498.