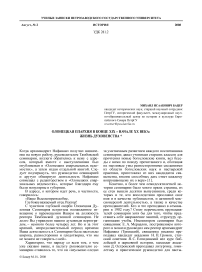Олонецкая епархия в конце XIX - начале XX века: жизнь духовенства
Автор: Бацер Михаил Исаакович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14749419
IDR: 14749419 | УДК: 281.2
Текст статьи Олонецкая епархия в конце XIX - начале XX века: жизнь духовенства
Когда архимандрит Нафанаил получил назначение на новую работу, руководителем Тамбовской семинарии, коллеги обратились к нему с адресом, который вместе с выступлениями был опубликован в «Олонецких епархиальных ведомостях», а затем издан отдельной книгой. Следует подчеркнуть, что руководство семинарией и другую обширную деятельность Нафанаил совмещал с редакторством в «Олонецких епархиальных ведомостях», которые благодаря ему были популярны в губернии.
В адресе, о котором идет речь, в частности, говорилось:
«Ваше Высокопреподобие, Глубокоуважаемый отец Ректор!
С чувством глубокой скорби Олонецкая Духовная Семинария встретила неожиданное извещение о перемещении Вашем на должность ректора Тамбовской духовной семинарии. Не долго Вы управляли нашим духовным вертоградом, - немного более четырех лет. Но и за этот краткий, непродолжительный период времени Ваша деятельность в Семинарии была настолько широка, разностороння и плодотворна, что мы не можем не говорить о ней».
Характерно, что наряду со всем тем, о чем уже сказано выше, в заслугу руководителю семинарии ставилось то, что он «неусыпно следил за умственным развитием каждого воспитанника семинарии; давал ученикам старших классов для прочтения новые богословские книги, вел беседы с ними по поводу прочитанного и, обогащая их пытливые умы разносторонними сведениями из области богословских наук и пастырской практики, приготовлял из них кандидатов священства, вполне способных дать ответ каждому вопрошающему их о вере» [1].
Конечно, в более чем семидесятилетней истории семинарии было много ярких страниц, из ее стен вышли десятки выпускников, среди которых и те, кто впоследствии прославил свое имя и в качестве публицистов, и активной миссионерской деятельностью, а также в качестве преподавателей. Кто и что преподавал в семинарии в 1902 году? Стоит перечислить преподавателей семинарии хотя бы для того, чтобы представить себе направление занятий, структуру организации учебы. Инспектором семинарии был священник Е. А. Мерцалов, пострижением которого в монахи руководил сам ректор архимандрит Нафанаил (Троицкий), священное писание преподавал кандидат академии Н. П. Громов, статский советник Я. С. Елпидинский вел курс библейской и церковной истории, кандидат академии Д. Островский преподавал литургику, гомилетику и практическое руководство для пасты- рей. Был и такой курс: «Обличительное богословие и история и обличение русского раскола». Этот курс вел кандидат академии В. И. Крылов. Была в программе семинарии и словесность (наряду с историей русской литературы). Ее вел кандидат академии П. К. Мягков. Гражданскую историю преподавал статский советник Д. П. Ягодкин (тот самый, стихи которого цитировались в первой части нашей статьи). Философские науки и дидактику вел надворный советник С. А. Левитский. Стоит сказать и о том, что в программе был такой предмет, как иконопись, специалистом по которой считался иеромонах Лука (Богданов). В штате семинарии были также врач, духовник и эконом. Всеми хозяйственными делами ведал «почетный блюститель по хозяйственной части» петрозаводский 2-й гильдии купец Ф. И. Тихонов.
Рассматриваемый период был достаточно сложным во всех отношениях, если учесть, что он включает в себя Русско-японскую войну, революцию 1905–1907 годов, Первую мировую войну и события 1917 года.
В первой части статьи мы уже упоминали о письме великого князя Сергея Александровича и его ссылке на «годину испытания». Не будет преувеличением сказать, что взоры всей олонецкой православной общины были в этот период прикованы к полям сражений, к Порт-Артуру, к волнам дальневосточных морей. Характерно, что в своих проповедях иереи проклинали японскую сторону конфликта, подчеркивая при этом, что русская армия будто бы ведет бой прежде всего за православную церковь, за идеалы всего христианства.
Прямое отношение к этим событиям имеет слово, произнесенное на Рождество Христово в церкви Олонецкой Духовной Семинарии тогдашним ректором семинарии архимандритом Фаддеем. Это, как говорится, документ эпохи. Архимандрит сказал:
«…Теперь вместо прежних учителей французов, называвшихся еще христианским именем, мы видели учителями своими прямо язычников-японцев. Не для того ли случилось нападение на нас этих язычников, чтобы мы более научились ценить Христа и покаялись в неправдах наших, приближающих жизнь нашу к языческой? Не для того ли узнали мы о величайших несчастьях на войне, о гибели броненосца “Петропавловска” с славным адмиралом Макаровым и теперь о падении Порт-Артура именно в дни величайших праздников Христовых – Воскресения Христова и Рождества, чтобы научились мы не надеяться исключительно на силу свою, но вспомнили, наконец, о Христе, обратились к нему искренно, всем сердцем? Вместо христианства большинство из нас, особенно из образованных людей, стремится к т. н. культуре, под которой весьма часто разумеется покой и довольство плотской жизни, обеспечиваемые знанием человеческим, если же и разумеются иногда сокровища духа, например, искусство, стремление к правде и т. п., то – составляющие плод плотского ума. Многие ли из современных христиан помышляют о культуре самого духа по заповедям Христовым, о восстановлении в нем образа и подобия Божия, по которому создан человек в начале? От успехов культуры ожидают они спасения от общественных бедствий и зол, на них возлагают все свое упование, а на Господа не взирают и в молитве к Нему не прибегают. Вот за это-то упование на земную культуру, быть может, и попустил нам Господь так тяжко страдать от язычников, усвоивших эту культуру, а Христа не знающих» [2].
В уставе Александро-Свирского Братства также выражается озабоченность отходом верующих от Христа и говорится, что Братство должно «насколько можно заботиться духовными мерами предохранять всех православных от разных суеверий и заблуждений – особенно же молодых людей – и учащихся в заведениях и не учащихся – от искушений и соблазнов со стороны раскольников, разномыслящих и вольнодумцев, от явных и скрытых покушений и обольщений со стороны неверующих, разноверцев и иноверцев, окружающих нас…» [3].
«Олонецкие епархиальные ведомости» из номера в номер публиковали статьи, авторы которых призывали к продолжению войны. Например, священник Д. Фесвитянинов в своей обширной публикации «Мысли по поводу настоящей войны» пишет: «… многие восклицают: "когда же конец всему этому и нельзя ли теперь, как можно скорее, прекратить кровопролитие, хотя бы и с уступками с нашей стороны в пользу японцев? Ведь уступки эти касаются Дальнего Востока, и неужели нам, русским, так понадобилась власть на этом Востоке, чтобы из-за нее жертвовать кровью десятков тысяч наших братьев с миллионными денежными затратами?"» Выражая официальную точку зрения, Д. Фесви-тянинов возражает: «Обратите внимание… на тот вред, который принесет нам неудачное окончание войны, и ту пользу, которую принесет успешное окончание ее, – и, если вы на деле истинные сыны Отечества, а не на словах только, то не будете больше рассуждать: нужно ли воевать и не лучше ли уступить врагу без боя то, чего он домогается?» [4]
В этом же номере «Олонецких епархиальных ведомостей» мы встречаем следующую информацию: «16 января – воскресенье. – После литургии в кафедральном соборе Его Преосвященством, Преосвященнейшим Анастасием Епископом Олонецким и Петрозаводским отслужено молебствие по случаю начавшегося наступления русских войск против японцев» [5].
Несмотря на все наступления, Россия проиграла войну. Как известно, граф С. Ю. Витте не одобрял развязывания войны на Востоке и ему же Россия обязана довольно благоприятным для нее Портсмутским мирным договором. Что же касается приведенных выше высказываний оло- нецких пастырей, то они были лишь сколком того, что писала по этому поводу местная светская и столичная пресса.
Наступали грозные времена. Как известно, начало им положили события 9 января 1905 года. До сих пор в оценке священника Гапона и его акции нет полного единогласия. Если еще недавно Гапон считался чуть ли не провокатором, то ныне это мнение отвергается многими научными авторитетами. Иное дело – те времена, когда происходили события. Оценка действий Гапона русским духовенством, во всяком случае, судя по официальным источникам, не оставляла сомнений в том, что Га-пон нарушил Христовы заповеди. Олонецкая епархия придерживалась той же точки зрения. Приведем на этот счет цитату из статьи священника Д. Крылова «Поучение в неделю блудного сына», опубликованной в «Олонецких епархиальных ведомостях» (№ 4, 1906 г.): «И восстал… лжепророк, "недостойный священнослужитель Гапон", прельстил "малых сих" – бедных рабочих, повел их на возмущение, и невинная кровь оросила улицы нашего стольного града. А сколько таких "про-тивляющихся власти" среди других сословий или, вернее, не принадлежащих ни к какому сословию? Страшно сказать, что они делают, чтобы все на русской земле "поставить вверх дном" (Беседы Св. Злат.). Убивают слуг Царевых, напр., финляндского генерал-губернатора и министра внутренних дел, и многих других. 4 февраля 1905 г. в сердце России – Первопрестольной Москве зверски убили "Дядю и друга Царева, коего вся жизнь, все труды и попечения были беспрерывно посвящены на служение Царю и Отечеству" (Высочайший манифест – 6 февраля). Боже! что стало с людьми, именующими себя христианами православными? Да люди ли это? Не звери ли дикие? Как могли дойти люди до такого звероподобного состояния? Как?» [6]
Как видно из текста, к поступку Гапона автор относился явно отрицательно, ибо считал, что последний поднял массы людей против законной власти и таким образом поставил их под пули. Крылов полагал, что не царская власть, а сам Гапон повинен в этих трагических событиях. Поход к Зимнему дворцу автор считал началом насильственных действий со стороны «злодеев» против верхов. Тут уже недалеко до вывода, что и Гапон был «злодеем», во всяком случае, злоумышленником.
К процитированному отрывку привлекают внимание еще два обстоятельства. Одно из них – отношение к революционному террору. Как известно, оно не было однозначным. Но с точки зрения церкви эта мера рассматривалась как совершенно недопустимая, поэтому и вопрошает автор статьи: «Да люди ли это? Не звери ли дикие?» Вторым и, возможно, главным обстоятельством было полное отрицание всякого проявления насилия (а тем более революции!) со стороны угнетаемых масс, добивающихся социальной справедливости.
В дополнение к сказанному выше о терроре стоит привести опубликованную в «Олонецких епархиальных ведомостях» в 1905 году информационную заметку:
«В субботу 5 февраля в 2 ч. пополудни Его Преосвященство, в присутствии г. Олонецкого Губернатора и всех гражданских и военных чинов, совершил в Свято-Духовском соборе панихиду по случаю кончины Его Императорского Высочества Великого Князя Сергия Александровича, убитого 4 сего февраля в Москве рукою злодея. Его Преосвященству сослужили: о. Ректор духовной семинарии архимандрит Фаддей, кафедральный протоиерей А. Надежин, Епархиальный наблюдатель церковных школ священник Н. Чуков, большинство городского духовенства» [7].
В Петрозаводском уезде церковная жизнь вошла в обычную колею. Разве что иногда по дороге от пристани к местной тюрьме звенели кандалами участники недавних событий. Но близились новые испытания, которые вплотную затронули и церковь. Речь идет о потрясшей державу Первой мировой войне. Вот как об этом сказал в своей речи, обращенной 28 июля 1914 года (по старому стилю) к запасным войскам при их отправлении в действующую армию, епископ Олонецкий и Петрозаводский Никанор:
«С нами Бог!
…Подобно буре после затишья в природе, началась теперь, возлюбленные братия, буря среди затишья в мире житейском, на арене международных отношений Европы. Нашей дорогой России внезапно и дерзко объявлена война сильнейшими немецкими державами.
Наступила опасность для нашей родной страны великая, какой не бывало уже много лет, но не устрашила эта гроза русский народ.
Как волны необъятного моря, поднялись из неизмеримых глубин могучего духа народа нашего воодушевляющие его патриотичные чувства и зашумели во всю необозримую ширь его. Все без различия направлений, положений, звания, состояний и возрастов слились в одно и, как один человек, по зову своего дорогого Царя-Батюшки, заявили полную свою готовность принести на алтарь отечества в тяжкую годину испытания его и свое достояние, и свои силы, и свою жизнь. И среди этого прекрасного зрелища, как девятые валы, играющие цветами радуги на солнце, как изумруды среди простых, хотя и красивых камней, блещете своим достоинством, своею ценностию, своею силою и славою вы, возлюбленные, дорогие наши братья, победоносные воины!» [8]
Эту же мысль, только в поэтической форме, выразил выдающийся русский поэт Николай Гумилев:
И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.
Тружеников, медленно идущих На полях, омоченных в крови, Подвиг сеющих и славу жнущих Ныне, господи, благослови! [9]
Петрозаводские и другие олонецкие священнослужители, монахи и монахини приняли участие в этих событиях, о чем свидетельствует следующая заметка, опубликованная в «Олонецких епархиальных ведомостях» под заголовком «Олонецкое духовенство и война»:
«Военные из олончан священники: Протоиерей В. В. Нименский и П. В. Разумов пропали без вести после больших боев.
-
• Иеромонахи Фома (Ошевенский монастырь) и Александр (Яшезерская пустынь) оставлены в Петрограде служить при военных лазаретах.
-
• Игумения Агния (из Паданского монастыря) с сотрудницами трудятся в Царскосельской общине сестер милосердия.
-
• Прочие из Олонецкой епархии, заявившие о своей готовности послужить на помощь больным и раненым воинам, пока не получили требования куда-либо выехать из Олонии» [10]. В годы войны церковные службы, естественно, приняли определенный характер. Священники молились во здравие и за упокой воинов, участились выступления семинаристов в воинских частях, всё новые служители церкви уезжали в действующую армию, чтобы непосредственно в боевых условиях нести «слово Божье». Оценивая все это, нельзя не отдать должного усилиям церкви и, в частности, священнослужителям Петрозаводского уезда, выполнявшим свой долг. Естественно, священники и не мыслили возможности поражения собственного правительства в войне, не ожидали иного завершения военных действий, кроме победного, и было бы абсолютно неправильно упрекать их за это.
22 декабря 1916 года прибыл в Петрозаводск его преосвященство преосвященнейший Иоанникий, епископ Олонецкий и Петрозаводский, и встал во главе епархии, в тот же день приступив к исполнению своих обязанностей. Он и не подозревал, что «в терновом венце революций грядет» если не шестнадцатый, то семнадцатый год. Однако всю сложность ситуации, создавшейся в стране в связи с затянувшейся войной и внутренними трудностями, епископ не мог не видеть.
Вскоре после вступления в должность епископа Иоанникий получил следующую телеграмму от митрополита Владимира:
«Моления следует возносить за Богохранимую державу Российскую и за Благоверное Временное Правительство ея.
Митрополит Владимир» [11].
Итак, впервые за триста лет моления предстояло возносить не за членов царствующей семьи. Тем временем из Петрограда продолжали по ступать конкретные пожелания. Вот одно из них, свидетельствующее о том, что церковь не оставалась в стороне от политических катаклизмов:
«Члены Государственной Думы священники, единогласно принявшие участие в избрании Временного Исполнительного Комитета Государственной Думы, обращаются с братским призывом к православному духовенству всей России немедленно признать власть Исполнительного Комитета и своим горячим пастырским словом разъяснить народу, что смена власти произошла для его блага и что только при этом условии можно вывести Родину на путь счастья, благоденствия и процветания.
Розни между отдельными национальностями и классами населения не должно быть. Пастырский долг наш призывать всех к единению и взаимной братской любви, завещанной нам Спасителем» [12].
Под обращением стояла подпись: «священники члены Государственной Думы». На это обращение, опубликованное в № 8 «Известий» за 1917 год, последовал эмоциональный отклик из Петрозаводска:
«Духовенство г. Петрозаводска, горячо откликнувшись на призыв о.о. депутатов Государственной Думы, радостно приветствовало зарю обновленной жизни Отечества и свободы Русской Православной Церкви от разных тлетворных влияний и деспотического засилия (цезаре-папизма).
Пастыри Олонецкой епархии! В настоящее время, когда старые устои рухнули, когда рабские цепи спали с народа-богатыря, когда по всему миру пронеслась потрясающая весть о воскресении России из векового рабства и ярко заблистало солнце свободы, долг наш руководителей народа восторженно и единодушно приветствовать новое Временное Правительство и своим личным примером и воодушевленным словом призвать свою паству к послушанию новой власти, ибо независимо от формы власть нужна всегда и везде; разъяснить народу необходимость подчинения закону до составления новых законов на новых началах свободы, братства и равенства; вдохновить пасомых на успешный труд и, особенно, на труд и жертвы для снабжения армии всем необходимым: хлебом, лошадьми и т. д.
…Итак, отцы и братья, воспрянем духом и волей и будем дружно и бодро делать святое и правое дело в России народной, России мужицкой, России рабочей, грамотной, сознательной, трудовой и свободной России под благодатной сенью свободной Православной Церкви» [13].
Под этими строками стоит подпись: «приходский пастырь», и такая анонимность объяснима, ибо редакция, по-видимому, хотела выразить общую точку зрения петрозаводского и всего олонецкого духовенства. А вот под следующей заметкой стоит подпись протоиерея Н. Суперанского, и хотя по настроению текст выступления не отличается от предыдущего, при всей своей лаконичности он весьма своеобразен. Н. Суперанский пишет:
«Не так давно приходилось молчать, когда следовало вопиять.
Если обидно было молчать всем и каждому, – то сугубо обидно было молчать духовенству, призвание которого быть устами Божьими, пророками, евангелистами.
…Свобода, братство и равенство, триумфально вошедшие в нашу жизнь, – атрибуты и царствия Христова» [14].
Как видим, это не просто признание значительности происшедшего события, но и решительное заявление о том, что духовенству долгое время приходилось молчать об очевидных для него пробелах в общественной жизни. Для Н. Суперанского в триаде «свобода, равенство, братство» главным является слово «свобода», открывающее реальные возможности для того, чтобы, обращаясь к прихожанам, высказывать самое сокровенное. Первый из пишущих ратует за продолжение войны до победного конца. Как ни странно это звучит в устах духовенства после трех лет кровопролитных сражений, подобная точка зрения была характерна для этого сословия.
17–25 июня 1917 года в Петрозаводске в Братском Назариевском доме состоялся Чрезвычайный съезд духовенства и мирян Олонецкой епархии. В съезде приняли участие, помимо епископа Иоанникия, 1 архимандрит, 7 протоиереев, 43 священника, 1 протодиакон, 26 диаконов, 8 псаломщиков, 2 монахини и 114 мирян. Участие мирян, к тому же в таком количестве, является чем-то чрезвычайно новым, даже небывалым в истории олонецкого православия.
К 10 часам утра 17 июня делегаты съезда собрались в Свято-Духовском кафедральном соборе, где состоялось молебствие, после чего владыка Иоанникий в краткой речи выразил удовлетворение «при виде в первый раз значительного собрания представителей клира и паствы всей вверенной ему обширной епархии», причем он сказал, что съезду предстоит преодолеть немалые трудности на пути определения новой роли церкви в обществе. Уже в Братском доме со вступительным словом к собравшимся обратился протоиерей Н. Чуков, который в этот период являлся ректором Олонецкой Духовной Семинарии. Мы лишены возможности привести здесь полный текст его выступления, в котором обосновывалась и развивалась мысль владыки. Но фрагмент, который представляется особенно важным, необходимо процитировать:
«Доселе миряне, эта существеннейшая часть церковного тела, были в стороне от церковной жизни. Гнет старой власти подавил прежнюю свободную жизнь церкви, основанную на началах соборности и выборности. Миряне были обращены в молчаливое, бессловесное стадо, лишенное всяких церковных прав и слышавшее только одни наставления об обязанностях. Духо- венство волей-неволей обратилось в требовате-лей и молчаливых исполнителей велений власти. Дошло до того, что учители слова могли произносить это слово не иначе, как после надлежащего контроля и разрешения.
И вот, как естественный печальный результат такого порядка вещей, произошел застой духовно-религиозной и церковной жизни народа.
Церковь – душа народа, хранительница его верований, надежд и упований – вдохновительница его на пути достижения светлых идеалов, высоких стремлений. И если видим теперь упадок духа в народе, – если мы видим теперь, как расшатались духовные, нравственные устои в обществе, в народе, – если вспомним с болью в сердце печальные события последних лет и последних месяцев и дней, – всю ту нравственную разнузданность, отсутствие патриотизма и прочую моральную разруху, то, вдумавшись, мы должны признать, что все это произошло и происходит потому, что дух жизни в церкви – этой душе народа – был подавлен, угасал, тлел, как искра под пеплом, готовая потухнуть.
Если так, а это несомненно так, то спасение народа, устранение всех этих ненормальных явлений, может быть только с оживлением этой души народной – с возрождением церкви. Вера святая православная всегда спасала русский народ на пространстве тысячелетней его истории и из всех бурь и невзгод вынесла его цельным. Эта вера спасет его и теперь.
Да будет же благословенна свобода, вернувшая церкви ее животворный дух.
На вас, церковные деятели и церковные люди, надежда всех верных сынов церкви и всех любящих свою родину граждан. В дружной одушевленной работе, в тесном общем единении здесь – на съезде и там – на местах вдохните дух жизни в застоявшийся организм церковный, всколыхните эту душу народную, и вы дадите торжество и радость святой церкви и спасете нашу страдающую, нашу гибнущую родину» [15].
Таким образом, очевидно, что для всего духовного сословия возрождение страны представлялось возможным только при полном возрождении церкви и ее роли в обществе. Об этом же говорил на съезде выступавший с докладом представитель мирян М. Смирнов, который прямо связал наступление армии на фронте с наступлением церкви в тылу и заявил, что русский народ «от благодатного водительства церкви не откажется». По его мнению, «для православного народа неприемлема та форма взаимоотношения церкви и государства, которая провозглашает религию частным делом каждого, которая объявляет, что храмы и утварь церковная переходят в собственность государства, что государство не оказывает никакой поддержки церкви и духовенству. Для русского православного народа, составляющего основное ядро государства, неприемлемо полное отделение церкви от государства» [16].
Но история распорядилась по-своему.
События октября 1917 года внесли решительные коррективы в эти планы возрождения роли церкви. Стоит процитировать статью протоиерея Н. Чукова из декабрьского номера «Олонецких епархиальных ведомостей» за 1917 год. Выражая свое несогласие с отношением новой власти к Учредительному собранию, автор писал:
«На 28 ноября было назначено открытие Учредительного Собрания. Съехалась группа членов; открыла в виду отсутствия достаточного числа членов – частные совещания; но почему-то правительством большевиков эти совещания прекращены. Теперь, однако, носятся слухи, что то же правительство само хочет созвать это Собрание.
И совершенно понятно. Ведь Учредительное Собрание – по идее – тот голос всей земли, который в настоящее время один только может дать действительно законную власть и содействовать установлению порядка в государстве.
В переживаемый момент полной разрухи внутри страны и тяжелого кризиса во внешних отноше- ниях Учредительное Собрание является делом сколько чрезвычайной важности, столько же и неотложнейшей необходимости для государства» [17].
Как известно, Учредительное собрание было распущено. Анализ этого явления выходит за пределы наших задач. Но вот что важно. Ставя точку над i, тот же Н. Чуков подчеркнул в другой своей статье, подписанной инициалами Н. К. Ч., что «в Совет Народных Комиссаров поступил проект декрета об отделении Церкви от государства, по которому, конечно, не только не может быть речи о каком-либо содержании духовенству из казны, но предполагается конфискация как всех земель церковных и монастырских, так даже и капиталов.
Конечно, "сила не право"…» [18]
В заключение следует отметить, что тема настоящего исследования далеко не исчерпана, тем более, что ее углубленное изучение напрямую связано с теми событиями, которые происходят ныне в истории русского православия.
* Окончание статьи , начало в журнале «Ученые записки Петрозаводского государственного университета». Июнь, 2008. №1 (91). С. 43–51.
Список литературы Олонецкая епархия в конце XIX - начале XX века: жизнь духовенства
- Проводы Ректора Олонецкой Духовной Семинарии, Архимандрита Нафанаила. Петрозаводск, 1902. С. 1-3.
- Фаддей, архимандрит. На 25 декабря 1904 года//Олонецкие епархиальные ведомости. 1905. № 1. С. 7-8.
- Устав православного церковного братства преподобного отца нашего Александра, Свирского чудотворца, святого покровителя Олонецкой епархии. Петрозаводск, 1892. С. 4-5.
- Фесвитянинов Д. Мысли по поводу настоящей войны//Олонецкие епархиальные ведомости. 1905. № 3. C. 86.
- Местная хроника//Олонецкие епархиальные ведомости. 1905. № 3. C. 91.
- Крылов Д. Поучение в неделю блудного сына//Олонецкие епархиальные ведомости. 1906. № 4. C. 157.
- Местная хроника//Олонецкие епархиальные ведомости. 1905. № 4. C. 18.
- Речь, сказанная 28 июля 1914 г. Преосвященнейшим Никанором.//Олонецкие епархиальные ведомости. 1914. № 23. C. 541.
- Гумилев Н.Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. С. 213.
- Олонецкое духовенство и война//Олонецкие епархиальные ведомости. 1914. № 31. С. 706-707.
- Телеграмма митрополита Владимира на имя Его Преосвященства//Олонецкие епархиальные ведомости. 1917. № 6. C. 123.
- Приходский пастырь. Братия сотоварищи!//Олонецкие епархиальные ведомости. 1917. № 6. C. 131.
- Приходский пастырь. C. 131-132.
- Суперанский Н. Приветствие дням свободы//Олонецкие епархиальные ведомости. 1917. № 6. C. 132-133.
- Журналы Чрезвычайного Съезда духовенства и мирян Олонецкой епархии 17-25 июня 1917 года. Петрозаводск, 1917. С. 5-7.
- Журналы Чрезвычайного Съезда духовенства и мирян. C. 33, 39.
- Чуков Н. Созыв Учредительного Собрания//Олонецкие епархиальные ведомости. 1917. № 26. C. 497.
- Н. К. Ч. К вопросу о содержании духовенства//Олонецкие епархиальные ведомости. 1917. № 26. С. 429.