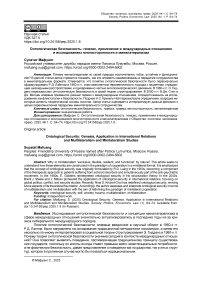Онтологическая безопасность: генезис, применение в международных отношениях и исследованиях многосторонности и минилатерализма
Автор: Мафуанг С.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
Почему минилатерализм по своей природе исключителен, гибок, устойчив и функционален? В данной статье автор стремится показать, как эти элементы взаимосвязаны в парадигме сотрудничества в минилатеральном формате. Отмечается, что понятие онтологической безопасности было первоначально сформулировано Р. Д. Лэйнгом в 1960-х гг., став компонентом терапевтического подхода к пациентам, страдающим шизоидными расстройствами, и одновременно частью антипсихиатрического движения. В 1980-х гг. Э. Гидденс переосмыслил онтологическую безопасность в своей теории структурирования. В 2000-х гг. Б.Дж. Стил и Дж. Митцен впервые применили данный термин к международным отношениям, сосредоточившись на исследованиях конфликтологии и безопасности. Позднее Н.С. Крикель-Чой пересмотрела определение, возродив некоторые аспекты теоретической основы понятия. Автор статьи оценивает и интерпретирует данный феномен с целью переосмысления парадигмы минилатерального сотрудничества.
Онтологическая безопасность, тревога, травма, многосторонность, минилатерализм
Короткий адрес: https://sciup.org/149147673
IDR: 149147673 | УДК: 327.5 | DOI: 10.24158/pep.2025.1.8
Текст научной статьи Онтологическая безопасность: генезис, применение в международных отношениях и исследованиях многосторонности и минилатерализма
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия, ,
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia, ,
Введение . Исследования онтологической безопасности и концепции минилатерализма в сфере международных отношений значительно актуализировались в последние годы из-за кризиса либерального международного порядка.
Понятие онтологической безопасности, впервые введенное в научный оборот в 1960-х гг. Р.Д. Лэнгом, было направлено на оспаривание традиционной методологии психиатрии, а затем его несколько по-иному интерпретировал в социальной теории структурирования Э. Гидденс в 1980-х гг. Почему теория онтологической безопасности значима сегодня в контексте международных отношений? Она позволяет выявлять поведение, противоречащее традиционному принципу существования государств, поскольку их агенты иногда ставят превыше всего экзистенциальные потребности, а не физическую безопасность, давая представление о поведении как государства, так и иных структур, которое в противном случае могло бы показаться иррациональным.
Мы выделяем четыре метода фундаментального понимания теории онтологической безопасности. Во-первых, конструктивный, фокусируясь на иной динамике «я», нежели традиционная физическая безопасность. Действия, которые сопряжены с созданием онтологической защиты, могут вызывать тревогу, поскольку способны провоцировать насилие внутри поддерживаемого «я» (Kinnvall, Mitzen, 2017: 4). Во-вторых, онтологическая безопасность подчеркивает связь между неопределенностью, тревогой и стабильным чувством «я». В-третьих, если «субъекты-я» извлекают онтологическую безопасность из своих отношений с другими государствами, это предполагает, что конфликт не единственный контекст для этой динамики; они также могут укреплять кооперативные связи, выступая в качестве «социального клея», который усиливает сотрудничество. Аналогичным образом онтологическая незащищенность и тревога могут стать катализаторами нового политического сопротивления и активности (Kinnvall, Mitzen, 2017: 5). В-четвертых, травма является непреодолимой, поскольку она фундаментально нарушает непрерывность, стабильность нарративов об идентичности и коллективной памяти (Steele, 2008: 57), которые имеют решающее значение для поддержания чувства собственного «я». Кроме того, онтологическая безопасность обеспечивает основу для анализа того, как государства реагируют на свои травмы и кризисы, подчеркивая роль эмоций и коллективной памяти в формировании политических результатов. Она также особенно актуальна в контексте глобализации (Kinnvall, 2017: 92), которая отражает либеральный международный порядок и многосторонность взаимодействия. При этом быстрые изменения политического ландшафта могут привести к кризисам «я», непостоянной идентичности и повышенной тревоге, что способно спровоцировать проявление насилия, сопротивления или принятие ошибочных решений на фоне онтологической незащищенности, которая может привести к травме.
С другой стороны, результаты многих исследований минилатерализма остаются и ограниченным подмножеством работ по изучению многосторонности1 (Singh, Teo, 2020). В общем понимании минилатеральный подход, характеризующийся совместной работой государств по конкретным вопросам, предлагает гибкий и адаптивный подход в многосторонних институтах. Кроме того, конструктивистский аргумент в пользу минилатерализма основывается на предположении, что переговоры на уровне малых стран могут привести к более быстрым и эффективным результатам (Falkner, 2016). В настоящее время государства пытаются адаптировать свой алгоритм ведения внешней политики и сотрудничают в рамках минилатерализма вместо многосторонности. Соответственно, целью наших научных изысканий выступило определение причин того, что в последние годы многие государства предпочли сотрудничать в минилатеральных форматах, а не в многосторонних институтах для реагирования на международные проблемы и конфликты.
В статье ставятся следующие исследовательские вопросы: что такое онтологическая безопасность и каково ее происхождение; как данное понятие может быть применено в международных отношениях; способна ли онтологическая безопасность служить основой сотрудничества в формате минилатерализма. В этом контексте сначала исследуем концепцию данного понятия по Р.Д. Лэйнгу и Э. Гидденсу, рассмотрим его применение в международных отношениях по Дж. Мит-цену и Б. Дж. Стилу, а далее изучим работу Н. Крикель-Чой о том, как онтологическая безопасность была деконструирована и переосмыслена в современности2. В заключение соотнесем данное понятие с исследованиями многосторонности и минилатерализма.
Онтологическая безопасность по Р.Д. Лэйнгу и Э. Гидденсу. Знаменитая книга Р.Д. Лэйнга «Разделенное Я», написанная им под сильным влиянием философов-экзистенциалистов, в том числе С.А. Кьеркегора, Ф.В. Ницше, М. Хайдеггера и Ж.П. Сартра, была впервые опубликована в 1960 г. (Laing, 2010). Ученый использовал экзистенциалистскую философию в качестве основы для объяснения сути онтологической безопасности и незащищенности по отношению к пациентам с шизоидными или шизофреническими расстройствами, которые испытывают изнуряющую тревогу и отсутствие целостного «я». Он считал, что задача психоанализа заключается не в лечении пациентов, а в подталкивании их к соответствию традиционным рамкам здоровья. Р.Д. Лэйнг призывал к реконструкции «пути, ведущего пациента к его собственному Я в его собственном мире» (Laing, 2010: 25). Подобные взгляды и активизм сделали ученого лидером «антипсихиатрического движения» (Rossdale, 2015). Концепция «воплощения» Р.Д. Лэйнга является центральной в его экзистенциальном подходе к психоанализу: чтобы обеспечить онтологическую безопасность пациентов, он подчеркивает важность тела в формировании чувства «себя» и «идентичности». Ученый утверждает, что воплощенный человек ощущает себя как плоть и кровь, он биологически живой и реальный, что обеспечивает ему чувство личной непрерывности во времени. Это воплощение является основополагающим для восприятия мира человеком и его взаимодействия с другими, поскольку оно позволяет ему осознавать себя как автономного существа (Laing, 2010: 66–68). Поэтому идентичность и автономия индивидуума не подвергаются сомнению с точки зрения времени, непрерывности, субстанции, подлинности и ценности, с позиции существования тела, а также его начала, происхождения, тенденции к уничтожению и смерти. Таким образом, индивид имеет ядро онтологической безопасности в своем собственном бытии. Это позволяет индивидам противостоять всем опасностям жизни, опираясь на собственные идентичности (Mitzen, 2006; Shani, 2017). Без онтологической безопасности люди оказываются охваченными тревогой, которая проникает глубоко в корни бытия в мире.
C другой стороны, чувство воплощения в этом контексте контрастирует с онтологической незащищенностью, когда человек чувствует себя уязвимым для экзистенциальных угроз, таких как поглощение, имплозия и окаменение, которые Р.Д. Лэйнг описывает в терминах тревоги и страха. В таком случае поглощение означает страх, что социальные связи могут ослабить самоидентификацию и независимость индивида, а изоляция часто служит защитным механизмом. Имплозивная тревога – это глубокое чувство пустоты и острая потребность в самореализации, угрожающие индивидуальности и независимости человека. Окаменение понимается как состояние сильной тревоги, при которой люди воспринимают себя как бесчеловечных объектов из-за всепоглощающего страха, что часто приводит к деперсонализации, избираемой в качестве тактики выживания (Laing, 2010; Shani, 2017). Онтологическая незащищенность проявляется как субъективное чувство угрозы своему существованию, независимо от какой-либо реальной внешней опасности, что может привести к экстремальным механизмам совладения, таким как создание альтернативных персон при шизофрении (Gustafsson, Krickel-Choi, 2020: 881).
В 1990-х гг. Э. Гидденс перевел концепции онтологической безопасности в социологическую сферу. По мнению ученого, данное понятие относится к базовому чувству безопасности человека в мире и включает в себя доверие к другим людям. Оно становится необходимым для индивида в плане поддержания психологического благополучия и избежания экзистенциальной тревоги (Giddens, 1991: 38). Э. Гидденс рассматривает онтологическую безопасность как зависящую от нашей способности верить в «социальные нарративы» и «рутину», которые определяют нашу самоидентификацию (Giddens, 1991: 52). Ученый полагает, что мы не воспроизводим свою идентичность, принимая реальность, а скорее конструируем ее, ссылаясь на существование как часть того, что происходит в контексте нашей повседневной жизни. Вот почему онтологическая безопасность некоторых личностей нестабильна – наши идентичности всегда создаются и опе-рационализируются в ежедневном бытии.
Таким образом, онтологическая безопасность подобна базовой потребности человека в непрерывности жизни и предсказуемости социальных норм. Она поддерживается «рутинизацией» индивидов (акторов) и подобна созданию человеком «защитного кокона» для себя или «вынесению за скобки» различных тревог. При поиске онтологической безопасности индивид, создавая «кокон, который защищает его от угроз», способных нанести вред его физическим или духовным ценностям, пытается минимизировать неопределенность, организуя определенные нормы в среде (Giddens, 1991: 49–40; Mitzen, 2006: 346). По нашему мнению, этот «кокон» можно трактовать как «ежедневную репродукцию идентичности», которая позволяет человеку верить в мир, который он воспринимает, воспроизводить базовую систему доверия. Так, индивид с онтологической безопасностью имеет возможность «действовать как агент» из-за существования «защитного кокона», который ограждает его от различных угроз – как физических, так и ментальных. Поэтому «базовое доверие» – это щит, который средний человек носит с собой, чтобы преуспеть в своей повседневной жизни (Shani, 2017).
Применение понятия онтологической безопасности в международных отношениях . Когда Э. Гидденс впервые ввел данный термин в социальные науки, он не привлек внимания ученых, занимающихся международными отношениями, однако в 2000-х гг. Б.Дж. Стил и Дж. Митцен изменили ситуацию. Они исследовали взаимосвязь между онтологической безопасностью и идентичностью национального государства, отмечая, что как государства, так и отдельные лица могут предпринимать «опасные» действия для сохранения собственной целостной идентичности даже ценой «пагубных» отношений (Mitzen, 2006; Steele, 2008). С точки зрения Т. Флокхарта, этот феномен подчеркивает сложную взаимосвязь между нарративами идентичности и действиями национального государства, а значит, они требуют пересмотра (Flockhart, 2016).
С другой стороны, исследователи международных отношений полагают, что онтологическая безопасность может дать альтернативное объяснение широкому кругу явлений: от воспроизведения неразрешимых дилемм (Mitzen, 2006; Rumelili, 2015) до радикальной трансформации личности в эпоху глобального терроризма (Croft, 2012). Например, по мнению Дж. Митцена, она необязательно связана с действиями, которые люди склонны считать хорошими, такими как построение мирных отношений. Фактически национальное государство может продолжать участвовать в конфликтах, потому что такие действия имеют эффект укрепления его идентичности и потому что «рутинные практики» являются неотъемлемой частью безопасности государственной среды (Mitzen, 2006: 346). Можно сказать, что это «пристрастие государства к войне».
В то же время «гибкие» международные процедуры допускают рефлексию и часто связаны с обучением участников и преобразующими изменениями в них. Государства в этом случае ищут способы избежать конфликта и пытаются взаимодействовать с другими акторами компромиссным образом с целью поиска алгоритмов обеспечения общей безопасности (Mitzen, 2006: 364). Примером может служить управление пересекающимися тайско-камбоджийскими морскими территориями. Таиланд и Камбоджа вели переговоры о проведении морской границы и совместной разработке нефтяных ресурсов вместо конфликта с обоснованием территориальных претензий на водные пространства.
Однако применение концепции онтологической безопасности в сфере международных отношений весьма спорно, особенно потому, что ученые слишком подчеркивают связь идентичности с безопасностью. Так, любое изменение становится чем-то, что воспринимается как угроза или что-то, о чем следует бить тревогу. Применение концепции онтологической безопасности имеет эффект сужения определения данного термина до вопроса о сохранении определенных идентичностей (Browning, Joenniemi, 2017: 44). Так, нам следует расширить наше понимание онтологической безопасности за пределы простого синонима государственной идентичности (Zarakol, 2017: 50). С самого начала применения данной концепции в международных отношениях существует путаница между понятиями «я» и «идентичность», в результате чего значения их объединяются (Browning, Joenniemi, 2017; Flockhart, 2016), так что онтологическая безопасность определяется как «безопасность я» и как «безопасность идентичности». Смешение этих понятий привело к стремлению поддержания последней, часто – в ущерб пониманию изменений (Gustafsson, Krickel-Choi, 2020).
Переосмысление онтологической безопасности по Н.С. Крикель-Чой . Опираясь на работы Р.Д. Лэйнга и Э. Гидденса, Н. Крикель-Чой подчеркивает важность понимания онтологической безопасности как основы бытия, которая подтверждает существование «я» за пределами «идентичности». Исследователь предполагает, что данное понятие не должно сводиться к сохранению последней и предлагает рассматривать онтологическую безопасность как охватывающую различные измерения, которые вместе создают «чувство личности» (Krickel-Choi, 2022).
Ученый также утверждает, что онтологическое «я», ищущее безопасности, – это не просто идентичность, а «воплощенное я», предполагая, что физическая (традиционная) и онтологическая безопасность тесно переплетены и нелегко различимы. Мы считаем это «воплощенными лицами с личными нарративами, памятью, тревогами и травмами». Эта точка зрения коренится в экзистенциалистском различии между «нормальной» и «невротической» тревогой, которые Н. Крикель-Чой дифференцирует для учета различных видов поведенческих реакций, не приравнивая всю тревогу к отсутствию онтологической безопасности. Эта реконцептуализация бросает вызов традиционной дихотомии между онтологической и физической безопасностью, предполагая, что они взаимосвязаны и что «я» всегда находится в состоянии становления, а не фиксировано (Krickel-Choi, 2024).
Первое, что следует здесь отметить, – это различие между «я» и «идентичностью» как важнейший нюанс в теории онтологической безопасности за пределами простого сохранения идентичности, подчеркивающий необходимость стабильного чувства «я» для обеспечения целенаправленной деятельности и управления экзистенциальными тревогами (Krickel-Choi, 2024). В отличие от других, Н. Крикель-Чой переосмыслила концепцию «воплощения» Р.Д. Лэйнга посредством восстановления некоторых из утраченных значений понятия. В предыдущих исследованиях онтологической безопасности всегда утверждалось, что «субъект-я» бестелесен. Онтологическая безопасность отделена от физической и в основном касается идентичности. Н. Крикель-Чой же утверждает, что «я» в онтологической безопасности является «воплощенным лицом», рассматривается как непрерывная сущность, наделенная автономной агентностью, отличной от идентичности, которая относится к нарративам и ролевым ожиданиям, формирующим поведение. Это различие важно, поскольку оно утверждает, что, хотя идентичности могут меняться, «я» остается стабильной предпосылкой для идентификации, позволяя субъектам сохранять чувство индивидуальности даже в условиях меняющихся идентичностей (Krickel-Choi, Chen, 2024: 308).
В этом контексте следует рассмотреть тревогу. Откуда она берется? В теории онтологической безопасности это сложное и многогранное понятие, которое играет решающую роль в понимании поведения субъектов – как индивидуальных, так и коллективных. Тревогу часто отличают от страха, поскольку она подразумевает более рассеянное или общее чувство незащищенности, а не связана с конкретной угрозой. Онтологическая безопасность, как ее определяет Э. Гидденс, предполагает наличие уверенных ожиданий относительно отношений «средства – цели», управляющих социальной жизнью, тогда как онтологическая незащищенность характеризуется изнуряющим состоянием неопределенности относительно того, каким опасностям противостоять. Это может привести к тревоге, которая рассматривается как «нормальное» и «невротическое» состояние, влияющее на стабильность личности (Gustafsson, Krickel-Choi, 2020: 878).
Тревога может препятствовать изменениям, заставляя акторов цепляться за привычные «нарративы», как это видно по нежеланию стран разрешать конфликты или извиняться за исторические ошибки. Однако тревога может также способствовать изменениям, когда она становится невыносимой, заставляя участников глобального взаимодействия адаптировать свое поведение, чтобы поддерживать стабильное чувство собственного «я» (Krickel-Choi, 2022: 13–14). Нормальная тревога – это распространенный, управляемый опыт, с которым сталкивается каждое государство, он служит катализатором роста и адаптации. Невротическая тревожность, напротив, патологическая и изнурительная, часто приводящая к неспособности справляться с повседневными проблемами. И именно онтологическая незащищенность тесно связана с невротической тревогой, поскольку она описывает глубокое состояние экзистенциальной угрозы, которая может подавить человека или государство. Различие между нормальной и невротической тревогой важно, поскольку оно допускает различные поведенческие реакции, не приравнивая любую тревогу к отсутствию онтологической безопасности (Krickel-Choi, 2022: 12). Эта точка зрения бросает вызов традиционной дихотомии, предполагая, что тревога является вездесущим элементом жизни, который формирует непрерывный процесс становления личности1. Между тем онтологическая безопасность по своей сути является социальной, полагаясь на взаимодействия и признание со стороны других, что означает, что безопасность одного субъекта (государства) может быть источником тревоги для другого, усложняя динамику отношений и разрешение конфликтов между акторами.
Последнее, что следует рассмотреть, это «травма», которая представляет собой эмоциональные раны, оставленные негативным опытом социального конструирования психологических чувств. Травма может дестабилизировать коллективную память и поставить под сомнение биографический нарратив, который лежит в основе идентичности, что приводит к онтологической незащищенности (Innes et al., 2013: 28–29). Это происходит из-за того, что травматические события трудно интегрировать в течение бытия, что создает угрозу тому, как государство воспринимает себя само и как оно воспринимается другими. Эмоциональное измерение в онтологической незащищенности, особенно во времена травм и кризисов, подчеркивает, как нарративы травмы могут формировать динамику идентичности и влиять на поиск онтологической безопасности. Это очевидно в том, как травма может создавать чувство общности, отделяя пострадавших от других, тем самым укрепляя коллективную идентичность (Kinnvall, 2017: 90).
П. Чароенваттананукул утверждает, что стигматизированный национальный опыт и социальная память о национальной потере создают «травму» в онтологической безопасности. Тем не менее ученый подчеркивает, что различные восприятия национальных интересов и потенциал для изменения статус-кво могут существенно влиять на решения государства в области внешней политики (Charoenvattananukul, 2020: 26–27). Говоря так, следует допускать, что опыт государства вместе с его концепцией «я» может привести к различным реакциям для получения выгоды в ходе реализации международной политики. Таким образом, экзистенциальная тревога и неправильное решение могут привести к «травме».
«Память» и «травма» тоже являются ключом к онтологической безопасности, влияя на то, как формируются и поддерживаются коллективные идентичности. Они существенно сказываются на самостабильности и коллективных нарративах состояния. Память помогает создавать связное повествование во времени, в то время как травма нарушает его. Это может привести к онтологической незащищенностит, создавая угрозу устоявшимся идентичностям и нарративам или даже структурным изменениям в «я». Например, сильный коллективный социальный нарратив чувства себя и идентичности среди стран АСЕАН вкупе с «коллективной онтологической безопасности» привел к распространению общих принципов развития. Объединение активно и строго придерживается региональных норм и ценностей, которые были сконструированы участниками на основе опыта колониализма. Независимо от того, как отдельное государство осуществляет свою внешнюю политику, каждое из них придерживается общих принципов.
Онтологическая безопасность также тесно связана с личными нарративами и памятью, поскольку эти компоненты представляют временную структуру, которая помогает индивидам и сущностям ориентироваться в постоянно меняющейся среде (Flockhart, 2016). С другой стороны, травма часто возникает из-за сбоев в нарративах, что приводит к онтологической незащищенности, которая может усугубляться глобализацией и вытекающей из этого культурной, религиозной напряженностью или дилеммой безопасности в международном пространстве, где исторические символы и мифы реконструируются для предоставления альтернативных убеждений, которые могут быть исключительными, тем самым увеличивая онтологическую безопасность для одних и уменьшая ее для других.
Погоня за онтологической безопасностью иногда может скрывать динамику власти, присущую указанным нарративам, поскольку стремление к стабильной идентичности может маргинализировать тех, кто не вписывается в доминирующий нарратив (Rossdale, 2015). Более того, онтологическая безопасность касается не только поддержания стабильной идентичности, но и умения справляться с изменениями и тревогой, которые часто обусловлены прошлыми травмами и страхом будущих потрясений. Реляционный аспект рассматриваемого феномена показывает, как безопасность одного субъекта может стать источником тревоги для другого, особенно когда нарративы идентичности находятся в конфликте, что приводит к затяжной напряженности и трудностям в разрешении противостояния (Krickel-Choi, 2024; Krickel-Choi, Chen, 2024). Таким образом, память и травма играют ключевую роль в понимании онтологической безопасности, поскольку они влияют на то, как понятия «я» и «идентичность» конструируются, поддерживаются и оспариваются как в личном, так и в коллективном контексте.
Если онтологическая безопасность воплощена, то здесь физические меры защиты, стабильное чувство «я» и биографический нарратив могут смягчить чувство тревоги, а физическая угроза может также вызывать онтологическую незащищенность. Процесс решения с травмой включает в себя либо оспаривание, либо переустановку биографического нарратива посредством политических актов, которые можно рассматривать как попытки восстановить онтологическую безопасность. Кроме того, предполагается, что память служит средством временной ориентации, имеющим решающее значение для поддержания биографического повествования, лежащего в основе онтологической безопасности (Flockhart, 2016). Хрупкость последней подчеркивается постоянной необходимостью корректировать и перестраивать идентичность в ответ на травматические события и меняющиеся условия. Этот непрерывный процесс отражает динамическую природу онтологической безопасности, согласно которой память и травма не статичны, а являются постоянно развивающимися элементами, формирующими идентичность и определяющими действия государств. Кроме того, акцент на сохранении идентичности может привести к напряженности и конфликтам, особенно когда нарративы нескольких акторов пересекаются.
Применение онтологической безопасности в исследованиях многосторонности и миниратерализма . Государства стремятся к партнерству для укрепления собственной идентичности и подпитки подходящих нарративов с помощью платформ коллективного утверждения. Наша интерпретация онтологической безопасности может послужить фундаментом для определения минилатерального формата сотрудничества.
Можно сказать, что многосторонность – это практика координации отношений между тремя и более государствами на основе обобщенных принципов поведения (Caparaso, 1992) или посредством специальных соглашений (Keohane, 1990: 731). С другой стороны, когда происходит институционализация и растет спрос на членство государств, инклюзивность, увеличивающееся число участников усугубляют проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается многосторонность (Bouchard et al., 2013). С другой стороны, минилатерализм в сочетании с инклюзивностью и высоким уровнем доверия может служить эффективной основой объединения для государств, стремящихся сохранить или поднять свою онтологическую безопасность, одновременно решая проблемы многосторонних институтов. При этом число участников и характер их сотрудничества составляют сущность и элементы минилатерализма. Следовательно, использование теории онтологической безопасности для объяснения природы сотрудничества в рамках минила-терализма может показать, как конструируются эти ключевые элементы в данной парадигме. Попытаемся охарактеризовать данный процесс.
Во-первых, если в онтологической безопасности «субъекты-я» выражаются через суверенитет, представляя государство «воплощенным лицом» в международных отношениях, то физические меры смягчают «чувство незащищённости». Применение онтологической безопасности в многосторонности предполагает, что воплощенное лицо живет среди чужих социальных нарративов и может быть маргинализировано. Иногда из-за иерархии в многостороннем взаимодействии государства воспринимают участие в нем как угрозу собственному суверенитету и независимости за счет нарративов крупных держав. Желание последних «продолжать играть в игру» (конкуренцию) или их участие в конфликтогенных практиках для укрепления своей онтологической безопасности является основой проблемы в международных отношениях. Например, тупик, в значительной степени обусловленный правом вето пяти постоянных членов, во многих случаях был синонимом паралича деятельности для ООН. Часто это происходит из-за колебаний, когда государства-члены не могут прийти к соглашению, как, например, в отношении конфликта в Сирии, специальной военной операции России на Украине, израильско-палестинского конфликта и т. д. Иными словами, например, Запад решает за Украину, что делать и как поступать. Украина не имеет права на самоопределение. Следовательно, она не является главным актором в конфликте с Россией, и вместо нее на первый план выходят США. Так, игра на многостороннюю организацию – это нарратив, который создан крупными державами. Напротив, в минилатераль-ной парадигме воплощенное лицо является частью коллективных социальных нарративов, где государства сохраняют свой суверенитет и коллективную идентичность благодаря общности с другими «субъектами-я». Например, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Вьетнам создали и институционализировали комиссию по реке Меконг (MRC) для решения проблем безопасности, касающихся данной территории. В этой минилатеральной практике все государства-члены и внешние партнеры строго придерживаются субрегиональной минилатеральной директивы и принципа центральности. Их, на наш взгляд, можно считать ядром «я» объединения.
В-вторых, «я» ≠ «идентичность» и относится к личности, наделенной суверенитетом и автономией в любом смысле. Здесь «я» = «личность». С другой стороны, тождество «идентичность» = «ролевая идентичность» отражает личностное поведение. Онтологическая безопасность не сводится к вопросам идентичности. В международных отношениях государства «я» – это независимая личность, которая определяет свою ролевую идентичность. Поэтому суверенитет и автономия – это основа для онтологической безопасности. При применении в многосторонности данное положение означает, что некоторые воплощенные лица (материальная власть) навязывают самоидентификацию в многосторонних институтах и становятся источником дилеммы безопасности. C другой стороны, малые государства теряют свою идентичность, уступая доминирующим нормам и ценностям в пользу воплощенных лиц с материальной властью. В таком случае идентичность малых государств динамически меняется, иногда отрываясь от «я», чтобы сохранить статус-кво, бытие или даже максимизировать свою онтологическую безопасность через стратегию хеджирования. Напротив, в минилатерализме воплощенное лицо уважает других и не навязывает самоидентификацию, а усиливает коллективные идентичности или создает совместный стратегический нарратив. Например, ядро «я» каждого государства АСЕАН – это суверенитет и невмешательство. Так, объединение страхуется как перед Китаем, так и перед США с помощью стратегии «коллективного хеджирования». Мы уверены, что для каждого государства АСЕАН ее следует понимать как индивидуальную или коллективную «ролевую идентичность», которая всегда изменяется по условиям мировой политики.
В-третьих, когда «тревога» ≠ «онтологическая незащищенность», то превалирует первая, вторая – это «невротическая тревога», и это встречается редко. В международных отношениях тревога провоцирует поведенческую адаптацию; при онтологической незащищенности она маловероятна. В многосторонности тревога – ускоритель поведенческой адаптации государства. Но онтологическая незащищенность влияет на общность агента для сохранения бытия и статус-кво себя. Это приводит к вынужденному структурному изменению. Мы утверждаем, что онтологическая незащищенность может привести к структурному изменению идентичности. Поэтому считаем, что тревога является ускорителем поведенческой адаптации государства к изменениям идентичности. Значит, менее влиятельные страны могут быть вынуждены пойти на структурные изменения в идентичности под давлением крупных держав. Например, раньше АСЕАН воспринималась как сторона, занимающая только нейтральную позицию в соперничестве великих держав. Она была не заинтересована в пересмотре международного порядка и в том, чтобы глобальные противоречия перекинулись на ее регион. Но в течение десятилетия из-за напряженной геополитической конкуренции стратегия стратегического хеджирования АСЕАН изменилась и сегодня состоит в «активном нейтралитете», «инклюзивной диверсификации» и «осмотрительных противоречиях». Объединение изменило свою обыденность через расширение стратегических возможности за пределы Юго-Восточной Азии в Индо-Тихоокеанский регион. Амбиции АСЕАН стали политическим контролером в этом регионе. Такая стратегия создает пространство для постоянного сотрудничества, одновременно способствуя его инициированию и расширению в различных областях. Инклюзивный подход АСЕАН к диверсификации также проявляется во взаимодействии группы по борьбе с COVID-19 и в постпандемийном пространстве. Такой подход помогает снизить риски чрезмерной зависимости от какой-либо одной державы, одновременно развивая возможности сотрудничества для всех сторон.
При минилатерализме нормальная тревога гарантирует устойчивость и коллективную онтологическую безопасность. Так, государства формируют партнерства, основанные на общих интересах, усиливая чувство коллективной идентичности; жесткая общность с соблюдением коллективных норм производит высокое доверие, обеспечивает инклюзивность и неформальность среди воплощенных лиц. Например, государства, прилегающие к реке Меконг, постоянно собираются для решения проблем, связанных с трансграничными бедствиями, в рамках функционала комиссии по реке Меконг. Можно считать, что это фрагментация многосторонности АСЕАН в ми-нилатеральный субрегиональный механизм как подход «одна река, много институтов». Он также даже распространяется на сотрудничество с США, Южной Кореей, Японией, Индией и Китаем.
Следует отметить, что это не элемент взаимодействия государств-единомышленников. Между ними есть лишь базовое доверие из-за эгоистичных интересов, иногда оно существует временно и неустойчиво. Сотрудничество коалиций-единомышленников может строиться только на материальных интересах или отражении общих угроз, на создании «стратегических нарративов» о «существовании угрозы» инициатором. Однако в государствах с коллективной онтологической безопасностью, таких как АСЕАН и ее субрегиональные механизмы, оно будет консолидироваться и институционализироваться автоматически по своей природе, поскольку строгое соблюдение принципов объединения порождает высокое доверие между его членами, выступая в качестве щита для предотвращения экзистенциальной тревоги.
Кроме того, ошибочные адаптации идентичности воплощенных лиц (государства) приведут к конкуренции институционального строительства, являя дилемму онтологической безопасности. Индонезия и Малайзия сталкиваются с проблемой сохранения региональных норм и баланса сил при одновременном расширении взаимодействия с внерегиональными субъектами. Quad раздвигает рамки охвата от вопросов безопасности до социально-гуманитарно-экономического сотрудничества. Перекрывающиеся минилатеральные институты с той же функцией в их региональном разделении труда с АСЕАН вызывают вопрос о ее существовании. Это считается кризисом «я» в результате их хеджирования. Амбиции Филиппин в своей ролевой идентичности о попытке создания трехстороннего альянса Япония - Филиппины - США (JAPUS), скорее всего, окажутся фатальными для АСЕАН. Видимо, при обсуждении вопросов экономического развития объединение всегда готово к сотрудничеству. Однако при решении вопросов безопасности ее членам не хватает единства и солидарности.
«Травма» провоцируется стигматизированным национальным опытом и социальной памятью о национальной утрате. Экзистенциальная тревога и неправильные решения государств в прошлом провоцируют травму. Поэтому в международных отношениях страны стремятся к общественному признанию и глобальному статусу. На это влияют различные интересы государств, что приводит к трансформации статус-кво. В многосторонности мотивация воплощенного лица необходима, чтобы избежать доминирования над одним из членов, навязывания собственных ценностей многосторонним институтам или чтобы соблюдать «бытие» или «статус-кво» в условиях тревоги. Так, государства проводят активную внешнюю политику усиления структурного изменения. Но осознав «онтологическую незащищенность» как «нервную тревогу», они будут вести искреннюю националистическую внешнюю политику. С другой стороны, если государства могут сохранять стабильную «я» и гибкую идентичность, то этим они обеспечивают международную «устойчивость». Опыт государства и концепция его «я» приводят к позитивным для него результатам в международной политике. Так, в минилатерализме воплощенное лицо демонстрирует самоидентичность в коллективной социальной среде. Стремление государств залечить свои травмы находит отражение в проактивной и сдерживающей политике АСЕАН через минилатера-лизм в отношении тревоги. Например, Таиланд вступил в СЕАТО для определения своего статуса в глобальной политической системе, несмотря на присутствие таких членов, как Франция и Великобритания, которые нанесли ему травму в периоде колониализма.
Заключение . В рамках данной статьи было осуществлено изучение сложных взаимосвязей между онтологической безопасностью и динамикой многосторонности и минилатерализма. Мы пытались понять, почему государства, обладающие онтологической безопасностью, более гибки и устойчивы. Используя конструктивистскую линзу, мы подчеркиваем значимость данной основополагающей концепции, которая формирует государственное поведение, идентичность и кооперативные взаимодействия в международных отношениях. Она обеспечивает индивидуумам (государствам) стабильную идентичность, способность справляться с жизненными трудностями, чувство субъектности, когнитивную последовательность и эффективное управление тревогой. Эти факторы в совокупности способствуют созданию прочной структуры, которая поддерживает устойчивость перед лицом невзгод.
Онтологическая безопасность основана на потребности в последовательной самоидентификации с течением времени, что позволяет субъектам уверенно ориентироваться в своей социальной среде. Стабильность онтологической безопасности часто поддерживается посредством рутинных взаимодействий с другими акторами, укрепляя чувство собственного «я». Государства могут реагировать на травмирующие события, подтверждая свою идентичность, что может привести к устойчивости, несмотря на физические угрозы. Либеральный международный порядок и многосторонность сталкиваются со значительными проблемами в этом отношении. Традиционная институциональная липкость препятствует необходимым адаптивным действиям. Так, онтологическая безопасность влияет на способность агентов действовать эффективно.
В итоге такие понятия, как «я» и «идентичность», определяют властные отношения с другими государствами. Тревога и онтологическая незащищенность ведут к адаптации идентичности и к структурному изменению «я» или формированию новой идентичности в условиях неопределенности мировой политики. А травма, которая структурирована из различных восприятий национальных интересов, создает потенциал изменения статус-кво на решения государства во внешней политике.
Результат исследования показывает, что тонкое понимание взаимосвязи между идентичностью, тревогой и травмой имеет особое значение для понимания того, как государства управляют своими кооперативными стратегиями. Анализ имеющейся научной литературы позволил обнаружить, что государства уменьшают тревогу и онтологическую незащищенность посредством стабильного минилатерального сотрудничества. Хотя онтологическая безопасность может побуждать государства вступать в минилатеральные институты для устойчивости и подтверждения своей коллективной идентичности, она также может приводить к проблемам в адаптации при столкновении с меняющейся международной средой.
Иными словами, государства, обладающие онтологической безопасностью в качестве защитного щита, могут более эффективно осуществлять свою внешнюю политику в условиях турбулентности мировой политики. В минилатерализме государства формируют партнерства, основанные на общих интересах, усиливая чувство коллективной «я», «идентичности». Так, минила-терализм, характеризующийся более мелкими, более гибкими группировками, обладающими инклюзивностью, может служить эффективной основой для государств, стремящихся сохранить свою онтологическую безопасность, одновременно решая проблемы многосторонних институтов.
Список литературы Онтологическая безопасность: генезис, применение в международных отношениях и исследованиях многосторонности и минилатерализма
- Bouchard C., Peterson J., Tocci N. Multilateralism in the 21st Century Europe's Quest for Effectiveness. L., 2013. 328 р.
- Browning C.S., Joenniemi P. Ontological Security, Self-Articulation and the Securitization of Identity // Cooperation and Conflict. 2017. Vol. 52, iss. 1. P. 31-47. DOI: 10.1177/0010836716653161
- Caparaso J.A.International Relations Theory and Multilateralism: the Search for Foundations // International Organization. 1992. Vol. 46, iss. 3. P. 599-632. EDN: BLMWSF
- Charoenvattananukul P. Ontological Security and Status-Seeking Thailand's Proactive Behaviours during the Second World War. N. Y., 2020. 228 р. DOI: 10.4324/9781003015215
- Croft S. Constructing Ontological Insecurity: The Insecuritization of Britain's Muslims // Contemporary Security Policy. 2012. Vol. 33, iss. 2. P. 219-235. DOI: 10.1080/13523260.2012.693776