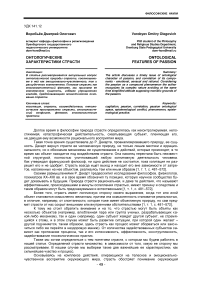Онтологические характеристики страсти
Автор: Воробьв Дмитрий Олегович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 8, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается актуальный вопрос онтологической природы страсти, соотношением в ней как эмоционально-чувственного, так и рассудочного компонентов. Понимая страсть как многокомпонентный феномен, мы признаем ее комплексную сущность, избегая упрощенного взгляда, предполагающего монистическое основание страсти.
Когитация, страсть, взаимодействие, онтологическое пространство страсти, гносеологический конфликт, феномен, гносеологические практики
Короткий адрес: https://sciup.org/14934628
IDR: 14934628 | УДК: 141.12
Текст научной статьи Онтологические характеристики страсти
Долгое время в философии природа страсти определялась как неконтролируемая, непостижимая, катастрофическая действительность, охватывающая субъект, пленяющая его, не дающая ему возможности рационального восприятия мира.
Такая точка зрения существовала до Р. Декарта, проанализировавшего природу, ее сущность. Декарт вернул страсти ее человеческую природу, не только лишив мистики и иррациональности, но и обозначив механизмы ее существования и действий, которые происходят, в то время как объект находится под воздействием страсти. Она наконец перестала быть неизвестной структурой, полностью уничтожавшей любую когнитивную деятельность человека. Как утверждал французский философ, ни одно действие не состоится, пока когитация не разрешит его и не одобрит. Страсть всегда ищет выход и находит его вне зависимости от запретов, наложенных на нее объектом, реализуясь тем или иным образом [1, т. 1, с. 481–572].
Своими размышлениями Р. Декарт предвосхитил исследования философов, физиологов, психиатров XX–XXI вв. и в свое время обозначил ту позицию, которую научное сообщество будет доказывать в будущем. Природа страсти рациональная, и даже те действия, что называют аффективными, происходившими в минуты ослепления страстью, имеют причину и следствие и таким образом могут быть предсказуемыми и естественными [1, т. 1, с. 481–572].
Более того, страсть имеет логическую сторону своего выражения, когда тот или иной объект становится осмысленно желанным, причем эта осмысленность становится реальностью, в отличие, например, от спонтанности, которая тоже имеет объективную природу, но сам предмет страсти от нас сокрыт внешними или внутренними обстоятельствами [1, т. 1, с. 481–572].
К тому же стоит обратить внимание и на то, что страстью могут быть объяты как несколько объектов (например, влюбленная пара или группа ученых, разрабатывающих какой-либо механизм), так и один (например, один субъект жаждет другой субъект, не стремящийся к этому, и в этом случае может быть развитие ситуации, при которой один желает – другой подчиняется, таким образом, здесь страсть как процесс может оборваться или закончиться либо же перейти в нездоровую манию). От количества задействованных субъектов зависит как протекание процесса, так и его интенсивность, эффективность, конструктивность, задействование гносеологических практик.
Также мы хотим определиться с тем понятием страсти, с которым мы будем работать в нашей статье. Определений страсти множество, в зависимости от того, какую ее сторону мы рассматриваем. В нашем случае мы выберем такие две важнейшие ее характеристики, как сильнейшее чувство и процесс.
Основываясь на комплексе действий, опирающихся на телесное и эмоциональночувственное восприятие окружающего мира, страсть обостряет понимание окружающей субъекта действительности, стремясь раскрыть по-новому собственную онтологическую природу субъекта с помощью различных когнитивных практик.
Яркие чувства, резкие действия, неопределенность, острая жажда получить объект и завладеть им усиливают острое желание проникнуть в онтологическое и гносеологическое пространство другого (оправдать собственное бытие, наполнив его существо иным бытием), рождают интерес и существование страсти [2, с. 207].
К сожалению, здоровая страсть, как и любое чувство, уязвима и может погаснуть, несмотря на всю жажду соприкосновения с желанным объектом; она встречается с действительностью и реальностью, в которой тот самый объект выглядит тривиальным или абсолютно не привлекающим большого внимания [3, с. 7–15]. Чтобы страсть как можно дольше сохранялась и достигла желаемого, субъект прибегает к приему, называемому идеализацией объекта, возвышая его над собой и всем окружающим миром и пространством, возводя его в мерило всего сущего.
Объект настолько желанен, что нет ни одного препятствия, могущего помешать на пути к обладанию объектом страсти. Он вызывает практически религиозный пиетет и поклонение, яростное стремление в обладании предметом своих желаний. Все негативное в субъекте нейтрализуется, все проблемы, связанные с обладанием предметом страсти также отводятся на второй план [4, с. 7–15].
В такой ситуации страсть становится проводником лжи, неверного восприятии объекта субъектом, причем, как правило, сознательным обманом желающего. Но сам обман держится не только на ложном восприятии действительности, осуществляемом нашим сознанием, – его поддерживает человеческая телесность, усиливающая притягательность возможностью исчезновения предмета будущего обладания, сосредотачивая субъект только на предмете страсти. Все силы жаждущего с момента возникновения страсти направлены только на получение искомого [5, с. 148–149].
Стоит также отметить, что страсть можно сравнить со вспышкой, она может быть одна и гореть довольно долго, но также сама природа страсти предполагает и возможность бесконечного множества таких вспышек, которые могут осветить существование субъекта. Одна страсть может породить совершенно другую, к которой может привести естественная эволюция первоначальной страсти, либо же первичная страсть не окажет столь сильного действия на субъект и прекратит свое существование, тем самым обострив онтологический и гносеологический голод субъекта, усилив поиск предмета желания, на который и направится новая страсть. Также, кроме одной страсти, субъект может испытывать несколько страстей одновременно, и эти страсти соответственно будут или взаимодействовать друг с другом или находиться в конфликте (две страсти и более рождают у субъекта онтологический и гносеологический конфликт, заключающийся прежде всего в нехватке ресурсов, в невозможности охватить столь разные страсти, каждая из которых специфична и индивидуальна). Очень редко субъект может утолить несколько страстей за небольшой промежуток времени не в ущерб собственной личности, не распылив себя, не истощив. Попытка реализовать несколько направлений страсти может повлечь за собой серьезные последствия для субъекта, так как личность не может реализовать разом несколько сильных желаний. Поэтому субъект должен концентрироваться на реализации одного желания или на постепенной реализации их множества, выстроив своеобразную иерархию.
Воображение, человеческая фантазия, мечты, идеальные образы складываются прежде всего в сознании и затем проигрываются тем или иным образом для того, чтобы приготовить организм субъекта к встрече с объектом страсти, давая возможность проанализировать возможное взаимодействие и его результаты. Особенно важно отметить то, что страсть позволяет преодолеть собственное Я, сломать или преобразовать предыдущее бытие субъекта, усилив голод по бытию новому, потому как страсть предполагает вторжение в сферу другого, не познанного нами. Потому так важно воображение, оно преодолевает страх нашего Я, стремящегося постигнуть бытие другого, другую вселенную тела и духа с помощью образов и осмысливаемых в сознании ситуаций, создавая будущее «безопасное» взаимодействие.
Вторгаясь в бытие другого субъекта или объекта, страсть стремится создать «слиян-ность» жаждущего и желанного, и позитивное протекание такой страсти, некоторая степень ее гармоничности возможна, если между субъектом и объектом в их связи установится глубокий уровень соединения бытия и взаимодействия различных когнитивных актов [5, с. 148–149].
Страсти имеют множество способов своего воплощения в реальности, а предметы их желания имеют различное происхождение, свойства и сущность. Наиболее яркие и сильные страсти, запечатленные в памяти человечества, описанные в художественной литературе, изображенные на холстах, проявляют себя в человеческих отношениях.
В нашей статье мы предположим, что страсть может быть не только осознанным выбором конкретного партнера, не только яркой вспышкой инстинктов в определенный момент.
Это сильное чувство, существующее в глубинах духа и инстинкта субъекта, дремлет определенное время для того, чтобы отыскать любовь, того самого партнера, которого можно будет назвать своей второй половиной. В страсти человек больше всего ожидает признания своей ценности и необходимости, большой и искренней любви к нему, познания и признания граней его бытия. Это сильное чувство позволяет сломать страхи и комплексы, которые довлели над субъектом, возможно также и преодоление социальных, сексуальных стереотипов. Страсть как всеохватывающее чувство, балансирующее на грани дозволенного и запретного, наполняющее творческой энергией обоих субъектов, способна создать сильное взаимное чувство, если субъекты смогут совместить психофизиологические элементы страсти и принцип реальности. Именно соотношение сильных чувств и реальных факторов способствует адекватному развитию страсти, скрепляющей союз двоих либо оканчивающей отношения их угасанием [6, с. 7–22].
Такое острое желание любви, единства, поиска второй половины, яркого желания ощущения «слиянности» с другим порождает еще одну удивительную возможность, которую дарит страсть обоим субъектам. Сливаясь друг в друге, объективируя новую совместную реальность, создавая свой собственный мир, такая страсть на миг своей вспышки побеждает Смерть, Время и Пространство, которые более не властны над теми, кто жаждет бесконечного познания друг друга, преобразовывая собственное бытие.
Таким образом, страсть – это сложный многокомпонентный феномен. Существует множество подходов в философии, интерпретирующих страсть, выявляющих ее особенные черты и частности, но тем не менее существуют две наиболее распространенные точки зрения на страсть – как сильнейшее из чувств и как процесс. Этот феномен человеческого бытия создает пространство двоих – субъекта и объекта, внутри которого происходит рождение новых онтологических структур и гносеологических компонентов. Существование этого феномена невозможно без взаимодействия рассудочного, эмоционально-чувственного познания, «телесного разума». Страсть вовсе не вспышка, не внезапное ослепление, она разумна, осознанна, причинна, но подвержена сильным противоречиям и искажениям. Но, несмотря на ее крайнюю нестабильность, ее онтогно-сеологические свойства и сущность бесценны для бытийственного опыта человека.
Ссылки:
-
1. Декарт Р. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1989. 662 с.
-
2. Делис Д., Филлипс К. Парадокс страсти – она его любит, а он ее нет. М., 2001. 256 с.
-
3. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. С. 319–344.
-
4. Делис Д., Филлипс К. Указ. соч.
-
5. Эпштейн М. Тело свободы. СПб., 2006. 432 с.
-
6. Делис Д., Филлипс К. Указ. соч.
Список литературы Онтологические характеристики страсти
- Декарт Р. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1989. 662 с.
- Делис Д., Филлипс К. Парадокс страсти -она его любит, а он ее нет. М., 2001. 256 с.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм -это гуманизм//Сумерки богов. М., 1989. С. 319-344.
- Эпштейн М. Тело свободы. СПб., 2006. 432 с.