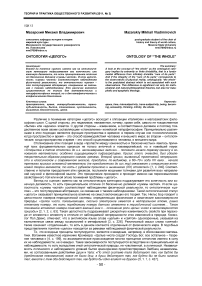Онтология «целого»
Автор: Мазарский Михаил Владимирович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3, 2011 года.
Бесплатный доступ
Взгляд на понятие «целое» именно как на онтологическую категорию подразумевает его конечность или конечную делимость, то есть принципиальное отличие от бесконечно делимой «суммы частей». И если целостность «суммы частей» соответствует наблюдениям физической реальности, то онтологически «целое» -это постулируемая абстракция, совершенно не связанная с такими наблюдениями. Это различие является существенным не только для математических и натурфилософских теорий, но и для катафатического и апофатического богословия.
Пространство, время, интерсубъективность, транссубъективность, бытие, становление, чувственность, мышление, бесконечность, целое
Короткий адрес: https://sciup.org/14933273
IDR: 14933273 | УДК: 13
Текст научной статьи Онтология «целого»
The summary:
A look at the concept of “the wholeˮ as the ontological category implies its extremity or finite divisibility, that is a fundamental difference from infinitely divisible “sum of its partsˮ. And if the integrity of the “sum of its partsˮ corresponds to the observations of physical reality, ontologically “the wholeˮ is the postulated abstract which is not associated with such observations. This difference is significant not only for mathematical and natural-philosophical theories, but also for Cata-phatic and apophatic theology.
Различие в понимании категории «целого» восходит к оппозиции италийских и малоазиатских философских школ. С одной стороны, это неделимое, неизменное, ничему, кроме себя, самого не тождественное «бытие» или «единое» элеатов. С другой стороны – изменчивое, а соответственно делимое и поэтому тождественное всем своим составляющим «становление» ионийской натурфилософии. Принципиально различными в этих подходах являются функции пространства и времени: в первом случае они гносеологические, когда пространство и время – это способ взаимодействия человека и внешнего мира; во втором – онтологические, когда пространство и время – это способ существования и человека, и внешнего мира.
Столкновение этих позиций в виде «пропасти между конечностью и бесконечностью» явилось причиной трех фундаментальных кризисов не только античной и новоевропейской, но и новейшей науки: «Открытие в пятом столетии до н.э. несоизмеримых величин… положило начало первому кризису в основаниях математики, особенно ощущавшемуся пифагорейцами. Кризис этот, очевидно, был удовлетворительным образом разрешен самими греками. Второй кризис, вызванный трактовкой непрерывности в классическом и современном анализе, преодолен, по-видимому, в 60–70-х года ХХ века… начало третьего кризиса оснований математики (не преодоленного до сих пор) связывают с открытием антиномий теории множеств, то есть с рубежом прошлого и нынешнего (ХХ) столетий» [1, с. 240]. Соответственно и попытки преодоления этих кризисов, послужили мощными толчками для развития всех направлений научной и философской мысли. Это преодоление проходило и проходит именно как переосмысление свойственного той или иной эпохе понимания проблемы «целого».
Взгляд на «целое» именно как на онтологическую категорию подразумевает его конечность или конечную делимость, то есть принципиальное отличие от бесконечно делимой «суммы частей». И если целостность «суммы частей» соответствует наблюдениям физической реальности, то онтологически «целое» – это постулируемая абстракция, не связанная с такими наблюдениями. Такой онтологический статус «целого» оказывает принципиальное влияние на смысл включающих его теорий. Так, Нильс Бор говорит о целостности номеров периодической системы, определяющих физические и химические закономерности природы: «Целое число, показывающее, сколько электронов имеется в нейтральном атоме, равно атомному номеру, то есть порядковому номеру данного элемента в периодической системе… Такое понимание атомного номера означает важный шаг к… осознанию роли целых чисел в закономерностях природы» [2, т. 2, с. 63]. Такая целостность подразумевает дискретную изменяемость свойств при переходе от элемента к элементу в отличие от наблюдаемой непрерывности этих изменений в природе. Космолог Пол Девис, отмечает, что в английском языке слова «целый» и «святой» однокоренные, указывая на таинственные связи между космологией и метафизикой [3, с. 226]. Религиозный смысл слова «святой» также означает «отделенный», то есть в данном контексте отделенный от физического мира. В подобных представлениях понятие «целое» находится за рамками наблюдаемой физической реальности.
То, что исходные принципы постулируются, является очевидным, например, в обоснованиях математики. Вспомним известное изречение Кронекера: «Целые числа создал Господь Бог, все остальное – творение человека»» [4, с. 199], но аксиоматическое происхождение многих принципов онтологии именно в силу их не наблюдаемости, не очевидно. Такие закономерности постулируются вследствие их принципиальной не наблюдаемости, то есть вследствие иной онтологической природы, не чувственной, а логической. Независимость логического и наблюдаемого уровней бытия красноречиво проиллюстрировал Лейбниц независимыми, но согласованными действиями души и тела: «По этой системе тела действуют так, как будто бы (предполагая невозможное) вовсе не было душ, а души действуют так, как будто бы не было никаких тел; вместе с тем оба действуют так, как будто бы одно влияет на другое» [5, т. 1, с. 427].
В разные времена упоминавшееся различие между италийскими и малоазиатскими философскими школами приобретало соответствующую той или иной эпохе понятийную форму, сохраняющую, тем не менее, метафизическое противостояние представлений. При этом «неизменное» всегда рассматривалось как исключительно умопостигаемое или символическое. «Изменчивость», являясь очевидным следствием чувственных впечатлений, оставалась свойственной самим символам. Иначе говоря, «неизменное» представлялось изменчивыми символами.
В период распространения в Европе монотеистических представлений смысл некоторых символов стал интерпретироваться как персонифицированное понятие «единого», то есть как «Бог Откровения». Соответственно свойственная символу «изменчивость» в пространстве и времени должна была быть нетождественной смыслу символа, то есть представлению о Боге. На этом была основана апофатическая теология [6, с. 32], которая стремилась выразить адекватно абсолютную трансцендентность бога путем последовательного отрицания всех его атрибутов и обозначений. Говорить о смысле символа в таком случае возможно, только отрицая любое пространственно-временное истолкование этого смысла в принципе.
На представлении о тождестве изменчивого символа и его смысла была основана катафатическая теология, описывающая бога « посредством позитивных утверждений, атрибутов и обозначений, употребление которых в силу трансцендентности бога мыслится неизбежно метафорическим, но в силу так называемая аналогии бытия признается оправданным» [7, с. 251]. В таком случае смысл символа, оказывался таким же тождественным пространству и времени, как и сам символ. Таким образом, если апо-фатический подход методом отрицаний позволял говорить непосредственно о «бытии», то катафатический позволял говорить только о «становлении», нуждающемся для связи с «бытием» в метафорическом истолковании. Соответственно различие между двумя миропониманиями сводилось к нетождестенности или тождественности пространственно-временных символов тому, что они символизируют. Апофатический подход выносил «бытие» за рамки пространства и времени в принципе, рассматривая их исключительно символически, а катафотический отождествлял «бытие» и «становление», то есть символ и его смысл.
В Средние века метафорическое истолкование разного рода «нематериальных сущностей» снимало остроту различия между этими подходами. Но развитие естествознания в новое время поставило иные задачи и перед теологией, в круг проблем которой оказалась включенной и натурфилософская проблематика. «Организмический» взгляд на мир был заменен «механистическим». Около 1600 г. получила развитие идея механистического взгляда на мир, согласно которому «тело движется «по его природе» в бесконечность, куда ему совершенно не за чем двигаться» [8, с. 6, 85]. Связь наблюдаемого механического движения в пространстве и времени с ненаблюдаемыми причинами этого движения не могла быть проинтерпретирована метафорически, как это происходило в Средние века с «нематериальными сущностями». Соответственно эти причины либо включались в пространство–время в случае следования катафотическому подходу, либо строго выносились за их рамки в случае следования апофатическому подходу. В связи с этим и пространственно-временная целостность мира в этих подходах в новое время обосновывалась по-разному. В учениях Ньютона и Спинозы как следствие онтологического приоритета физического мира или «целое физически», то есть как развитие катафатической теологии. В учениях Декарта и Канта как «целое логически», то есть как следствие «интегрирующей» способности мышления или как развитие апофатической теологии.
В XVIII в., несмотря на разделение естествознания и теологии на самостоятельные отрасли знания, противостояние подходов, принятых в теологии предыдущей эпохи, сохранило свою актуальность. В философских системах, охватывающих все аспекты существования, теизм противостоял пантеизму, «бытие» – «становлению», а индетерминизм – детерминизму. Вслед за победой ньютонианства над картезианством в европейских университетах в XVIII в. «катафатическая» точка зрения стала практически безальтернативной. Однако этого нельзя сказать о собственно метафизике. Потеряв после «века просвещения» свою универсальность, она смогла сохранить онтологический плюрализм, вернувшийся в естествознание уже только в ХХ в. в виде неклассической физики, когда противостояние точек зрения, характерных для XVII в., не только не закончилось, но и обострилось. Это обострение связано с появлением «экзистенциального» акцента в многовековом противостоянии точек зрения на соотношение «неизменного» и «изменчивого». Подобный взгляд, только направленный в область не внешнего, а внутреннего для человека мира, и является предметом экзистенциальной феноменологии Эммануэля Левинаса: «Итак, мир … не является суммой существующих объектов. Сама идея целостности системы понятна лишь благодаря постигающему ее существу» [9, с. 29]. Следуя Канту, целостность мира он понимает как результат интегрирующей способности человеческого сознания, изначально внешнего для наблюдаемого в пространстве и времени мира: «Ведь природа разума такова, что… если любознательность побуждает его постичь абсолютно целое всех условий, ему не остается ничего другого, как обратиться от предметов к самому себе» [10, т. 4, с. 371].
Ссылки: References (transliterated):
-
1. Френкель А. Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М., 1966.
-
2. Бор Н. Избранные труды в 2-х т. М., 1971.
-
3. Девис П. Суперсила. М., 1989.
-
4. Френкель А. Указ. соч.
-
5. Лейбниц Г. Сочинения в 4-х т. М., 1982.
-
6. Философский Энциклопедический Словарь. М., 1983.
-
7. Там же.
-
8. Франк Ф. Философия науки. М., 1960.
-
9. Левинас Э. Избранное: Тотальность и Бесконечное. М.;
-
10. Кант И. Сочинения в 8 т. М., 1994.
СПб., 2000.
-
1. Frenkelʹ A. Bar-Hillel I. Osnovaniya teorii mnozhestv. M. 1966.
-
2. Bor N. Izbrannye trudy v 2-h t. M., 1971.
-
3. Devis P. Supersila. M., 1989.
-
4. Frenkelʹ A. Op. cit.
-
5. Leybnits G. Sochineniya v 4-h t. M., 1982.
-
6. Filosofskiy Entsiklopedicheskiy Slovarʹ. M., 1983.
-
7. Ibid.
-
8. Frank F. Filosofiya nauki. M., 1960.
-
9. Levinas E. Izbrannoe: Totalʹnostʹ i Beskonechnoe. M.; SPb.
-
10. Kant I. Sochineniya v 8 t. M., 1994.
Список литературы Онтология «целого»
- Френкель А. Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М., 1966.
- Бор Н. Избранные труды в 2-х т. М., 1971.
- Девис П. Суперсила. М., 1989.
- Лейбниц Г. Сочинения в 4-х т. М., 1982.
- Философский Энциклопедический Словарь. М., 1983.
- Франк Ф. Философия науки. М., 1960.
- Левинас Э. Избранное: Тотальность и Бесконечное. М.; СПб., 2000.
- Кант И. Сочинения в 8 т. М., 1994.