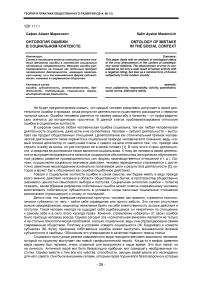Онтология ошибки в социальном контексте
Автор: Сафин Айшат Маратович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу онтологического статуса феномена ошибки в контексте социальных отношений современности. Феномен ошибки рассматривается не только как побочный продукт человеческой деятельности, имеющий негативную оценку, но и как минимальная форма субъектности человека в современном обществе.
Ошибка, субъектность, ответственность, деятельность, потенциация, социальные нормы, альтернативная реальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14936001
IDR: 14936001 | УДК: 111.1
Текст научной статьи Онтология ошибки в социальном контексте
This paper deals with an analysis of ontological status of the error phenomenon in the context of contemporary social relations. The phenomenon of error is considered as not only a side result of human activity with a negative rating, but also as a minimal form of human subjectivity in the modern society.
eywords: error, subjectivity, responsibility, activity, potentiation, social norms, alternative reality.
Не будет преувеличением сказать, что каждый человек ежедневно допускает в своей деятельности ошибки и промахи, когда результат деятельности существенно расходится с первоначальной целью. Ошибки человека разнятся по своему масштабу и качеству – от орфографических опечаток до исторических просчетов. В данной статье проблематизирована онтология ошибки в социальном контексте.
В широком смысле любая человеческая ошибка социальна, так как любая человеческая деятельность социальна, даже если и не коллективна. Человек – субъект деятельности – выступает как продукт общественных отношений. Целеполагание как отличительный признак человеческой деятельности также коренится в социальной природе человеческого сознания, ведь «самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове» [1]. В силу этого и цель деятельности, и средства ее достижения также являются социальными. К тому же человек в своей деятельности вынужден встраиваться в наличные социальные обстоятельства (исторически обусловленный уровень развития производительных сил, формы производственных отношений и т. д.). Однако, осуществляя социально-значимые действия, человек периодически сталкивается с достаточно заметным несовпадением изначально полагаемой цели и результата деятельности [2], которое и может быть обозначено как ошибка (ошибочное действие).
Говоря о социальном контексте ошибки в узком смысле, мы будем иметь в виду прежде всего именно действия человека в области общественного бытия, в пространстве общественно значимого ценностно-смыслового выбора и поступка. Социальная онтология ошибки – попытка показать, каким образом рефлексия собственных ошибок может помочь современному человеку восстановить собственную субъектность в условиях, когда наличные социальные отношения располагают (провоцируют) к отказу от последней.
Дело в том, что, совершив серьезный проступок, человек, как правило, стремится психологически «убежать» от него – найти себе оправдание или просто забыть. Это сигнал отсутствия всякой саморефлексии, индикатор нежелания брать на себя ответственность за свои действия и поступки. Такой человек никогда не ощущает себя ошибающимся, он некритичен по отношению к самому себе и в силу этого «всегда прав». Конечно, стремление «убежать» от своих ошибок было присуще человеку всегда. Однако сегодня эта «сознательная амнезия» является не только и не столько психологической проблемой, сколько социальной, ведь она спровоцирована самим современным обществом. Поэтому в условиях «смерти социального» (Ж. Бодрийар) и «смерти субъекта» (М. Фуко) признание собственных ошибок может выступать минимальной формой субъектности и свободы. Обозначим это утверждение в качестве главного тезиса статьи.
Социально-культурные реалии современного мира породили феномен массового человека, который по существу выступает как новый «мифологический герой». Когда-то в мифах древнего мира героем был человек, очень странный для восприятия в наше время. Это был герой, но не личность. Античный герой мог быть безрассудно храбрым, мог совершать необдуманные поступки. Однако вместе с тем все его чувства, способности, эмоции захватывали его неожиданно для него самого. Они были внешними силами, которым герой подчинялся безоговорочно и которые воспринимал как веление антропоморфных богов. Поэтому мифологический герой не знает внутреннего спора с самим собой, необходимости делать выбор, принимать решения, совершать поступки в соответствии с ними, не знает совести как внутренней самооценки собственных действий.
Современный массовый человек очень напоминает гомеровского героя: у него точно так же нет способности делать выбор, принимать решения, совершать осознанные поступки и нести за них ответственность. Но в отличие от храброго Ахиллеса и мужественного Гектора современный неомифологический персонаж не способен и на безоглядный героический поступок: он и не личность, и не герой. Современный человек совершает социально-значимый поступок парадоксально, не выступая при этом его субъектом. Это объясняется тем, что в условиях стихийного движения мирового капитала в современном обществе отдельный человек просто не в состоянии противостоять безличным общественным силам. У него нет возможности выступать автономным основанием собственных мыслей и поступков: в условиях тотального отчуждения само его сознание становится объектом манипулирования. При этом современный человек (вынужденно) научился извлекать выгоду из такого положения. Так, З. Бауман в работе «Текучая современность» описывает Билла Гейтса как героя нашего времени: «Гейтс казался игроком, который “процветает среди беспорядка”. Он был достаточно предусмотрительным, чтобы не развить у себя привязанности (и особенно сентиментальной привязанности) и не принять на себя длительных обязательств по отношению к чему-либо, включая результаты своей собственной деятельности. Он не боялся сделать неправильный шаг, поскольку никакой шаг не заставил бы его долгое время идти в одном направлении и поскольку поворот назад или отход в сторону оставались постоянно и непосредственно доступными альтернативами. Можно сказать, что в течение жизненного пути у Гейтса не накапливалось ничего, кроме расширяющегося диапазона доступных возможностей...» [3, с. 20].
Получается, что, приспосабливаясь к современным социальным условиям, человек вынужденно отказался от собственной субъектности. Отказ от субъектности означает здесь не бездеятельность, а деятельность в условиях отказа от какой-либо доминирующей системы норм и ценностей. Современный человек совершает такой отказ в силу ряда причин. Во-первых, в современном обществе системы социальных норм и ценностей крайне многочисленны и нет основания для того, чтобы одну из них признать доминирующей. Во-вторых, в условиях «текучей современности», по Бауману, все эти системы крайне изменчивы, непостоянны. В-третьих, современный человек не может иметь уверенности в том, что социальные нормы и ценности и даже его собственные симпатии к определенным из них не навязаны ему господствующей идеологией. Обратной стороной этого отказа от субъектности оказывается нежелание современного человека признавать собственные ошибки, делать их предметом рефлексии. Человек-масса упускает из виду собственный ошибочный поступок, а вместе с этим и возможность его обдумать и исправить. Почему же человеку необходимо «работать над ошибками»?
Следуя вышеуказанной логике, смеем предположить, что именно умение признавать собственные ошибки может стать основой (матрицей) для восстановления утерянной субъектности человека в современном мире. Признать за собой ошибку - значит оставить за собой право (хотя бы) на минимум субъектности. Рассмотрим, каким образом это реализуется.
«Работа над ошибками» может быть определена как своеобразный метод деконструкции прошлого. Только реальное действие, признанное ошибкой (действие, имеющее негативное последствие или нежелательный результат), неизбежно отсылает человека к тому моменту, когда ошибка могла и не произойти. Вследствие такого посыла человек становится в позицию выбора, но (!) в прошедшем времени, выбора как актуальности прошлого и в прошлом. Ошибка указывает нам на наличие у нас свободы и даже больше: ошибка создает выбор, она создает свободу, несмотря на то что выбор уже был осуществлен, а момент свободы прояснился после утери самой свободы.
Такая свобода может быть описана как процедура потенциации. М. Эпштейн, введший в философский язык это понятие, определяет его как смену модальностей, «переход из актуального состояния в потенциальное, возрастание степеней возможного, превращение фактов в вероятности, теорий - в гипотезы, утверждений - в предположения. Потенцировать или овозможи-вать предмет или суждение - значит переводить его из области бытия в область можествования, из изъявительного наклонения - в сослагательное» [4]. Таким образом, ошибка создает пространство для потенцирования: для открытия возможного в том, что уже наличествует.
Момент осознания ошибки заново ставит человека перед выбором, и тогда человек может мысленно достроить ход событий, которые могли бы произойти или иметь место, если бы он жил не ошибившись. С этого момента для человека начинается своего рода инобытие - гипотетически возможная жизнь. Потенцировать можно до бесконечности, однако потенциация также имеет свои законы. Один из них состоит в следующем: чем больше мы абстрагируемся от конкретных условий совершения ошибки, тем больше у нас возникает способов потенциации. Равно и наоборот: чем конкретнее представлены условия, в которых была совершена ошибка, тем меньше можно потенцировать.
Коль скоро жизнь человека раскалывается в результате ошибки на реальную и гипотетическую, он вынужден жить по крайней мере в двух реальностях. Эти «реальности» важны как сами по себе, так и в своем взаимодействии. Здесь важно, что человек не просто разглядел в прошлом альтернативу собственного жизненного пути, но постоянно удерживает ее в сознании. Взаимодействие этих альтернативных «реальностей» не может не быть драмой, внутренней борьбой человека с самим собой: в пространстве двух логик живет чувство вины и рефлексии, сожаления и раскаяния. Однако это же является и той точкой, где человек признает себя ответственным за собственную (и не только) жизнь, а значит, признает себя ее автором. Но, помимо этого, очень важно, что человек проясняет для себя и собственную систему ценностей, норм. Признание собственного поступка ошибочным, помимо прочего, является еще и аксиологическим (оценочным) действием, когда альтернативная реальность предпочитается наличной как более желательная. Гипотетически возможная жизнь имеет ценность для той жизни, чьей возможностью она представлена. Наше признание ошибочности своего поступка заставляет нас выбирать «правильную жизнь». Признание ошибки предстает в виде апофатического признания правильного, должного. На такой драматической почве происходит рождение субъектности – того, чего не хватает современному массовому человеку, того, что противопоставляется безответственности и беспечности. В. Франкл в книге «Человек в поисках смысла» отмечает, что осуществление человеком себя самого фактически сводится к осуществлению своих возможностей и альтернатив, что приводит его к калейдоскопизму и потенциализму. Автор пишет, что на самом деле человеку необходим некоторый внутренний стержень, а не просто внешний коррелят: «…дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, напротив, в осуществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный момент. Дело в том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному» [5, с. 70].
Итак, невозможность современного человека выступать хозяином собственных мыслей и поступков составляет сущность кризиса субъектности. Однако на деле это означает не только и не столько бездеятельность и пассивность человека, сколько действие в условиях отказа от системы социальных норм и ценностей. В результате человек превращает свою жизнь в набор возможностей, каждая из которых ценна не тем, что лучше или хуже других, а только тем, что она альтернативна. Это значит, что человек отказывается давать оценку собственным поступкам, а без этого невозможно нести за них ответственность. Обратной стороной этого отказа оказывается нежелание современного человека признавать собственные ошибки (свои действия в качестве ошибочных). «Работа над ошибками» важна тем, что человек не просто потенцирует реальность (продумывает гипотетические реальности), но и тем, что выстраивает систему ценностей. Признать свой поступок в качестве ошибочного значит предпочесть «альтернативную» реальность как более желанную, более «правильную» (должную). Однако поступок уже совершен, и возможность выбора присутствует лишь в прошлом. Удерживание же в сознании этих двух реальностей (наличной и должной) оказывается основой для драматического процесса самосознания через раскаяние и чувство вины. Это и является минимальной формой субъектности человека в современном мире.
Ссылки и примечания:
-
1. Маркс К. Капитал. Критика политический экономики [Электронный ресурс] // RoyalLib.Ru : электрон. б-ка. 2014. URL: http://royallib.ru/read/marks_karl/kapital.html#952899 (дата обращения: 19.06.2014).
-
2. Конечно, возможен и такой вариант, когда поставленная человеком цель не может быть реализована в существующем социальном контексте, но индикатором ошибочности ее постановки опять же окажется нежелательный и непредвиденный результат.
-
3. Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. СПб., 2008. 240 с.
-
4. Эпштейн М. Проективный философский словарь. Новые термины и понятия [Электронный ресурс]. URL:
-
5. Франкл В. Человек в поисках смысла // Библиотека зарубежной психологии : сборник / пер. с англ. и нем. ; общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Ленонтьева. М., 1990. 368 с.
(дата обращения: 11.07.2014).