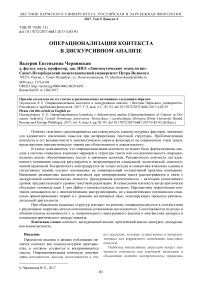Операционализация контекста в дискурсивном анализе
Автор: Чернявская Валерия Евгеньевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
Понятие «контекст» рассматривается как совокупность социокультурных факторов, значимых для адекватного извлечения смыслов при интерпретации текстовой структуры. Проблематизация контекста и его релевантности в лингвистическом анализе фокусирует на современном этапе задачу представления лингвистического знания как обоснованного и доказательного.В статье показывается, что операционализация контекста не может быть формализована, сведена к системе очевидных языковых маркеров в структуре текста или последовательности операциональных шагов, обеспечивающих доступ к значимым аспектам. Релевантность контекста для адекватного понимания смыслов регулируется и детерминируется социальной, политической, идеологи- ческой практикой. Когерентность конструируется не только исходя из семантики языковых единиц и ситуативных знаний, сколько основываясь на доминирующей коллективной практике понимания. Выявление релевантных аспектов контекста при интерпретации текста рассматривается в связи с дискурсивной компетентностью личности. Дискурсивная компетентность - категория когнитивного уровня, предшествующего уровню текстовой реализации. В осмыслении контекста автор критически обсуждает основные идеи Т. ван Дейка о контекстуальных моделях. Перспективы теоретизации контекста связываются не с лингвистическим инструментарием, но с аналитическим потенциалом социально ориентированных теорий и с данными когнитивных наук, моделирующих процессы речемыслительной деятельности.При объяснении языковых структур контекст по-разному операционализуется в соответствии с различными теоретико-методологическими установками исследователя. Сопоставляются подходы и объяснительные возможности т. н. некритического дискурсивного анализа в лингвистике дискурса и концепции критического дискурс-анализа.
Контекст, дискурсивный анализ, критический анализ дискурса, дискурсивная компетентность
Короткий адрес: https://sciup.org/14729545
IDR: 14729545 | УДК: 81'33(81.13) | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-4-83-93
Текст научной статьи Операционализация контекста в дискурсивном анализе
Предметом анализа в рамках публикации является контекст как социокультурное пространство, в котором создаются и воспринимаются тексты. Операционализация контекста означает здесь возможность выхода исследователя к тем его аспектам, которые существенны и репрезентативны для корректного понимания текстовых смыслов.
Наиболее интенсивные дискуссии вокруг значимости контекста как ключевой категории в объяснении понятия «когерентность» пришлись
на 1980-е гг. и далее получили новый ракурс в связи с дискурсивно и когнитивно ориентированными исследованиями в последнее десятилетие XX в. Контекст – это понятие, для которого не применимо одномерное техническое определение. Основное разделение проходит по линии вербальный контекст, т. е. непосредственное окружение языковой единицы в структуре (устного или письменного) текста – слова, словосочетания, предложения, и социальный контекст, т. е. те составляющие, которые конструируют идентичность использующего язык человека – пол, возраст, раса, национальность, социальный, профессиональный статус – и создают прагматическую релевантность высказываний. В таком ракурсе контекст является объектом для специалистов, работающих в социолингвистике, философии, культурной антропологии. О традициях в осмыслении контекста см. напр.: [Duranti, Goodwin 1992; van Dijk 2005б; 2006, 2008, 2009], о контексте в герменевтической традиции, в постструктурализме – [Щирова 2014].
Следует исходить из того, что экстралингви-стический контекст – это основа для адекватной интерпретации смыслов и языковой деятельности вообще. При этом выявление релевантных, т. е. значимых для адекватного извлечения смыслов, составляющих контекста зависит от методологической позиции исследователя, в целом от того, какой инструментарий может быть привлечен для этого. Как определить релевантные отношения между социокультурным контекстом и языковыми структурами – ключевой вопрос для исследователя. Он находится в точке пересечения нескольких сложных проблем. Это, с одной стороны, проблема гиперинтерпретации, и мера вовлечения контекста в интерпретации речевой структуры влияет на выводы интерпретатора. С другой стороны, вопросы контекста дополнительно кристаллизуют сегодня те теоретико-методологические аспекты лингвистики, которые решают задачу представления лингвистического знания как обоснованного и доказательного. Доказательность, как ясно из дискуссий, сопровождающих развитие теоретической лингвистики в XX в., связывается с достижением баланса между строгими, формализованными и интерпретативными подходами к языковому материалу. Волюнтаристские интерпретации в стиле «дискурс – это наше все», подмена анализа с процедурой доказательства эссеистикой и профанными рассуждениями в широком неструктурированном пространстве дискурса не могут не вызывать критическое отношение специалистов. В том числе и поэтому сегодня создается «некоторый формообразующий контекст для еще не заявившего о себе неоструктурализма» [Золян
2014: 7] и фокус на доказательной лингвистике, подр.: [Беляева, Чернявская 2016]. Выбор исследовательского метода должен решать задачу отграничения контекстов в лингвистической интерпретации. В этом направлении сближаются дискурсивный анализ и корпусная лингвистика, применяющая статистические методы в определении ключевых слов и основных тем (key words, topics) дискурса. Одновременно делается заключение о том, что корпусные количественные методики не обеспечивают достаточной вовлеченности в анализ контекстов. Прагматический уровень анализа остается за рамками объяснительных возможностей количественных формализованных методов, см.: [Шилихина 2014, Чернявская 2017].
В аналитической перспективе следует определить отношение понятия контекст к базовым лингвистическим категориям – текст и дискурс.
Дискурс – текст – контекст
Обращаясь к дискурсу как к единице операционального анализа языкового материала, следует исходить из существования методологически различных подходов дискурсивного анализа. Некоторые из них не опираются на лингвистическое понимание речевой структуры и предполагают социологически, философски, культурологически ориентированный анализ. Разграничение лингвистического и нелингвистического подходов является принципиально значимым для непротиворечивой методики анализа. Это одна из разделительных линий в работе с дискурсом. Другая демаркационная линия проходит при разделении теоретико-методологических подходов внутри лингвистики. Ключевым становится вопрос об исследовательских и эвристических возможностях дискурсивного анализа, о том смысловом приращении, которое достигается работой с дискурсом по сравнению со структурно-грамматическим, семантическим, стилистическим анализом.
В лингвистической теории в последние два десятилетия XX в. сложился особый предмет – дискурсивный анализ (discourse analysis) и особая дисциплина – лингвистика дискурса, см. обзор: [Warnke, Spitzmüller 2008; Spitzmüller, Warnke 2011]. Это продолжение лингвистики текста, продолжение вектора развития функционально и прагматически ориентированной лингвистики. Основные подходы к дискурсу и методы его анализа сложились вследствие выхода исследовательского и аналитического интереса за рамки отдельного предложения, затем отдельного текста. При оперировании термином «дискурс» коммуникативная деятельность и продукты этой деятельности – тексты – соотносятся с экстра- лингвистическим фоном, со спецификой коммуникативной ситуации, социокультурными, историческими, этническими и прочими факторами. Тексты составляют эмпирическую основу для описания дискурса, которое не сводимо только к характеристике пропозиционального и иллокутивного аспекта (грамматики текста), а требует включения данных об организации коммуникативно-когнитивных процессов, приведших к созданию этих текстов.
Дискурс может быть представлен как корпус текстов. Содержание (тема) дискурса раскрывается не одним текстом, но интертекстуально, в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов. Лингвистика дискурса устанавливает, как совокупность отдельных высказываний / текстов создает общие смыслы. Семантизация, выявление смысла языковой единицы, связывается не с лек-сико(слово)-центрическим объяснительным подходом и не (только) с текстоцентрическим подходом, но с мета- или транстекстовым подходом.
Дискурсивный анализ – это инструмент описания транстекстовых структур и их глубинной связности, интертекстуальности, интердискур-сивности. Это метод описания языковой системы на уровне выше, чем отдельное предложение или отдельный текст. Задается новый ракурс изучения языка как функционирующей системы, дискурс – это язык в действии (language-in-use). Подчеркну, что речь идет о «некритическом» дискурсивном анализе («non-critical» discourse analysis) в отличие от концепций критического анализа дискурса (о них см. далее). В дискурсивном анализе особым образом реализуется текстоцентрический принцип языкового анализа, сфокусированный в лингвистических теориях конца XX в., ушедших от структурно-грамматического понимания текста к функциональному, прагматически обусловленному пониманию. Лингвистика дискурса – это выход за рамки грамматики текста в сторону все более широкого и многофакторного контекста.
Важно подчеркнуть, что контекстуализация, т. е. рассмотрение языковых структур вместе с экстралингвистическим содержанием, не является монополией только и именно дискурсивного анализа в его современном прочтении и не стала актуальной только в связи с дискурсивной парадигмой. Экстралингвистический контекст был атрибутом категории текст и сопровождал все более углубленное научное понимание сути текстуальности на протяжении последней трети XX в.
Лингвистика текста, а формулируя точнее по отношению к ее первоначальному становлению, грамматика текста, отходила от структурного подхода именно через расширение объяснительных возможностей контекста для семантики сло- ва и, далее, предложения. Текст – это знак целой ситуации. Текст, а не слово или предложение, становился исходной семантической единицей и отправной точкой в анализе. При этом текст в динамической процессуальной проекции рассматривается как постоянная, непрекращающая-ся семантизация, как со-бытие многих значений, которые актуализируются или не актуализируются в контексте. Всякая языковая единица, форма, слово рассматриваются не как семантическая постоянная (заданное лексиконом значение), но как контекстно зависимая, переменная величина. Слова наделяются смыслом исходя не из системно-языковых характеристик, но из межтекстовых связей и контекстуальных характеристик. Приведу суждение из пионерской работы Т. ван Дейка «Текст и контекст» 1977 г., раскрывающее, почему смыслообразование не может быть объяснено только с опорой на формальнограмматические отношения между предложениями. Грамматика связной речи в узком понимании термина не может применяться для описания всей полноты семантических характеристик, только понятие грамматики в методологически широком смысле, включая прагматический компонент, референциальную семантику, интерпретативную семантику и макросемантику, может обеспечить доступ ко многим общим качествам дискурса, работая с грамматикой как таковой, ср.: «If we take this notion [grammar of discourse] in a very restricted sense, only a few properties of discourse can be accounted for. If we are prepared to take the notion of grammar in a still methodologically sound wider sense, including a pragmatic component, a reference semantic, a semantic with worldknowledge interpretation conditions and a macrosemantics, we shall be able to account for many general properties of discourse within the grammar itself» [van Dijk 1977: 7]. Слова получают синтаксическую функцию только в связи с целой структурой, покрывающей предложение [ibid.: 6].
В этом отношении следует возразить мнению С. Т. Золяна о том, что текстоцентрические теории, «законченные теории, отрицающие за словом «право на владение смыслом и значением», в лингвистике все еще остаются нереализованной возможностью» [Золян 2013:12]. Теория текста вообще и лингвистика текста как самостоятельная дисциплина (подчеркнем здесь именно лингвистические, не литературоведческие или семиотические разработки) с собственным предметом, категориальным аппаратом и исследовательским инструментарием к 1990-м гг. существенно трансформировались от признания текста как формальной структуры, понимаемой как грамматическое единство, к пониманию коммуникативной процессуальной природы текста.
В современных теориях характеристики текста вообще переосмыслены как интегративное единство свойств, идущих от системы составляющих его семиотических знаков и от использующего эту систему человека. Именно текст, а не слово и предложение, является единицей коммуникации. В тексте возникает иерархическая система взаимодействия единиц разных уровней языка, не сводимая к механической сумме значений этих единиц, идущих от системы языка. Происходит не просто перенос готового содержания в текстовую форму, но возникают новые семантические приращения. «Это в принципе исключает семантико-смысловую статичность текста и его отдельных элементов, выдвигая на передний план динамический характер текстовых структур» [Гончарова 1999: 148]. Разумеется, в художественно-поэтическом тексте и в поэтической семантике «бесконечный семиозис» осуществляется с наибольшей интенсивностью и наглядностью, и это основательно демонстрируется, например, в работах С. Т. Золяна, одного из фундаментальных и последовательных исследователей поэтической семантики [Золян 2014]. Художественный текст дает читателю ту меру рецептивной свободы, которую читатель способен присвоить. Художественный текст вообще существует как дискурс и, точнее, как интердискурс и полностью включается в сферу лингвистики дискурса.
Важно понимать, что представления о тексте не как о форме готовых значений, но как о «генераторе смыслов» применяются по отношению к текстуальности вообще, а не только в связи с поэтическим текстом, как это было наиболее заметно, например, в 1970-е гг. В последнее десятилетие XX в. сфокусировались объяснительные концепции текстуальности, которые представляют ее как когнитивный феномен и наделяют текст сущностными характеристиками процессу-альности, поскольку смысл текстового целого дает возможность свободной интерпретации авторских и читательских смыслов, не обязательно совпадающих с заложенными авторскими смыслами. См.: [Brinker 1993; de Beaugrande 1997; Adamzik 2004; Esser 2008; Warnke, Spitzmüller 2008; Sinclair 2004; Щирова 2004; Щирова, Гончарова 2006; Чернявская 2014, 2016].
Дискурс – контекст
Лингвистика дискурса – это развитие на новом витке теории интертекстуальности, развитие методов изучения эксплицитных и имплицитных межтекстовых связей. В дискурсе интертекстуальная компетентность получает ключевой статус. Вообще, интерпретативная способность и – шире – языковая компетентность могут быть представлены как возможность и способность коммуникантов определить, какие межтекстовые связи актуальны и адекватны для интерпретации смысла.
Показателен следующий пример, он заимствован из документально-исторического цикла «Забытые вожди. Виктор Абакумов» о министре госбезопасности СССР, создателе отрядов СМЕРШ («смерть шпионам»); его трансляция на первом телевизионном канале РФ состоялась 04.06.2017. В первые годы Великой Отечественной войны немецкая разведка массово забрасывала на советскую территорию диверсантов, набранных из русскоговорящих людей, проживавших на территориях Западной Украины, Прибалтики до их присоединения к СССР и начала войны. Они выдавали себя за своих, за окруженцев, попавших в немецкое кольцо во время наступления, утративших все документы, и ничто, говоря в современных терминах, ни языковая компетенция, ни стиль поведения не выдавало заброшенных шпионов. Работники СМЕРШа выявляли их благодаря найденному приему: на допросе перед такими людьми высыпали картошку и задавали один вопрос: «Где командир?» Вопрос ставил диверсантов в абсолютный тупик, они полностью терялись, а ведь каждый советский человек знал, не мог не знать ответ на этот вопрос, потому что каждый знал фильм «Чапаев» и тот его фрагмент, где Чапаев, объясняя военную науку, показывал на клубень с наростом и говорил: «Командир впереди, на лихом коне!» Комментируя использованный пример, подчеркну, что знание прецедентного текста – фильма «Чапаев» – входило в актуальные знания буквально каждого советского человека, в том числе потому, что кинофильмы в 1930–40-е гг. (и не только тогда) были основным инструментом передачи и формирования нужных смыслов в советском дискурсе. Кинофильмы были информационным каналом, имевшим всеобщий охват при отсутствии альтернативных форматов коммуникации. Не знать содержание фильма «Чапаев» означало быть чужим, исключенным из коллективной практики и общения между своими. Замечу здесь, что современные студенты-лингвисты не способны к инференции при декодировании этой ситуации, не понимают, по их собственному признанию, о чем текст, когда он предъявляется как материал анализа на учебных занятиях. Требуется дополнительное разъяснение именно в связи с интертекстуальными знаниями, актуализирующими контекст для адекватной семантиза-ции высказывания.
Объяснительные возможности анализа зависят от степени маркированности контекстуальных связей. Они могут быть прослежены в тексте (1)
как намеренно и открыто заявляемые, эксплицитные; (2) как намеренно не выраженные в поверхностной структуре текста, скрытые автором сообщения; и (3) как не выраженные в тексте, но реконструируемые аналитически исследователем.
В первом и втором случаях межтекстовые связи, т. е. связь внутритекстовой структуры и ее внешнего пространства, выявляются традиционными методами семантического анализа текста, анализа формы изложения – аргументативного, экспликативного, дескриптивного, анализа скрытых смыслов – пресуппозиций и импликатур связной речи и др. Выявление скрытых, т. е. не маркированных автором, но потенциально возможных, связей между высказываниями и смыслами – наиболее сложная исследовательская задача, она действительно во многом зависит от интересов и теоретических установок исследователя. Проиллюстрируем это еще одним примером. Режиссер и драматург Марк Розовский, создавший образ типичного советского писателя Евгения Сазонова в романе-фельетоне «Евгений Сазонов: Бурный поток. Роман века», вспоминал о своем сотрудничестве в советские годы со знаменитым редактором «Литературной газеты» Виктором Веселовским.
«Веселовский умел править так, чтобы не испортить текст. Это мастерство сродни умению бегать в ливень между струйками и оставаться сухим. Когда я придумал Евгения Сазонова и первые главы романа “Бурный поток”, он, восторженно приняв идею – создать типовой образ выдуманного советского писателя (…) После публикации романа “Бурный поток” Витя предложил мне публиковать так же по строчке в каждом номере биографию выдуманного мною писателя. Я тут же сочинил: “Евгений Сазонов родился в 1937 году. Продолжение следует”. Витя улыбнулся и произнес:
– Не пройдет.
– Почему?
– 37-й год не пройдет, старичок. Надо заменять.
– Понял, – сказал я. – А 36-й можно?
– 36-й можно.
Я тут же исправил: “Евгений Сазонов родился в 1936 году. Продолжение следует”. Веселовский прочел и расхохотался.
– Это какое-такое “продолжение” будет в 37-м году?
– Не знаю. Ты сказал “можно” – я исправил.
– Ладно, – сказал Виктор, – попробую с 36-м. Авось не просекут.
– Но ты же просек!
– Я – другое дело. Важно, чтобы ОНИ не просекли.
Они опять не просекли».
(Цит. по: Розовский М. Шли годы. Смеркалось // Лит. газ. № 17(6221). 22.04.2009).
Понимание этого текста предполагает вывод импликатуры дискурса: ‘продолжения после 1937 г. не может быть’. Возможность вывода скрытого смысла базируется на экстралингви-стическом контексте, а именно общих знаниях коммуникантов о том, что происходило в СССР до и после 1937 г. Тридцать седьмой год – наивысшая точка массового сталинского террора и арестов, расстрелов советских людей по доносам и неправосудным основаниям. Тридцать седьмой год – это конец жизни, конец надежд для миллионов людей. Процесс семантизации этого текста включен и в более широкий контекст – советской идеологической машины и цензуры 1960–80-х гг. В советское время идеологические установки и партийная цензура делила все на идеологически правильное и идеологически чуждое. С этих позиций существовал дискурс антисоветчины, высказываний, «порочащих советскую действительность». «ОНИ не просекли» означало, что цензоры-редакторы, идеологические кураторы не заметили смысловых аллюзий и интертрекстуальных связей с другими, антисоветскими высказываниями. Потенциальные цензоры не наделили этот текст соответствующим смыслом и не реализовали, в нашей терминологии, дискурсивный анализ.
В предлагаемых суждениях значимо следующее. Контекст не сводится только к понятию ситуативного «здесь и сейчас» контекста в связи с принципом кооперации: время, место, отношения адресанта и адресата друг к другу, общие фоновые и энциклопедические знания о мире. Контекст понимается как субъектно конструируемая, подвижная категория, предполагающая понимание участниками коммуникации значимости и адекватности того или иного аспекта ситуации для ее анализа. Операционализация контекста может быть сфокусирована как дискурсивная компетентность коммуникантов, т. е. способность выводить интенции и скрытые смыслы, импликатуры и пресуппозиции высказывания на основе общего знания, владения кодами, мыслительными операциями. Дискурсивная компетентность – категория когнитивного уровня, предшествующего уровню текстовой реализации.
Идея когнитивного интерфейса как необходимого связующего звена между речевой коммуникацией, общественной практикой и дискурсом последовательно развивалась в 1990–2000-е гг. в работах Т. ван Дейка, ориентированных на создание объяснительной теории контекста. Основная идея заключалась в том, что контекст может быть теоретизирован как ментальная модель (context model), как субъективная конструкция, как уникальный опыт участника коммуникации и одновременно коллективное знание. Контекстные модели, по ван Дейку, постоянно адаптируются к изменчивой социокультурной среде при интерпретации актуальной ситуации, см. напр.: [van Dijk 2008, 2009]. Создание целостной теории контекстуальных моделей остается дискуссионной и во всяком случае открытой задачей. Основным при таком подходе становится вопрос – как, собственно, можно определить, зафиксировать для оперативного анализа процесс адаптации участником коммуникации комплекса внешних действующих факторов при взаимодействии с заданной ситуацией. И этот вопрос остается открытым, его реальная верификация возможна на основе данных нейро- и когнитивных наук. Соответственно, попытки моделирования контекста, как и всякие ментальные процедуры категоризации, следует рассматривать как гипотезы, объяснительные возможности которых оцениваются только исходя из их внутренней непротиворечивости и соответствия исходным постулатам. Перспективы теоретизации контекста, очевидно, связаны не с лингвистическим инструментарием и методологическими возможностями лингвистики, но с аналитическим потенциалом социально ориентированных теорий, объясняющих процессы в социальных практиках, и с прорывами в когнитивных науках, моделирующих сложные процессы речемыслительной деятельности.
Критический анализ дискурса
Контекст по-разному операционализируется и с разной мерой допущения возможных действующих факторов используется в объяснении языковых структур в разных практиках. В определенном исследовательском подходе может задаваться особая координата в интерпретации текста. Может накладываться рамка на взаимодействие семантической структуры текста и его возможного понимания. Исследователь, руководствуясь целями, приоритетами своей поисковой деятельности, может выделять определенные контекстно зависимые характеристики в семантике и прагматике текста. В таком ракурсе дискурс становится для исследователя инструментом обнаружения тех внешних социально обусловленных факторов, которые он, исследователь, усматривает за использованием языка.
Именно такой подход реализован в критическом анализе дискурса (КДА), в практике социально ориентированного изучения языка (Critical Discourse Analysis, Critical Discourse Studies, Discourse Historical Approach), подр. см.: [Chilton 2004; van Dijk 1993a, 1993b, 2005, 2010; Fairclough 1995; Fairclough, Wodak 1997; Fairclough 2010; Jager 2009; Riesigl, Wodak 2001; Wodak, Riesigl 2009], аналитическом обзоре [Молоды-ченко 2015, 2016]. Рассматриваются формы социально-речевой практики, порождаемые властными идеологическими отношениями. Цель ана- лиза – показать в интерпретации текста зависимость языковых структур и форм от идеологически сконструированной формы социальной практики. Изучается не язык как таковой, но представления о широком идеологическом контроле, стоящем за (над) текстами. Идеология создает и поддерживает идентичность социальных групп в их целях, интересах, ресурсах и возможностях социального доминирования.
В центре внимания оказываются серийные высказывания, типичные, воспроизводящие стоящую за ними идеологию. В направлении критического дискурс-анализа, которое развивает австрийский исследователь Р. Водак, заданы дополнительные ракурсы, а именно идея о том, что в обществе различные идеологии, идентичности конкурируют друг с другом. Предметом критического анализа является отношение и различие между конкурирующими идеологиями. Так, центральной темой стал скрытый антисемитизм, ксенофобия общества. Объектом стали расистские, антисемитские, националистические, гендерные предубеждения, которые исследователи, практикующие КДА, прослеживали в австрийском и немецком обществе, в том числе на уровне обыденной коммуникации через анализ обыденных тривиальных высказываний, получающих националистическую, расистскую окраску и идеологические смыслы. Бытовые стереотипы рассматриваются как источник распространения ксенофобской, националистической идеологии. Критический анализ дискурса высветил различные формы ксенофобии и социального неравенства, в том числе те, которые отрицаются или замалчиваются, например, бытовой антисемитизм, расизм, «элитарный» расизм, сексизм в среде интеллектуалов, в академической среде и т. п.
Принципиально значимо, что в критическом анализе дискурса язык рассматривается как форма социальной практики, порождающей различные властные идеологические отношения. Связь идеологии, дискурса и определенного, такого и не иного, употребления языка не всегда осознается как таковая участниками коммуникации. Цель анализа – отрефлексировать эту связь как очевидную, системную, регулярно действующую; показать в интерпретации текста зависимость языковых структур и форм от идеологически сконструированной формы социальной практики.
Цели критического дискурс-анализа вызывают возражения у специалистов, практикующих «некритический» дискурсивный анализ. Обвинения в редукционизме КДА основаны в том числе на том, что концепция дискурса как социальной практики, детерминированной идеологически, не дает возможности для эмпирического лингвистического анализа, поисковой методики, см.
напр.: [Warnke, Spitzmüller 2008: 23]. Критикуется политическая ангажированность метода, при которой политический, идеологический аспект приобретает в анализе масштаб абсолютной эпи-стемической детерминации. Анализ реализуется как предзаданный поиск примет и проявлений идеологически обусловленной идентичности в текстовых структурах.
Соглашаясь с этим критическим взглядом, упомяну здесь, что выдвижение идеологического контекста как абсолютной детерминанты в понимании социально-речевых проявлений не является находкой именно критического анализа дискурса. Например, советская цензура, о которой упоминалось выше, выдвигала политическую составляющую контекста в практиках контроля. В СССР с 1922 г. существовал Главлит – Главное управление по делам литературы и издательств, осуществлявший всеохватывающий, придирчивый контроль в советском дискурсе как ценностно- правильной модели должного. Одновременно конструировался т. н. «антисоветский дискурс», в рамки которого притягивались вы-сказывания/тексты из художественных произведений, рутинные повседневные высказывания, заподозренные критикой в антисоветском подтексте. Это значит, что идеологическая критика делала заметными некие языковые единицы и объясняла их употребление как политически мотивированное нелояльное иносказание. Политическая составляющая в восприятии высказываний делалась основной, значимой. Так, литература для детей становилась объектом внимательной цензуры. Многие стихи К. Чуковского, как известно сегодня, были прочитаны в 1920– 30-е гг. как критика советского образа жизни. Строки из «Мойдодыра»: «А нечистым трубочистам // Стыд и срам, стыд и срам» были восприняты не как дидактическое назидание детям, но как высокомерное отношение к рабочей профессии, см.: «Комиссия Главсоца… требует выбросить «трубочистов» [Чуковский 1990: 240]. Строки из сказки «Тараканище»: «Он сидит и усами шевелит» прочитывались как отсылка лично к Сталину. Примеры такого прочтения и конструирования фантомного дискурса антисоветчины, приписывания нелояльных государству смыслов могут быть многократно продолжены, см. также: [Чернявская 2014].
Итак, в анализе отношений текста и его контекста возможны разные методологические подходы, влияющие на выводы интерпретатора. Некое высказывание может быть рассмотрено ин-традискурсивно, т. е. как составная часть дискурса, зависимая от заданных дискурсом смыслов. В этом случае дискурс как внешняя рамка генерирует и транслирует ценностные представ- ления, если понимать под ценностью «идеальное (когнитивное) образование – модель должного, задающую ориентиры человеческой деятельности … компонент надындивидуального, общественного сознания…» [Молодыченко 2015: 92]. «Дискурс действует как моделирующая система» [там же: 94].
Одновременно высказывание может само задавать условия для его понимания и оценки, т. е. порождать контекст для объединения своего смысла с другими. Например, многажды повторяющиеся высказывания на тему однополых браков, демократичен или нет их запрет, так ли они плохи или нет и т. п. создают фокус на теме, ее релевантности и контекст для ее выдвижения в пространство общественного внимания. Оформляется соответствующий дискурс. Следует согласиться, что «текстовые репрезентации не просто нейтрально отражают внешний мир, системы идентичностей и социальных отношений, но активно участвуют в их изменении и создании новых» [там же: 94]. Непосредственная «механика» взаимодействия дискурсивного пространства с конкретными текстами действует как «управление процессом вербализации: дискурс с вмонтированной в него системой ценностей определяет, какие элементы включать в текстовые репрезентации, а какие исключать, в каком порядке их комбинировать. С одной стороны, текст… «пассивно» формулирует некоторую ценностную позицию как само собой разумеющуюся. С другой стороны, текст может активно конструировать новые ценности или переформулировать старые…» [там же: 95]. Высказывания могут прочитываться определенным образом потому, что создается и поддерживается ценностное, идеологическое рамочное пространство, в котором они воспринимаются как однородные, серийные. Методологическим следствием здесь является следующее: высказывание / текст не только механически включается в существующий контекст. Высказывание само конструирует контекст, в котором оно будет интерпретировано.
Заключение
Выявление релевантных составляющих контекста, значимых и адекватных в анализе текстовых смыслов, остается актуальной и сложно решаемой задачей. Контекст не поддается кодификации и унификации, его операционализация не может быть формализована, сведена к системе очевидных языковых маркеров и кодифицированных процедур доступа к когнитивным моделям контекста, если снова сослаться на ключевые гипотезы Т. ван Дейка. Определение релевантного контекста обеспечивается не только лингви- стическим инструментарием в смысле применения методов семантического анализа, вывода импликатур и пресуппозиций и т. д. Это социально контролируемый процесс, он отражает проблему социального доминирования, контроля над каналами передачи информации. Следует согласиться, что релевантность контекста регулируется и детерминируется социальной практикой. Когерентность конструируется не только и не столько исходя из семантики языковых единиц и ситуативных знаний, сколько основываясь на значимости для участника коммуникации того или иного аспекта ситуации. Это в свою очередь основывается на доминирующем «прочтении», на коллективной практике понимания.
Работа с контекстом в практике лингвистического анализа означает определение и включение в анализ значимых характеристик актуальной практики в ее культурной, исторической, локальной обусловленности. Это не формальноструктурное, но динамическое взаимодействие смысла текста как сложного знака, соотнесенного с дискурсом, и смысла адресата, контролируемое дискурсивной компетенцией последнего.
Head of the Linguistic Technologies Research Center
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Список литературы Операционализация контекста в дискурсивном анализе
- Беляева Л. Н., Чернявская В. Е. Доказательная лингвистика: метод в когнитивной парадигме//Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. № 3. С. 77-84
- Гончарова Е. А. Стиль как антропоцентрическая категория//Studia Linguistica. 1999. № 8. С. 146-154
- Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текста. М.: УРСС, 2014. 336 c
- Золян С. Т. Текстоцентрическая семантика и теория перевода//Иностранные языки в высшей школе. 2013. № 2(25). С. 11-18
- Молодыченко Е. Н. Об операционализации категории «ценность» в текстовом и дискурсивном анализе: к вопросу о лингвистической аксиологии//Вестник Московского городского педагогического университета. 2015. № 3. С. 90-97
- Молодыченко Е. Н. Ценности и оценка в дискурсе консьюмеризма: лингво-прагматический и критический анализ//Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2016. № 3. С. 122-130
- Чернявская В. Е. Фантомы и синдромы дискурсивной парадигмы//Вопросы когнитивной лингвистики. 2014. № 1. С. 54-61
- Чернявская В. Е. Текст в медиальном пространстве. М.: УРСС, 2014. 232 с
- Чернявская В. Е. Прошлое как текстовая реальность: методологические возможности лингвистики в интерпретации исторического нарратива//Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. № 3(41). С. 76-87.
- Чернявская В. Е. Методологические возможности дискурсивного анализа в корпусной лингвистике//Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 6 (в печати)
- Чуковский К. И. От двух до пяти//Чуковский К. И. Собрание сочинений: в 2 т. М.: Правда, 1990. Т. 1. С. 71-404
- Шилихина К. М. Использование корпусов в исследованиях дискурса//Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. № 3. С. 21-26
- Щирова И. А. Текст и контекст в меняющемся мире//Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. № 1(7). С. 163-171
- Щирова И. А., Гончарова Е. А. Текст в парадигмах современного гуманитарного знания. СПб.: Книжный дом, 2006. 172 с
- Щирова И. А. О «правах» автора, читателя и текста//Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 2-3. С. 86-92
- Adamzik K. Textlinguistik. Tubingen: Niemeyer, 2004. 176 p
- Baker P. Using Corpora in Discourse analysis. London et al.: Continuum, 2006. 189 p
- Baker P., Gabrielatos C., Khosravinik M., Krzyzanowski M., McEnery T., Wodak R. A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourse of refugees and asylum seekers in the UK press//Discourse and Society. 2008. Vol. 19(3). P.273-306
- Beaugrande R. de. New Foundations for a Science of Text and Discourse: Cognition, Communication and the Freedom of Access to Knowledge and Society. Norwood; New York, 1997. 670 p
- Brinker K. Textlinguistik. Heidelberg: Groos, 1993. 48 S
- Chilton P. Analysing Political Discourse. London; Routledge, 2004. 226 p
- Dijk T. A. van Тext and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. Longman; London; New York, 1977. 261 p
- Dijk T. A. van Principes of critical discourse analysis//Discourse and society 4/2. 1993a. P. 249-283
- Dijk T. A. van Elite Discourse and Racism. Thousand Oaks, CA: Sage. 1993b. 251 p
- Dijk T. A. van Discourse and Racism in Spain and Latin America. Amsterdam: Benjamins, 2005a. 251 p
- Dijk T. A. van Contextual knowledge management in discourse production. A CDA perspective//R. Wodak and P. Chilton (eds.). A New Agenda in(Critical) Discourse Analysis. Amsterdam: Benjamins, 2005б. P. 71-100.
- Dijk T. A. van Discourse, context and cognition//Discourse Studies. 2006. № 8(1). P. 159-177
- Dijk T. A. van Discourse and Context: A socio-cognitive Approach. Cambridge University Press, 2008. 284 p
- Dijk T. A. van Society and Discourse. How Contexts influence Text and Talk. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 287 p
- Duranti A., Goodwin Ch. (Eds.) Rethinking Context: An Introduction//Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon (Studies in the Social and Cultural Foundations of Language). Cambridge University Press, 1992. P. 1-42
- Esser J. Introduction to English Text-linguistics. Peter Lang. Frankfurt/M, 2009. 209 p
- Fairclough N. Critical discourse analysis. The critical study of language. London; New York, 1995. 279 p
- Fairclough N. Language and power. London, 2010. 274 p
- Fairclough N., Wodak R. Critical discourse analysis//van Dijk T. A. (Hg.). Discourse Studies. A multidisciplinary introduction. Bd. 2: Discourse as social interaction. London: Sage, 1997. P. 258-284
- Jager S. Kritische Diskursanalyse. Eine Einfuhrung. Minster, 2009. 260 S
- Mautner G. Mining Large Corpora for Social Information: the Case of Elderly'//Language in Society. 2007. № 36(1). P. 51-72
- Reisigl M., Wodak R. Discourse and discrimination. Rhetorics of racism and anti-Semitism. London; New York, 2001. 246 p
- Sinclair J. Trust the Text. Language, Corpus and Discourse. Ruthledge; London; New York, 2004. 224 p
- Spitzmuller J., Warnke I. Diskurslinguistik. Eine Einfihrung in Theorien und Methoden der transtex-tuellen Sprachanalyse. W. de Gruyter, 2011. 236 S
- Warnke I., Spitzmuller J. Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik//Warnke I., Spitzmuller J. (Hgg.) Methoden der Diskurslinguistik. Walter de Gruyter; Berlin; New York, 2008. P. 3-54
- Warnke I., Spitzmuller J. (Hgg.) Methoden der Diskurslinguistik. Walter de Gruyter; Berlin; New York, 2008. 240 S
- Wodak R., Reisigl M. The discourse-historical approach (DHA)//Wodak R., Meyer M. (hgg.). Methods of critical discourse analysis. London; New Delhi, 2009. P. 87-121