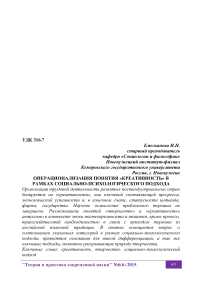Операционализация понятия "креативность" в рамках социально-психологического подхода
Автор: Емельянова И.Н.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 6 (6), 2015 года.
Бесплатный доступ
Организация трудовой деятельности развитых постиндустриальных стран базируется на «креативности», как ключевой составляющей прогресса, экономической успешности и, в конечном счете, статусности индивида, фирмы, государства. Научное осмысление проблемного термина не завершено. Размежевание понятий «творчество» и «креативность» актуально в контексте эпохи постсовремености и является, кроме прочего, транслейтинговой необходимостью в связи с приходом термина из английской языковой традиции. В статье освещается вопрос о соотношении указанных категорий в рамках социально-психологического подхода, приводятся основания для такой дифференциации, а так же ключевые подходы, поэтапно раскрывающие природу творчества.
Креативность, творчество, социально-психологический подход
Короткий адрес: https://sciup.org/140266996
IDR: 140266996
Текст научной статьи Операционализация понятия "креативность" в рамках социально-психологического подхода
Organization of work post industrial countries based on "creativity" as a key component of progress, economic success and, ultimately, the status of the individual, the company and the state. The scientific understanding of the term is not completed. The definition of "creativity" is necessary in the context of the era of post-modernity, and is, among other things, translating necessary in connection with the arrival of the English language the term tradition. The article discusses the relationship between these categories within the socio-psychological approach, as well as give reasons for such differentiation are some theories that gradually reveal the nature of creativity.
Понятие креативность (лат. Creation – создание, образ) означает творчество, а творчество, в самом общем смысле, - это создание новых материальных и духовных ценностей, чего-то, что до момента создания не существовало. В философии, психологии и социологии авторы, которые занимаются изучением этого феномена, дают собственные определения, вследствие чего ситуация с операционализацией данного понятия еще больше запутывается. Условно, все определения можно разбить на два больших блока: в традиционном понимании, творчество – это результат активности человека, который может быть выражен не только в материальном эквиваленте (сенситивном), но и в умозрительном (идеальном) – это первый блок. Содержание второго блока начинает формироваться относительно недавно – во второй половине XIX века, и связано с пониманием творчества как процесса активности человека. И если в первом случае определение продукта как творческого зависит от социокультурной обстановки, в условиях которой этот продукт создавался, то во втором случае отследить специфику творческого процесса в отличие от других видов процессов очень сложно. Как говорит известный исследователь этой проблематики Д. Б. Богоявленская, принципиальная спонтанность творческого процесса делает 90 его почти неуловимым для естественнонаучных методов познания.
Кроме того, транслейтинговая необходимость еще более усугубила проблему в российской социальной науке, т.к. появился новый термин со старым значением. Авторы затрудняются с переводом англоязычного термина creativity в его русский эквивалент. Очевидно, что в реалиях постсовременности творчество и креативность становятся дифференциальными понятиями.
В повседневности понятие творческой активности всегда отделялось от понятия деятельности, трудовой активности. Принципиальное отличие этих категорий отмечалось многими философами и психологами (Г. С. Батищев, Я. А. Пономарев, В. М. Вильчек, И. Шумпетер, В. Н. Дружинин). Так, Я. А. Пономарев, в своей статье «Фазы творчества и структурные уровни его организации» утверждает, что для творческого акта характерен диссонанс между целью и результатом в силу следующего обстоятельства: «помимо
90 Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.320 с.
прямого, осознаваемого продукта действия, отвечающего сознательно поставленной цели, в составе результата действия содержится побочный, неосознаваемый продукт, возникающий вопреки сознательному намерению и складывающийся под влиянием тех свойств предметов и явлений, которые включены во взаимодействие, но не существенны с точки зрения цели действия. Побочный продукт не осознается тем, кто его производит, однако при определенных условиях субъектный полюс побочного продукта, т. е. неосознанное отражение его объектного полюса, может регулировать последующие действия человека, создавшего этот продукт, в частности, приводить к решению творческой задачи. Осознание факта решения происходит при этом неожиданно».91 Таким образом, «побочный, неосознаваемый продукт» активности становится началом творческого процесса, в отличие от нетворческой деятельности, когда активность прекращается с достижением поставленной цели.
Вильчек подчеркивает глобальное различие между трудом, как формой целерациональной деятельности и творчеством: «…в критических ситуациях всегда будут выявляться различия между творчеством и трудом, выявляться грубо и зримо. Человек никогда не борется за право трудиться — даже если и выступает под лозунгом за право на труд. На самом деле он борется за право иметь средства к существованию и за свой социальный статус. Но за право на творчество, за созданные ими идеи, образы люди шли на костер. (...) потому что творчество, будучи деятельностью, абсолютно необходимой для существования общества, это в то же время и самоцельная, потребитель- 92
ская деятельность, замена утраченного инстинкта».
Но главное в творчестве – акт «создания» - это не внешняя, а внутренняя активность. Рассуждая о признаках творческого процесса, и исследователи, и сами творцы подчеркивают его бессознательность, спонтанность, измененность состояния сознания.
Российский психолог Дружинин так развивает эту мысль: состояние отрешенности от собственного «Я», когда отсутствует ощущение личной заслуги в создании творческого продукта, приводит к неожиданному эффекту - творец с равнодушием, а порой и отвращением, начинает относиться к своему произведению. Возникает посттворческая сатурация. Творец отчуждается от продукта. Подобного мы не увидим при анализе целерациональной деятельности, в этом случае следует говорить о противоположном – «эффекте вложенной деятельности». Чем больше человек вложил усилий для достижения цели, тем большую эмоциональную значимость этот продукт для него приобретает. 93
Таким образом, деятельность имеет телеологическую природу, творчество спонтанно. Деятельность рациональна, сознательно регулируема. Творчество иррационально, момент творческого акта не поддается регуляции сознания. Результат деятельности человека имеет для него эмоциональную ценность, результат творчества может приводить к эмоциональному отчуждению творца от конечного продукта.
В психологической науке обозначилось несколько подходов к трактовке природы креативности (творчества). Эти точки зрения превалировали в различные периоды развития человеческой мысли. Условно их можно представить в виде 4-х основных направлений: психофизиологического (Ч. Ломброзо, У. Бодерман, Х. Айзенк, А. Кропли, Л. Кронбах), когнитивного (Л. Термен, Ч. Спирмен, Н. Марш, Ф. Верной, С. Берт), личтостно-мотивационного ( Л. Терстоун, Дж. Гилфорд, К. Матиндейл, Т. Амабайл, М. Коллинз, Л. Кэттел) и синтетического (Р. Стернберг, Дж. Рензулли, А. Танненбаум, Д. Б. Богоявленская, К. Тейлор).
Психофизиологический подход хронологически появился раньше остальных, представляет собой первые попытки объяснить природу творчества, хотя это направление в исследованиях живо до сих пор и предлагает весомые аргументы. Основополагающий тезис здесь следующий: творческая личность и личность с психическими нарушениями имеют схожую, а именно, девиантную природу поведения. Впервые этот вопрос поднимает в середине XIX века психиатр Моро де Тур. М. Арнаудов, анализируя теорию французского автора, пишет следующее: «Моро настаивает на родстве между вдохновением и маниакальными состояниями, как оно проявляется в быстрых и непредвиденных ассоциациях представлений, в оригинальном и живом воображении, в чувствительности, превосходящей нормальные размеры. И, изучив биографии весьма знаменитых людей со стороны невропатических симптомов, он спрашивает себя: гений, то есть наивысшее выражение nec plus ultra интеллектуальной деятельности, не представляет ли собой невроз?»94
Подобной точки зрения придерживается Ч. Ломброзо. Перечисляя характерные черты гениев, он говорит об их сходстве с помешанными: «в психической деятельности тех и других есть немало общих черт, например, усиленная чувствительность, экзальтация, сменяющаяся апатией, оригинальность эстетических произведений и способность к открытиям, бессознательность творчества и употребление особых выражений, сильная рассеянность и наклонность к самоубийству, а также нередко злоупотребление спиртными напитками и, наконец, громадное тщеславие.» 95
Гипотеза о единой природе гениальности и безумия возрождается в наши дни. Кропли утверждает, что люди с высокими творческими показателями и люди с шизофреническими расстройствами способны устанавливать отдаленные ассоциации, в исследованиях отмечается сходство мыслительных алгоритмов тех и других. Схожий алгоритм проявляется в векторе оригинальности – предлагаемые варианты решений необычны, имеют специфическую комбинаторику, идеи отклоняются от культурных норм. В качестве источника неординарных решений и шизоидный и творческий типы используют периферическую информацию, механизмом выступает расфокусированность внимания. Однако, шизофреники не способны объединить контекстуальную информацию главной идеей, в отличие от творчески одаренных субъектов. 96
В XIX веке эволюционная теория Дарвина сострясает основы устоявшегося мировоззрения и вынуждает переосмыслить сущность человеческой природы. Способности homo sapiens предстают в новом свете – как придаточные характеристики ключевого отличительного признака этой природы – мышления. С этого момента одной из ключевых задач социо-гуманитарных наук выступает необходимость изучения интеллекта, как первичной составляющей мышления. Феномен творчества в этом контексте трактуется как форма высокого уровня мобилизации интелекта – это базовая идея когнитивного подхода.
Фрэнсис Гальтон одним из первых предположил, что дать оценку высших интелектуальных процессов можно путем измерения сенсорных процессов и времени реакции.97 Для обозначения такого короткого психологического испытания был предложен термин «тест». Идея Гальтона казалась перспективной, так как позволяла решить проблему определения интеллекта точными измерениями простых психофизиоолгических функций. Однако массивный эмпирический материал, накопленый в течение многих лет тестирования, а так же достижения в науке и искусстве демонстрируют отсутствие жесткой корреляции между уровнем интелекта и творческими способностями человека. В силу этого существующий когнитивный подход не смог удовлетворить социальный заказ нового, постиндустриального общества на выявление у людей творческого потенциала.
В 50-е годы XX века назрела потребность выделить способность к творчеству как отдельную структурную единицу личности, не сводимую к интеллекту. Американский психолог Джой Гилфорд, отходит от традиционного деления мышления на индуктивное и дедуктивное. Он рассматривает их как факторы одного порядка, как однонаправленное – конвергентное – мышление. А поскольку невозможно решить проблему, оставаясь на том же уровне сознания, на котором она была создана, Гилфорд вводит новый атрибут, который преодолеет замкнувшийся круг когнитивного подхода. Этим атрибутом явилось понятие дивергентного мышления.
«При операциях дивергентного мышления мы мыслим в различных направлениях, иногда исследуя, иногда отыскивая различие. В процессе конвергентного мышления информация приводит нас к одному правильному ответу или к узнаванию лучшего, или обычного ответа.»98 Конвергенция позволяет при решении задачи из множества решений найти единственно верное (автор отождествляет этот тип мышления с интеллектом), дивергенция же – это ненаправленное мышление, способность видеть другие атрибуты объекта.
Таким образом, понимание природы творческих способностей от непосредственного отождествления их с интеллектом перешло к их полному противопоставлению. В рамках нового подхода творческие способности имеют свою локализацию и существуют вне общих и специальных способностей. Чтобы подчеркнуть это, Гилфорд вводит коэффициент креативности – Cr, в противовес IQ – показателю интеллекта.
Для дивергентного мышления психолог выделяет следующие параметры: беглость мысли (количество идей, возникающих в единицу времени), гибкость мысли (способность быстро переключаться с одной идеи на другую), оригинальность (способность порождать идеи, которые отличаются от общепризнанных), любознательность (чувствительность к проблемам окружающего мира) – это основные индикаторы. Позднее психолог дорабатывает этот перечень, добавляя «способность к обработке гипотезы», «иррелевантность» (логическая независимость реакции от стимула), «фантастичность» (полная оторванность ответа от реальности при наличии логической связи между стимулом и реакцией).
Личностный подход Гилфорда вывел психологию творчества на новый уровень развития, определив креативность в качестве самостоятельной личностной характеристики, освободив ее от ярлыка абстрактной «общей способности» и придатка интеллекта.
Однако, вопрос о соотношении творчества и интеллекта оставался открытым. В связи с этим Д. Б. Богоявленская в своем труде «Психология творческих способностей» дает краткий обзор цикла исследований, проводимых зарубежными психологами. К. Тейлор и Д. Холанд (1962) выявили, что интеллектуальность и креативность тесно связаны между собой, и даже оценили последнюю как «особую точку» индивидуальных свойств, которая неотделима от интеллектуальности. Р. Марч, М. Эдвардс (1964, 1966) получили данные с высокой корреляцией между IQ и Cr. Д. Мэккинон (1962), К. Якимото (1964) и П. Торренс (1967, 1980) пришли к выводу, что для проявления креативных характеристик необходим определенный уровень развития интеллекта. Эта идея воплотилась в «теории порога» или «теории ветвления»: креативность и интеллектуальность связаны между собой до определенного уровня, выше которого креативность становится независимой переменной.99 Указанный синтетический подход является наиболее полным и всесторонним вариантом изучения творчества на сегодняшний день в психологии.
Российский психолог, исследователь проблематики творчества и одаренности Д. Б. Богоявленская, задаваясь вопросом как можно измерить «спонтанность», пришла к выводу, что традиционные методы эксперимента не могут привести к радикальному решению проблемы – для этого нужен принципиально новый подход. Тогда была предложена модель, которая получила название «метод креативного поля». Единицей анализа, в этом случае, выступает «интеллектуальная активность», которую Богоявленская определяет как «инициативу изнутри», синтез умственных способностей и мотивационной структуры личности, т.е. «продолжение мыслительной деятельности за пределами ситуативной заданности».100 В результате применения нового метода, психолог определяет три уровня интеллектуальной активности: стимульно-продуктивный или пассивный, эвристический и креативный. Первый уровень характеризует социального, но не творческого индивида, который остается в рамках заданного или найденного пути действия, что говорит о внешней активизации мыслительной деятельности и об отсутствии интеллектуальной инициативы. Второй уровень предполагает проявление интеллектуальной активности – испытуемый имеет достаточно надежный способ решения, но продолжает искать, сопоставлять задачи, что приводит к «творческим находкам». Однако такие находки расцениваются эвристом как «свой» способ решения, таким образом, формируется предел интеллектуальной активности. Третий уровень – высший – обнаруженная закономерность рассматривается индивидом не как способ решения задачи, а как самостоятельная проблема, ради которой испытуемый даже готов прервать экспериментальную деятельность.
В работах Богоявленской мы сталкиваемся с противоречивостью трактовок понятий творчества и креативности. Автор использует их подчас как синонимичные, иногда в разных смысловых контекстах, но так и не вносит ясность в соотношение и определение указанных терминов. Отсюда остается неясным, являются ли вышеперечисленные уровни интеллектуальной активности этапами проявления творчества, можно ли говорить о творчестве на эвристическом уровне или следует отказать ему в этом. Креатив в этом контексте является творцом или интеллектуалом? Ответы на эти вопросы может дать только сама профессор Д. Б. Богоявленская.
Профессор Йельского университета Роберт Стернберг предложил иную компонентную теорию в анализе феномена творческой одаренности. По его мнению, процесс творчества возможен при наличии трех интеллектуальных способностей: синтетической, аналитической и практическо- контекстуальной. Синтетическая способность предполагает видение проблемы в новом свете, выход за рамки привычного образа мышления. Аналитическая способность позволяет дать оценку новым идеям, а именно отделить перспективные идеи от неперспективных. Практическо-контекстуальная способность необходима для убеждения «других» в ценности той или иной идеи, это умение «продавать» творческие идеи. Если из перечисленных способностей максимально развита какая-то одна, это приводит к формированию иного, нежели творческого, типа личности.
Согласно этой теории, творческими людьми можно назвать личностей, которые готовы и способны «покупать идеи по бросовой цене, а продавать по дорогой». 101 Это значит, что перспективные идеи, которые по каким-либо причинам отвергаются обществом и не популярны необходимо разработать, популяризировать, затем продать и двигаться дальше. Интересно, что подобный подход не нов. Австрийский и американский экономист Й. Шумпетер предполагал именно такую линию поведения для «предпринимателя». Истинный «предприниматель» тем и отличается от «управленца» и «собственника», что свою задачу видит в воплощении и реализации новых перспективных идей, а когда предприятие добивается успеха, бросает свое «детище» и отправляется на поиски новых горизонтов. Согласно инвестиционной теории Стернберга, для творчества необходимо шесть взаимосвязанных компонентов: интеллектуальных способностей, знания, стилей мышления, личностных характеристик, мотивации и среды. Чтобы выйти за пределы поля и увидеть новые возможности идеи, необходимо знать, где у поля располагаются границы. С другой стороны, часто эти знания и замыкают способности индивида двигаться дальше, «закрывают» перспективы.
Говоря о стилях мышления, американский психолог акцентирует внимание на «предпочтениях думать по-новому» - такой стиль он называет законодательным, и говорит о том, что, согласно исследованиям, лишь немногие школы в США поощряют подобное мышление, наоборот, за проявление «творческости» учащихся часто наказывают низким баллом. Автор так же говорит о значимости личностных качеств для возможности творческого процесса. К таким качествам он относит: готовность преодолевать препятствия, принимать на себя разумный риск, терпеть неопределенность – этот перечень не ограничен (и снова мы видим черты шумпетеровского предпринимателя). И, конечно, необходима окружающая среда, которая награждает и поддерживает творческие идеи. Без такой поддержки реализация нового практически невозможна, а творческие способности внутри индивида могут не проявиться.
Интересно, что даже вне контекста переноса терминов из англоязычной традиции в русскоязычную, в концепции Стернберга наблюдается противоречие в определениях понятия творчества. В описании важности компонентов творческого процесса, психолог то говорит о творчестве как о глубоком внутреннем интимном процессе, то наоборот, приписывает творческой личности характеристики предпринимателя, которые противоречат классическому психологическому понимаю феномена творчества.
На примере синтетических теорий видно, что реалии постсовременности диктуют новую трактовку этому термину. В «творчество» 50-х добавляют такие качества как рациональность, предприимчивость, прагматизм. Практически все творчество, о котором говорит Стернберг, нацелено на прагматику и прибыль, что скорее является креативностью, нежели творчеством в чистом виде. Предыдущий анализ показал, что в классической трактовке творчество ориентировано на самореализацию личности, на ценностную составляющую ментальности общества, созвучно с понятием альтруизм. Новое творчество – креативность - в ситуации постиндустриального общества является, скорее, экономической характеристикой, нежели культурной, отсюда и разность в определении личностных черт творца и креатива, разность в мотивах, разность в ориентации – альтруистической и прагматической.
Таким образом, Творчество = (инновационная спонтанная активность + создание идей, новых форм, ценностей + дивергентное мышление + девиантное поведение) + доминанта бессознательного над сознанием в момент творческого акта + иррациональная активность + идеологическая ориентация + досуговая сфера активности + принадлежность к культурной подсистеме. Тогда Креативность = (инновационная спонтанная активность + создание идей, новых форм, ценностей + дивергентное мышление + девиантное поведение) + доминанта сознания над бессознательным + целесообразная активность (деятельность) + прагматическая ориентация + сфера активности: работа как социально регламентированная деятельность + принадлежность к экономической подсистеме + значимость среды.
Список литературы Операционализация понятия "креативность" в рамках социально-психологического подхода
- Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.- 320 с.
- Пономарев Я. А. Фазы творчества и структурные уровни его организации //Вопросы психологии. 1982. №2, стр. 5 - 13 [Режим доступа] http://www.voppsy.ru/issues/1982/822/822005.htm (дата обращения 8.02.12)
- Вильчек Вс. Алгоритмы истории. - М.: Аспект-Пресс, 2004.- 219 с. [Режим доступа] http://4itaem.com/book/algoritmyi_istorii-361042 (дата обращения 15.02.12)
- Дружинин В. Н. Психология общих способностей. - СПб.: Издательство «Питер», 1999. - 368 с.: (Серия «Мастера психологии»)
- Арнаудов М. Психология литературного творчества. - М.: Прогресс, 1970. - 650 с. [Режим доступа] http://www.razym.ru/naukaobraz/psihfilosofiya/197464-mihail-arnaudov-psihologiya-literaturnogo-tvorchestva.html (дата обращения 2.03.12)
- Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство.- Минск: Поппури, 2000. [Режим доступа] http://review3d.ru/chezare-lombrozo-genialnost-i-pomeshatelstvo (дата обращения 9.02.12 )
- Cropley A. J. Definition of creativity// Encyclopedia of creativity / M.A. Runco and S.R. Pritzker (eds.). - San Diego et al.: Academic Press, 1999. - V.1, pp 511 - 524 [Режим доступа] http://bookre.org/reader?file=1038265&pg=531 (дата обращения 13.09.12)
- Ярошевский М. Г. История психологии от античности до середины ХХ века. - М.: Академия, 1996. - 416 с. [Режим доступа] http://www.kodges.ru/74631-istoriya-psixologii-ot-antichnosti-do-serediny-xx.html (дата обращения 15.03.12)
- Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта /Психология мышления. Сборник переводов с немецкого и английского. Под ред. А. М. Матюшкина.- М.: Прогресс, 1965.- стр. 433 - 457
- Стернберг Р., Григоренко Е. Учись думать творчески. /Основные современные концепции творчества и одаренности. Под ред. Д. Б. Богоявленской. - М.: Молодая гвардия, 1997. - стр. 186 - 214.