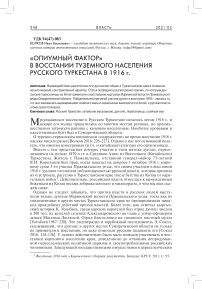«Опиумный фактор» в восстании туземного населения Русского Туркестана в 1916 г.
Автор: Иван Васильевич Волков
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
Взаимодействие царской власти и дунганских общин в Туркестанском крае в основном носило мирный, конструктивный характер. Статья посвящена рассмотрению причин, по которым дунганские переселенцы из Китая примкнули к восставшим кыргызам Мариинской волости Пржевальского уезда Семиреченской области. Побудительной причиной участия дунган в восстании 1916 г. явилось то, что они занимались выращиванием опийного мака и незаконным вывозом его в Китай, а русская власть этому препятствовала.
Русский Туркестан, китайские мусульмане, дунгане, переселенцы, опийный мак
Короткий адрес: https://sciup.org/170174614
IDR: 170174614 | DOI: 10.31171/vlast.v29i2.8054
Текст научной статьи «Опиумный фактор» в восстании туземного населения Русского Туркестана в 1916 г.
М усульманское восстание в Русском Туркестане началось летом 1916 г., и вскоре его волны прокатились по многим местам региона, но преимущественно затронули районы с кочевым населением. Наиболее кровавым и ожесточенным бунт был в Семиреченской области.
О турецко-германском шпионском «содружестве» во время восстания 1916 г. мы уже писали ранее [Волков 2018: 226-227]. Однако у нас нет оснований полагать, что именно иностранная (в т.ч. и китайская) агентура его организовала.
Вместе с тем представляет интерес участие в этом мятеже дунган, переселившихся на исходе 1870-х гг. в Среднюю Азию из Восточного (Китайского) Туркестана. Житель г. Пржевальска, отставной генерал-майор 73-летний Я.И. Корольков был прав, когда показал на допросе 1 октября 1916 г. мировому судье 3-го участка Пржевальского уезда, что своим участием в восстании 1916 г. дунгане отплатили неблагодарностью русской власти, которая приняла их и устроила, расселив в Туркестанском крае после бегства из Китая от карательных войск1. Действительно, российская власть отнеслась к вынужденным беженцам из Китая весьма доброжелательно и милосердно, о чем мы еще скажем ниже.
Однако не следует забывать, что против власти и русских людей выступили только дунгане Мариинской волости Пржевальского уезда, тогда как их соплеменники в других местах Туркестанского края не предпринимали никаких враждебных действий против властей. Более того, как отмечал кыргызский историк К. Усенбаев, среди царских карателей был отряд дунган числом в 200 чел. из жителей селения Александровского во главе с унтер-офицером запаса Матанью Люлюзой. Отряд благословил на «подвиги» местный мулла [Усенбаев 1967: 220]. Это подтверждал и зарубежный исследователь Э. Сокол, указывавший, что дунгане в других местах Семиреченской области не только не примкнули к восстанию, но даже помогали русским подавлять его [Сокол 2016: 134-136]. У дунган действительно было мало поводов участвовать в восстании коренного населения края, доведенного до отчаяния непродуманной переселенческой политикой царизма и злоупотреблениями российских чиновников. Заведующий государственными имуществами и переселенческим делом в Семиреченской области В.А. Гончаревский писал 17 ноября 1916 г. в Переселенческое управление, что «самый бедный дунганин в Семиреченской области имел состояние не менее как на 8 на 10 тысяч рублей»1. Это подтверждает и Э. Сокол, указывая, что дунгане и уйгуры, бежавшие в Русский Туркестан из Китая, «процветали больше, чем киргизы» [Сокол 2016: 43].
Вместе с тем участие дунган Мариинской волости Пржевальского уезда в восстании 1916 г. является неопровержимым фактом, что подтверждается многими документами и материалами2. Точно известно, что они присоединились к восставшим кыргызам 11 августа 1916 г. Судебный следователь Верненского окружного суда 21 сентября 1916 г. допросил жителя г. Пржевальска Ивана Алексеевича Поцелуева, который отмечал, что «дунгане не щадили никого, даже грудных младенцев истребляли эти звери… дунгане девочек-подростков разрывали на две части, наступив на одну ногу, за другую тянут кверху, пока жертва не разделится на две половины»3. Во «всеподданнейшем» отчете и.д. военного губернатора Семиреченской области полковник А.И. Алексеев о положении в области в 1916 г. писал, что «дунгане присоединились к мятежникам, и помогают им ловить по дорогам и убивать беженцев»4. В документах указывается, что дунгане примкнули к восставшим, жестоко расправлялись с русскими из соседних сел, «посылали в Пржевальск телеги живого мяса»5. Военный губернатор Семиреченской области генерал-лейтенант М.А. Фольбаум писал 18 августа 1916 г. туркестанскому генерал-губернатору А.Н. Куропаткину, что дунгане в Пржевальском уезде ведут активную пропаганду уничтожения русских и «очевидно, что корни мятежа в руках китайских изуверов (прибывших из Китая. – И.В .), руководимых немцами»6.
Сама история дунганского народа до и после его поселения в Средней Азии свидетельствует о том, что у него не было генетической ненависти к русским людям и их вере. У дунган были свои исторические счеты с китайскими властями, против которых они не раз восставали вместе с другими мусульманами Поднебесной. Англичанин Белью, доктор медицины, майор, врач британской миссии в Кашгар 1873 г., писал в 1875 г., что дунгане «были китайскими мусульманами секты Шафи, и в последние полстолетия доказали честность свою пекинскому правительству стойкой преданностью и верной службой» [Белью 1877: 3]. Но администрация империи Цин не оценила этого и угнетала дунган, а потому они «всюду в одно время восстали против императорского правительства, и всюду произвели резню и грабеж»7. Они вырезали китайские гарнизоны в Аксу и Уч-Турфане. В других крепостях Восточного Туркестана китайские гарнизоны вначале оборонялись, но потом все были истреблены. Однако со временем восставшие дунгане стали терпеть поражения.
Военная разведка сообщала, что в 1877 г. повстанцы-дунгане во главе с Биян-Ху и Сяо-Ху в течение 5 дней сражались против карателей Цзо Цзун-тана, но не смогли устоять, т.к. китайский генерал имел 35–40 тыс. войска, а вместе с местными китайскими «ополченцами» у него было свыше 70 тыс. сол- дат1. Начальник Азиатской части Главного штаба полковник А.Н. Куропаткин 8 января 1879 г. составил справку, в которой писал о Биян-Ху (Баян-ахуне), отмечая, что в декабре 1877 г. он возглавил переход тысяч дунган на российскую территорию. Он писал, что командующий китайскими войсками в Кашгарии «дзянь-дзинь» Лю Шо, узнав о бегстве Баян-ахуна в пределы России, направил военному губернатору Семиреченской области генерал-лейтенанту Г.А. Колпаковскому «письмо с требованием выдачи как Баян-ахуна, так и многих других»2. Однако, как писал А.Н. Куропаткин, российское правительство даже и не помышляло об этом3.
Переселение дунган на территорию Туркестанского края обычно связывают с поражением мусульман в их восстании 1862–1877 гг. против китайских властей в Восточном Туркестане. Однако оно началось раньше – после того как российские войска временно оккупировали Кульджинский район Поднебесной. Это подтверждается материалами газеты «Туркестанские ведомости»4. Касаясь же проблемы массового переселения дунган на территорию Туркестанского края, исследователи пишут главным образом об отряде дунган численностью около 3,3 тыс. чел., который в декабре 1877 г. под предводительством Бай Яньху, преодолев перевал Торугарт, прибыл в крепость Нарын, после чего они были отправлены в город Токмак и расселены недалеко от него в урочище Каракунуз. 29 января 1879 г. туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман направил военному министру Д.А. Милютину «Общий очерк положения дел в 1878 году на границе Туркестанского военного округа и Азиатских владений, с нею сопредельных»5. В нем, в частности, отмечалось, что «последствием бесчеловечного обращения китайцев с населением завоеванной ими страны была эмиграция 3 314 чел. дунган. 27 декабря 1877 года они прибыли в Токмак»6. Бай Яньху приложил немало усилий для обустройства единоплеменников на новом месте жительства, во многом вдохновлял их личным примером. Он умер, оплакиваемый всеми, в 1882 г. Но его отряд не был первым среди дунган-переселенцев.
Первая группа переселенцев-дунган численностью в 1,1 тыс. чел. еще в начале ноября 1877 г. перешла российско-китайскую границу в районе перевала Бедель и оказалась в Караколе – центре Иссыккульского уезда Семиреченской области. Ее возглавлял Юсуф Да Сыфу (Ае Лаожень), сын Ма Хуалуна – вождя актикитайского восстания в провинциях Ганьсу и Нинься. Дунгане были устроены в селении Мариинском одноименной волости этого уезда (ныне с. Ирдык). Исследователь М.Х. Имазов указывает, что «религиозные обряды ирдыкских дунган несколько отличаются от религиозных обрядов соплеменников из других мест. Отличие это является порождением исламского течения «джехрия», приверженцами которого являются они и их предки из знаменитого рода Ма [Имазов 2003: 147]. Именно эти дунгане во главе с архитектором и строителем Чжоу Сы создали в городе Караколе мусульманскую мечеть в традиционном китайском стиле, которая по сей день считается историческим памятником не только регионального, но и всемирного масштаба.
Другую группу численностью около 1 тыс. чел. в 1877 г. привел из Кашгарии
Ма Дажень. Его отряд преодолел перевал Иркештам и прибыл в город Ош, после чего часть дунган осталась в Ферганской области, а остальные поселились в Ташкенте и близ города Аулие-Ата (ныне г. Тараз). Русский исследователь В.С. Кадников писал, что к декабрю 1877 г. на русскую территорию, спасаясь от китайских карателей, перешло много мусульман-дунган и пр. Он подчеркивал: «Это были все мусульмане… и милосердная Россия всех их приняла как братьев по христианскому завету» [Кадников 1911: 900]. В.С. Кадников отмечал, что массовое бегство мусульман Восточного Туркестана (дунгане, уйгуры, казахи, кыргызы и др.) от зверств китайских карателей генерала Цзо Цзун-тана в 1877–1878 гг. как раз совпало с Русско-турецкой войной, в которой Россия сражалась против «гегемона» мирового ислама. И в то же время Россия явилась «покровительницей мусульман… В русских пределах ищут убежища все, кому грозит опасность. Дунгане и кашгарцы толпами идут к нам просить защиты от китайцев. Десятилетнее владение русских в Средней Азии воспитало во всех окрестных мусульманских странах полное убеждение не только в непобедимости русских, но и в их гуманности»1.
Дунгане перебрались на российскую сторону в ужасном состоянии2, но они быстро устроили свой традиционный жизненный и религиозный быт. Дунган расселили преимущественно в разных местах Семиреченской области, хотя их некоторая часть оказалась в Сырдарьинской и Ферганской областях. Полковник Генерального штаба Л.Ф. Костенко писал: «Для русских дунгане, переселившиеся в наши пределы, составили поистине приобретение. Они усилили колонизационный элемент наших пограничных областей и, кроме того, в случае войны с китайцами, составят надежную милицию, которая окажет значительную помощь нашим войскам» [Восстание 1916 г…. 2017: 132].
Известный дунганский историк М. Сушанло отмечает, что с 1892 г. дунгане стали призываться на военную службу3. Мы считаем нелишним заметить, что военнослужащие-дунгане отличались дисциплинированностью, ответственностью и храбростью. Дунганин Ван Дагэр прославился в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг. и стал полным георгиевским кавалером.
Повсеместно в дунганских поселениях со временем появлялись мечети, мусульманскиеприходскиешколыирусско-туземныеучилища.Переселившись в Туркестанский край, дунгане получили права самоуправления на основании общих узаконений проекта Туркестанского положения 1867 г. Это обстоятельство сохранило свою силу и после издания нового Положения об управлении Туркестанским краем от 12 июня 1886 г. В Степном положении от 25 марта 1891 г.4 законодатель специально ввел раздел «Управление дунган и таранчей» в виде пункта 2 («Б»), отделения 3, главы 2 закона. Таким образом, он допускал отдельные дунганские поселения. Кроме того, дунгане сохранили и свой традиционный суд. Так, Дунганская волость Джаркента (300 дворов) избирала 2 судей5. Капитан А.А. Давлетшин, командированный в Туркестанский край для проверки деятельности народных судов, отмечал в своем отчете, что в дун- ганском народном суде почти нет дел о воровстве, зато много дел об оскорблениях, «взаимном действии» (драках. – И.В.) и т.п.1
Было бы ошибочным полагать, что между царскими властями и переселившимися дунганами существовали полное доверие и согласие. Отнюдь. Царские власти не доверяли дунганам полностью, особенно представителям их элиты. Все вожди бывшего дунганского восстания находились под негласным надзором военной полиции, но проверялись также и на дому, открыто – полицейскими чинами. Наблюдали и за членами их семейств, их контактами с родственниками и соплеменниками в Китайском Туркестане, с мусульманами других этносов, с русскими, с властями и т.п. Это было нелишним, т.к. дунгане быстро освоили выращивание опийного мака, особенно в Иссык-кульском уезде, к сбыту которого привлекали и соплеменников из других мест края.
Российское правительство положительно оценивало хозяйственные способности дунган и во многих случаях шло им навстречу2. Но эти способности не всегда развивались в нужном направлении. 8 октября 1897 г. МВД в отзыве на проект Министерства юстиции о распространении Судебных уставов 1864 г. на «степные» области и Туркестанский край отмечало, что стараниями дунган в Средней Азии расцвело производство опийного мака, продажа этого наркотика и других «сильнодействующих средств»3. Министр внутренних дел И.Л. Горемыкин писал, что народные суды «туземцев» могли бы на основании ст. 141 Положения об управлении Туркестанским краем 1886 г. осуждать дунган и иных наркоторговцев, однако они этого не делают4. Дунгане в Пржевальском уезде официально занимались выращиванием опиума и должны были сдавать его властям по низким ценам, т.к. опиум, особенно во время войны, был очень нужен армии как обезболивающее средство. Но они устроили контрабандный вывоз опиума в Китай, получая от этого огромную прибыль. С ними безуспешно боролись на этом поприще, и они были недовольны русской властью. Поэтому они примкнули к восстанию и устроили много зверств. Но когда начали действовать карательные отряды, то дунгане первыми побежали в Китай, где имели родственные и торговые связи. Благочинный церквей Пржевальского уезда протоиерей Михаил Заозерский, настоятель Пржевальского городского собора, писал 14 сентября 1916 г. епископу Туркестанскому Иннокентию о том, что творилось в Пржевальском уезде во время восстания. При этом он возлагал большую долю вины на дунган, которые выращивали опийный мак и являлись «китайскими мусульманами»5.
Заведующий Верненским розыскным пунктом Департамента полиции МВД, Отдельного корпуса жандармов ротмистр В.Ф. Железняков 16 ноября 1916 г. отмечал на допросе у следователя Верненского окружного суда, что дунгане были главными владельцами опиумных плантаций в Семиреченской области и правительственный зажим опиумного дела подвигнул дунган к участию в восстании 1916 г.6 Исследователь Т.В. Котюкова также указывает на наличие опиумного фактора в восстании 1916 г. [Котюкова 2016: 61].
Из приведенного выше следует, что взаимоотношения царской власти и дунганских общин в Туркестанском крае были неровными и неоднозначными. Однако их характер был далек от агрессивного и воинственного противостояния, чреватого открытым и вооруженным столкновением. Что касается участия в восстании 1916 г. дунган Мариинской волости Пржевальского уезда Семиреченской области, то, по нашему мнению, оно было вызвано специфическими пружинами, связанными с опиумными махинациями и с вовлеченностью местных дунган в китайский наркобизнес, который имел сильные позиции в Восточном Туркестане – провинции Синьцзян.
Список литературы «Опиумный фактор» в восстании туземного населения Русского Туркестана в 1916 г.
- Белью Г.У. 1877. Кашмир и Кашгар. Дневник английского посольства в Кашгаре в 1873–1874 г. Санкт-Петербург: Тип. т-ва «Общественная польза». 309 с.
- Волков И.В. 2018. Роль России в исторических судьбах народов Средней Азии: дореволюционный период. М.: Авторская Академия. 584 с.
- Восстание 1916 г. в Азиатской России: неизвестное об известном (К 100-летию Высочайшего повеления 25 июня 1916 г.): коллективная монография. 2017. М.: Русский импульс. 528 с.
- Имазов М.Х. 2003. Дунганская диаспора и ее вклад в укрепление кыргызской государственности. – Диалог цивилизаций: информационный бюллетень. Вып. III. Развитие государственности в условиях взаимодействия кочевых обществ и оседлых оазисов в зоне Великого Шелкового пути (по материалам международной конференции). Бишкек.
- Кадников В.С. 1911. Из истории Кульджинского вопроса. – Исторический вестник. Т. 32. Май.
- Котюкова Т.В. 2016. Восстание 1916 г.: штрихи к историческому портрету. – Восстание 1916 года в Туркестане: документальные свидетельства общей трагедии: сборник документов и материалов (сост. Т.В. Котюкова). М.: Марджани.
- Сокол Э.Д. 2016. Восстание 1916 г. в Русской Центральной Азии. Бишкек: Res Publica. 191 с.
- Усенбаев К.У. 1967. Восстание 1916 года в Киргизии. Фрунзе: Илим. 328 с.