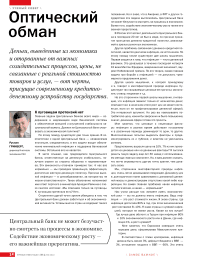Оптический обман
Автор: Гринберг Руслан
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Рубрика: Самое важное
Статья в выпуске: 1 (93), 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142169268
IDR: 142169268
Текст статьи Оптический обман
положения. Но я знаю, что в Америке, в ФРГ и других государствах эта задача выполнялась. Центральный банк не может безучастно смотреть на процессы в экономике. Более того, содействие экономическому росту также его важная прерогатива.
В России этот аспект деятельности Центрального банка в последние 20 лет не был в моде, по причине принятия принципов денежно-кредитной политики, реализуемой в зрелых рыночных экономиках.
Другая проблема, связанная с денежно-кредитной политикой, касается диагноза инфляции, ее источников. По этому поводу также существуют две школы мышления. Первая сводится к тому, что инфляция — чисто денежный феномен. Это доказывал в течение последней четверти XX века Милтон Фридман, американский экономист, лауреат Нобелевской премии. По его теории, самая главная задача при борьбе с инфляцией — не допускать чрезмерного предложения денег.
Другая школа мышления, к которой принадлежу и я, говорит о многофакторной природе инфляции. Существуют так называемые ценовые ее причины: монополии, сговор, неурожаи и т.д.
На это сторонники первой школы мышления, считающие, что инфляция зависит только от количества денег,
Руслан ГРИНБЕРГ, директор Института экономики РАН
К пуговицам претензий нет
Главные задачи Центральных банков всего мира — содержание в надлежащем виде банковской системы и обеспечение внешней и внутренней стабильности национальной валюты. Должен ли Центральный банк участвовать в экономической политике?
По этому поводу существуют две точки зрения. В соответствии с одной Центральный банк — независимая инстанция, следовательно, в его задачи входит обеспечение минимальной инфляции и поддержка банковской системы. Остальное его не касается.
Я часто слышал, как председатели Центрального банка, ответственные за денежную стабильность, получали упреки со стороны общества и парламентариев. Эти финансисты отвечали примерно так: «У нас все нормально — мы проводим правильную, эффективную, достаточно жесткую денежную политику. Причина высокой инфляции — в ценообразовании, за которое мы не несем ответственности». Такое объяснение напоминает мне ответ портного в миниатюре Аркадия Райкина о плохо сшитом костюме: «Мы отвечаем только за пуговицы. К пуговицам претензии есть? Нет».
Сторонники другой точки зрения убеждены в том, что Центральный банк должен заботиться и об экономической активности. Уставы многих стран не содержат такого отвечают так: в конечном итоге рост цен не может состояться, если он не профинансирован денежной сферой. Это интересный аргумент. Но раз вы навязываете потребителю цену, каким бы зверским ни было повышение, значит, денежная сфера готова это принять.
Мне кажется, что ценовые и неценовые факторы инфляции в разное время действуют по-разному и в различные периоды доминируют то одни, то другие. Многочисленные попытки выделить факторы и продемонстрировать их и публике, и властям не увенчались успехом.
Предположим, выросли цены на 10%. 7% из них приходятся на ценовые или на денежные факторы? Я пытался решить такую задачу еще лет 30 назад с использованием метода главных компонент. Но, я вам должен сказать, что легче опровергнуть другую точку зрения, чем доказать свою.
Мы, сторонники многофакторной природы инфляции, очень легко доказываем следующее. Динамику цен в долгосрочном плане сравниваем с динамикой денежной массы и демонстрируем отсутствие какой-либо корреляции. Но самая главная проблема: какая инфляция патологическая, а какая — нормальная?
Нас учили раньше так: желаете иметь экономический рост — вы не должны иметь инфляцию. Ведь инфляция — это рост стоимости жизни. Я знаю страны, где инфляция достигала 80% в год, при этом экономический рост составлял 8–10%. Я знаю страны с нулевой инфля-
Центральный банк не может безучастно смотреть на процессы в экономике. Содействие экономическому росту — его важнейшая прерогатива.
цией, которые не имеют роста. Какая из них лучше? Где лучше дело обстоит: в Турции при инфляции 80% и 10% экономического роста или в Дании, где инфляция 1%, а рост нулевой?
Мне кажется, что Евросоюз совершил очень хорошее дело, сформировав Маастрихтские критерии.
В соответствии с этими критериями, инфляция должна быть менее 3%, дефицит бюджета к ВВП — 3%, отношение госдолга к ВВП — 60%. Это очень
EAST NEWS
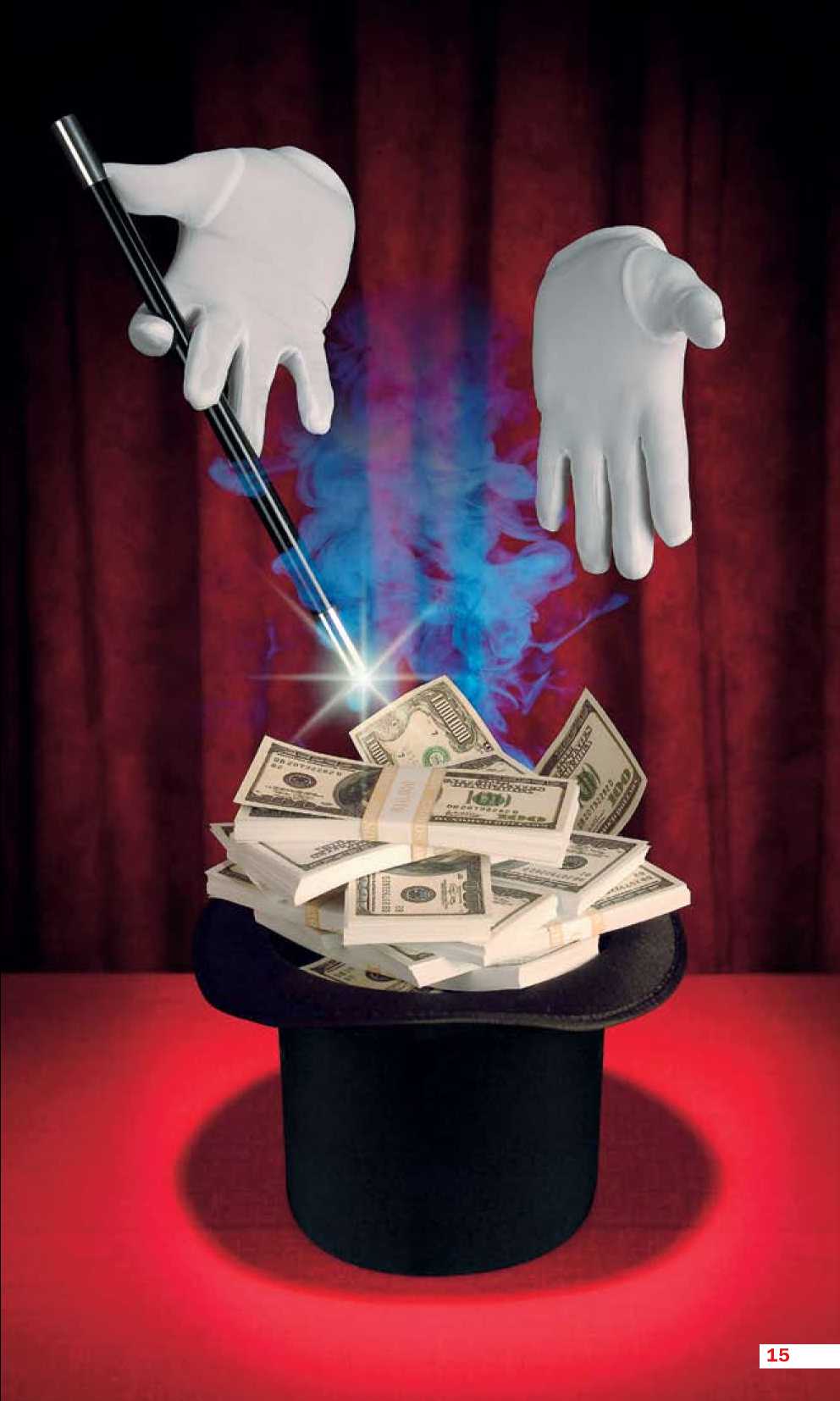

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \
МААСТРИХТСКИЕ КРИТЕРИИ — финансово-экономические показатели страны, демонстрирующие готовность государства вступить в еврозону. По этим параметрам оценивается жизнеспособность финансовой системы, уровень цен и стабильность валютного курса. Цель критериев — обеспечить сбалансированное развитие экономики в рамках экономического и монетарного союза.
Надо накапли вать валютные резервы, как это делают китайцы и японцы.
И понемно гу — примерно в соответствии с темпами инфляции — понижать курс рубля.
хорошие критерии. Надо сказать, что сегодня их никто не выполняет: ни старые члены в Европейской зоне, ни новые. Но это пакт стабильности, и сами по себе критерии стабильности очень важны.
Если говорить о российской истории, инфляция для нынешнего времени ужасающая. Еще совсем недавно многие страны в мире имели двузначную инфляцию, сейчас их мало — высокий уровень показателя считается очень неприличным. А во время кризиса, которому, как правило, свойственна дефляция, иметь инфляцию совсем нехорошо.
У меня есть сомнения по поводу такого объяснения причины инфляции сегодня, как сговоры. Сговоры и повышенный монополизм экономики мешают отрицательной ценовой динамике во время рецессии. Мы можем назвать нашу ситуацию даже не стагфляцией (сочетание стагнации и инфляции), а рецефляцией (сочетание рецессии и инфляции).
Последние 3–4 месяца, как вы знаете, ситуация меняется и мы начинаем жить по-человечески. Мы даже имеем дефляцию по оптовым ценам.
Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по экономической политике Юрий Голанд постоянно доказывает и ЦБ, и другим инстанциям, что сегодняшняя проблема — дорогие деньги — обусловлена тем, что мы неправильно ориентируем ставку рефинансирования. Мы ее определяем в соответствии с темпом роста стоимости жизни (как и принято), а ее надо ориентировать на динамику производственных цен — producer prices, которые у нас в последнее время начали снижаться.
В России есть много бизнесменов, пытающихся доказать, что нельзя повышать процентную ставку, потому что во время кризиса нужно делать все для того, чтобы люди и хозяйственные субъекты брали кредиты. Значит, надо снижать. В ответ на это обычно говорят: как же так, ка-

кие же будут пассивы тогда? Как будут банки работать? Невозможно представить, чтобы все работали в убыток. Государство не станет субсидировать все банки. Я всегда предполагал, что процентная ставка не должна быть ниже инфляции. Не может быть отрицательной процентная ставка. Инфляционные риски очень велики, поскольку в экономику закачаны очень большие деньги. И что-то с ними должно происходить: если у вас деньги ничего не делают — зачем их печатать?
Сейчас идет очень серьезная полемика по поводу того, когда надо прекращать государственное стимулирование экономики. Это еще одна проблема. Я знаю, что такая дискуссия идет между представителями центральных банков. Им уже хочется повышать процентную ставку, поскольку инфляционные риски очень велики. Но с другой стороны, они понимают, что если они повысят процентную ставку и вообще если государственная активность накаченной ликвидностью банковской системы прекратится, то может опять возобновиться рецессия.
То есть проблема в том, что нельзя раньше времени заканчивать стимулирование. Задержка с его прекращением влечет большие инфляционные риски. Я уже не говорю о страшных долгах. Кстати, в этом году в США дефицит бюджета к ВВП достигнет 13% (Маастрихтский критерий — 3%). По моему мнению, госдолг превысит ВВП (сейчас показатель — 80%). Аналогичный показатель в России составляет 12%. И это говорит о том, что мы могли бы занимать деньги и в дальнейшем и не бояться их тратить. Но это другая тема. Нужно знать, для чего, куда их тратить.
Еще одна проблема. В развитых экономиках при повышении спроса на какой-либо товар первая реакция рынка — увеличить выпуск этого товара. И лишь после заполнения мощностей и сохранения спроса начинается повышение цен. В России и в постсоветских республиках — другая закономерность. Повышение спроса автоматически ведет к росту цен без увеличения предложения товара. Решающую роль играет динамика курса. С чем это связано? Вопрос тоже дискуссионный. Для меня ясно, что мы живем в оптическом обмане. При свободных ценах полки магазинов заполнены. Создается иллюзия большого товарного предложения. Я был в Казани, в Новосибирске. Центры этих городов ничем не отличаются от Москвы: представлены одни и те же компании, всюду роскошные прилавки и т.д. Везде есть любой товар по сумасшедшим ценам. Именно потому, что цены свободны, кажется, что всего много. Но в действительности все не так.
Я студентам привожу такой пример. В Германии люди покупают джинсы с вышивкой. Приходят в магазин, стоят в очереди, приобретают. Когда товар заканчивается, продавцы звонят на фабрику и просят поставить еще — спрос не ослабевает. И лишь когда фабрика не может выполнить заказ, только тогда повышается цена.
Это характеристика зрелой рыночной экономики, в которой много товаров и много продавцов. У нас же существует очень большой недостаток товаров.
Копить на черный день, который наступил
Последние десять лет идет спор по поводу регулирования валютного курса. Какими должны быть процедура

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман считал, что главное при борьбе с инфляцией — не допускать чрезмерного предложения денег.
Как вы можете повысить конкурентоспособность своих товаров, если вы их вообще не производите?
и уровень курса? Существуют две точки зрения. Первая сводится к следующему: если мы живем в рыночной экономике и имеем абсолютно либеральный режим движения капитала, то нет никакого смысла заниматься всякими коридорами и фиксированием курса. Это не под силу даже развитым странам. Уж не говоря о развивающихся и переходных.
Другая точка зрения отражает политику, которая проводится сейчас. Как ее охарактеризовать? Кажется, в учебниках есть такое понятие «грязный дрейф» — Центральный банк время от времени проводит интервенции на валютном рынке, то есть не оставляет курс на произвол судьбы.
Главный пункт спора между экономистами — приток капитала. Одни говорят, что он ведет к увеличению удельного веса импортируемой инфляции в общем процессе повышения цен, и это вызывает очень большую опасность инфляции. Я, кстати говоря, в свое время занимался экономикой ФРГ. Примерно такие явления наблюдались там в 1960–1970-е годы. Надо сказать, страна осуществляла мощную экспортную экспансию. И тогда весь мир, точнее США, убеждали ФРГ в необходимости ревальвации национальной валюты. Точно так же сегодня идет борьба с китайцами. США настаивают, чтобы Китай повысил курс юаня, поскольку товары дешевые, достаточно качественные и конкурировать с ними невозможно. Китайцам звучит такой упрек: «Вы неправильно делаете, что занижаете свой курс, тем самым получаете дополнительные преимущества, это нечестно». В ответ китайцы говорят: «Это не ваше дело, у нас есть своя политика, и мы сами будем решать, какой курс нам держать, повышать его или нет».
Как выглядит ситуация в России? Я хочу сказать, что у нашей страны в последние 15 лет не было иной осмысленной и содержательной задачи, кроме снижения инфляции. И ни разу она не была реализована. Сегодня мы занимаем позорное последнее место в «двадцатке». Хуже нас по этому показателю нет никого. А G20 — это 90% мирового ВВП.
И вот мы с некоторыми экономистами предлагаем: не надо бояться импортируемой инфляции. Ее доля в общей динамике показателя очень невелика. Не следует допускать такого положения, при котором внутреннее обесценение денег существенно, а вовне — рубль укрепляется. Это очень опасно.

ИТАР-ТАСС
Я считаю, что проведенная в России так называемая плавная девальвация была вовсе не плавной — за пару месяцев деньги обесценились почти на 30%, кроме того, мы потеряли еще 200 млрд. руб. По моему мнению, это чудовищно.
Итак, мы считаем, в притоке капитала нет ничего страшного. Надо накапливать валютные резервы, как это делают китайцы и японцы. И понемногу — примерно в соответствии с темпами инфляции — понижать курс рубля. Ясно, что этот курс уже управляемый. По крайней мере, будет обеспечена предсказуемость ситуации.
Снижение национальной валюты обеспечивает повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров и на внешних, и на внутренних рынках. При всех прочих равных условиях это правильно. Но у нас никогда нет «прочих равных» условий. Как вы можете повысить конкурентоспособность своих товаров, если вы их вообще не производите? И понятно, что это положение нужно улучшать не с помощью манипуляций с валютами.
Даже сегодня мы имеем иногда завышение курса рубля. И многие говорят, что это хорошо. Их главный аргумент такой: котировки рубля растут, в этой связи мы можем по дешевке купить западные технологии, западный товар. При этом происходит укрепление рубля. И мы сможем провести ревальвацию.
Однако мне кажется, что это неубедительный аргумент. Я по старинке думаю, что все же на длинной дистанции курсы определяются движением цен в разных странах. А на короткой — колебаниями платежных балансов и движениями капитала.
Постепенная девальвация, наряду с другими структурными шагами, помогла бы облагородить структуру экономики. И если хотите, в каком-то смысле была бы протекционистской мерой. Постепенная девальвация обеспечивала бы протекционизм без прямого повышения пошлин — для того чтобы обеспечить защиту тех производств, которые мы хотим еще реанимировать.
И последний очень спорный момент — это Стабилизационный фонд и Резервный фонд. Я был противником всех стабилизационных фондов во время золотого дождя. Считаю, что ненормально копить деньги на черный день, когда он уже наступил. Сегодня многие говорят: может быть, нашим компаниям лучше заполучать наши деньги, чем занимать на Западе? Они теперь находятся в отчаянном положении, и опять казна должна их спасать.
Есть довольно забавный факт. Вы знаете, весь мир находится в кризисе, и весь мир откуда-то получил деньги во время депрессии, во время рецессии. А стабфонд был только в России. Еще в Норвегии, но там другая история — мосты построены, дороги отремонтированы, неизвестно, что еще делать в этой стране, поэтому можно подумать и о детях, и о внуках. А у нас еще надо, чтобы дети появились, прежде чем заботиться об их жизни.
И вот, независимо от наличия фондов, все страны нашли средства для реализации антикризисных мер. Деньги откуда-то взялись. Их в конце концов просто напечатали. И мне очень трудно понять логику денежных властей, которые говорят, что у нас есть Фонд будущих поколений, мы из него черпаем, скоро он закончится. Если бы мы его не имели — можно было бы создать за одну минуту. Разве я ошибаюсь?