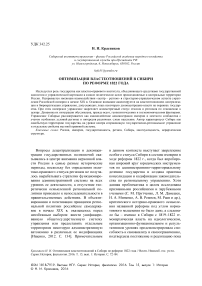Оптимизация властеотношений в Сибири по реформе 1822 года
Автор: Красняков Николай Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Исследуется роль государства как властно-правового института, объединяющего средствами государственной идеологии и управленческой вертикали в единое политическое целое присоединяемые и центральные территории России. Раскрывается эволюция взаимодействия «центр - регион» в структурно-управленческом аспекте укрепления Российской империи в начале XIX в. Основное внимание акцентируется на властеотношениях централизации и бюрократизации управления, допускающих лишь некоторую деконцентрацию власти на окраинах государства. При этом имперское управление закрепляет асимметричный статус этносов и регионов по отношению к центру. Динамика их интеграции обусловлена, прежде всего, геополитическими и геоэкономическими факторами. Управление Сибирью рассматривается как взаимодействие администрации империи и местного сообщества с учетом особенных условий региона и интересов различных слоев населения. Автор характеризует Сибирь как самобытную территорию государства, на уровне центра сохраняющую государственно-региональное управление и отдельные свойства местной правовой системы.
Россия, империя, государственность, регион, сибирь, многоукладность, иерархическая структура
Короткий адрес: https://sciup.org/147219489
IDR: 147219489 | УДК: 342.25
Текст научной статьи Оптимизация властеотношений в Сибири по реформе 1822 года
Вопросы децентрализации и деконцентрации государственных полномочий оказывались в центре внимания верховной власти России в самые разные исторические периоды, поскольку без определения политико-правового статуса регионов не получалось вырабатывать стратегии функционирования административной системы на всех уровнях ее деятельности, а отсутствие теоретически осмысленной региональной политики приводило к непоследовательности в правительственных действиях. В объективировании и позитивации принципов региональной политики российское самодержавие в начале XIX в. оказывалось перед неизбежным выбором: ввести унифицированную общегосударственную систему управления или предоставить отдельным территориям некоторую административную автономию в различных ее модификациях [Ищенко, 2012. С. 134]. Примечательным в данном контексте выступает закрепление особого статуса Сибири в составе империи в ходе реформы 1822 г., когда был апробирован широкий круг юридических инструментов по административно-территориальному делению государства и создана практика консолидации и кодификации законодательства по региональному управлению. Хотя данная проблематика в целом исследована признанными российскими и зарубежными учеными (С. М. Прутченко, Л. М. Дамешек, Н. А. Миненко, А. В. Ремнев, М. Раев и др.), критического историко-правового осмысления названной реформы под углом нормативного мышления не было дано, а следовало бы – именно в Сибири с 1819–1822 гг. монархическая власть на идеологическом, организационно-функциональном и результативном уровнях продемонстрировала способность к самоанализу и самоограничению, подтвердила постижение и реализацию пока
Красняков Н. И. Оптимизация властеотношений в Сибири по реформе 1822 года // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, вып. 1: История. С. 72–84.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, выпуск 1: История
на уровне отдельного региона империи новых для себя норм-принципов государственного управления.
С назначением сибирским генерал-губернатором в 1819 г. М. М. Сперанского ему была поручена ревизия состояния местных дел. В напутствии чиновнику император поручал ему решение конкретных задач: «Исправя сею властию все то, что будет в возможности, облича лица, предающиеся злоупотреблениям, предав кого нужно законному суждению, важнейшее занятие ваше должно быть: сообразить на месте полезнейшее устройство и управление сего отдаленного края» [Морозов, 1999. С. 59]. При этом в целом в правительственных кругах миссию государства в управлении окраинами, по замечанию государственного деятеля той эпохи Г. С. Батенькова, видели в том, чтобы самодержавие приобрело прочное юридическое устройство по всей территории империи [Ремнев, 1991. С. 24]. Относительно же Сибири предполагалось вначале обобщить действующие узаконения административных установлений и на этой основе предусмотреть приспособление правительственного строя России к местным условиям. В общем виде по итогам ревизии задача была реализована в представленном в правительство «Отчете Тайного Советника Сперанского в обозрении Сибири с предварительными сведениями и основаниями к образованию ее управления» 1.
Рассмотрение отчета было поручено учрежденному императором Сибирскому комитету, на заседании которого 3 ноября 1821 г. конкретизирована его компетенция: подробное рассмотрение общего и частных предложений по предмету устройства края; постепенное введение их в действие по мере обсуждения и создания соответствующих правил; рассмотрение представляемых местными правителями мер; разрешение затруднений, которые могут возникать при введении новых положений 2. Следовательно, Комитет мог осуществлять координационные функции при определении правительственной политики по отношению к региону, в определенной мере объединяя действия разрозненных ведомств и сибирских генерал-губернаторов. Однако полностью сосредоточить в Сибирском комитете все высшее управление краем не удалось, поскольку с ним успешно конкурировали и другие учреждения: Государственный совет, Сенат, Комитет министров, III Отделение собственной Е. И. В. канцелярии. С 1822 г. Сибирский комитет стал постоянно действующим учреждением и по своему положению определен высшим законосовещательным органом, так как все его решения утверждались непосредственно царем, а по функциям – центральным органом. Его компетенция была уточнена: подробное рассмотрение проектов по управлению Сибирью; составление уставов и положений, касающихся управления Сибирью; руководство деятельностью местных учреждений. Функционирование Комитета было связано с преобразованиями в крае, и потому, когда необходимость в нем отпала, в 1838 г. этот орган власти упразднен.
Итогами работы Комитета должно было явиться заключение по поводу отчета и предложений Сперанского, которые он представил в марте 1821 г. Первый период деятельности органа может быть разделен, по мнению исследователя архивов Сибирского комитета С. Б. Окуня, на две части: 1) рассмотрение отчета вместе с материалами следствия, по которому было предано суду 678 чел. и 2) рассмотрение предложений Сперанского по управлению Сибирью и особого устава для управления инородцев [1936. С. 92]. Работы Комитета были выполнены к маю 1822 г., после этого указом императора были утверждены предложения Комитета о разделении Сибири на две части – Западную (Тобольская, Томская, вновь учреждаемая Омская) и Восточную (Иркутская, вновь учреждаемая Енисейская, Якутская области и два Приморских управления – Охотское и Камчатское), а также комплекс кодифицированных законодательных актов по отдельным отраслям регионального управления [ПСЗ-I, 1830. Т. 38. № 29125]. По существу, на этом деятельность Комитета заканчивалась, однако введение реформы управления требовало наличия специального органа по ее реализации [Там же. № 29124]. Предполагалось, что в итоге деятельности Комитета разрешатся вопросы подчинения административной системы закону и контроля над управлением, в условиях крайней отдаленности и малонаселенности края. При этом приходилось согласовывать общие нормы управления в империи со своеобраз- ными нуждами, потребностями, условиями огромного сибирского края.
Сведения, содержащиеся в отчете Сперанского, позволяют сделать заключение, что реформатор видел существенную задачу акта об управлении Сибирью в «разделении порядка судебного, казенного и полицейского; в разделении империи на губернии соразмерно пространству, населению и способам управления; в организации в каждой губернии самостоятельных установлений суда, финансов и полиции с той целью, чтоб каждая губерния представляла одно целое, само собою движущееся Установление, в коем могли все дела внутренние гражданские окончательно быть решимы и в одних только высших отношениях суда и управления восходили бы в Сенат». При этом признаем, что Сперанский высоко оценивал существующий порядок на основе Екатерининского Учреждения о губерниях 1775 г. и видел целью децентрализации распределение власти бывших коллегий по губерниям, «дабы, быв сближены с самыми предметами их управления, с нуждами народными, они могли действовать вернее, обстоятельнее и полезнее» [Прутченко, 1899. С. 126]. Тем не менее, оценивая практические результаты идеи губернской реформы 1775 г., согласимся с сибиреведом С. М. Прутченко, обобщившим мнения историков-юристов и пришедшим к выводу, что Учреждение 1775 г. не провело в жизнь начала децентрализации с достаточною последовательностью и определенностью, что, в свою очередь, должно было повлечь усиление начал самоуправления. От дальнейшего хода обсуждений зависело перенести центр тяжести в ту или другую сторону Учреждения, выставить на первый план личное начало или новые установления. Результаты борьбы этих двух тенденций и оценка условий развития реформы 1775 г. Сперанским должны были лечь в основу нового Учреждения для отдельного региона империи – Сибирского края.
Рассуждения Сперанского о губернской реформе 1775 г. в условиях подготовки Уложения для управления Сибири, т. е. спустя почти полвека, давали почву для новых выводов, тем более, по итогам ревизии управления краем. Генерал-губернатор Сперанский признавал, что Учреждение 1775 г. не повлекло за собой благотворных последствий в той мере, на которую можно было рассчитывать по причине того, что весь «состав» русского законодательства того времени оказал Учреждению о губерниях слишком незначительную поддержку. «Учреждение есть часть общего и обширного законодательства», – замечал Сперанский, и стоит учитывать, продолжал он, что «часть сия должна быть в связи с общим с целым, то есть со всем составом гражданских законов». Чтобы ликвидировать указанные недостатки, предлагая специальную модель управления для всей Сибири на основе деления ее на губернии с учетом особенностей, он придавал особенное значение идее окружного управления, поскольку последнее может служить рамками не только для бюрократических организаций, как то имело место в царствование Александра I, но и для широкой постановки установлений земского самоуправления. Потому, уточнял реформатор, система крупных территориальных единиц дает простор развитию областного законодательства и управления, значение которых прямо пропорционально протяжению территории государства и разнообразию культурных, этнографических и климатических условий его развития [Прутченко, 1899. С. 163].
В результате деятельности на посту генерал-губернатора Сперанским было подготовлены 10 законодательных актов, известных под названием «Учреждение для управления Сибирских губерний» 1822 г., посвященных важнейшим вопросам жизни Сибири – административному устройству и управлению, развитию экономики и торговли, судопроизводству и характеру отбывания повинностей населением, определению социального статуса различных его слоев (коренных народов, крестьян, казаков, ссыльных и пр.) [ПСЗ-1, 1830. Т. 38. № 29125]. В Учреждении были перечислены «главные основания», на которых признано «устроить порядок управления», причем особо оговаривалось, что общее учреждение для управления губерний, кроме изъятий, сохраняет свое действие в Сибири: «дела, к общему порядку управления относящиеся, должны поступать на основании общих правил в те же места и к тем лицам, к коим они по существу их принадлежат» [Там же. № 29124].
Император указал, что для Томской губернии при общем порядке управления предусматриваются следующие особенности.
-
1. Полномочия томского гражданского губернатора и начальника Колывано-Вос-кресенских заводов принадлежали теперь одному лицу, назначаемому Кабинетом по представлению ведомства, к которому относились заводы. Управление заводами осуществлялось на основании особенных постановлений. Все чиновники окружного и земского суда в округах, населенных приписными крестьянами, как и городничие в городах этих округов, назначались и увольнялись гражданским губернатором.
-
2. Все приписанные к заводам крестьяне по судебным и полицейским делам приравнивались к удельным крестьянам, а по заводским повинностям и в хозяйственном управлении состояли в ведомстве заводского начальства.
-
3. Чиновники, управляющие в волостях приписных крестьян, в своей деятельности должны были руководствоваться общими правилами как отдельные заседатели Земских судов, а по хозяйственным делам – подчиняться предписаниям заводского начальства. Они назначались и увольнялись руководством заводов.
-
4. Все леса и земля, принадлежащие заводскому ведомству, состояли в непосредственном заведовании их начальства и не могли поступать в фонд для раздачи чиновникам.
-
5. Заводскому начальству разрешалось распространять горную промышленность по округе, при условии, что не будет нарушен уклад жизни ясачных народов.
-
6. Купцы и мещане, которые в будущем бы поселялись в Томской губернии, пользовались бы всеми правами и обязанностями на общем основании, предусмотренном для всех сибирских городов.
-
7. Исполнение личных земских повинностей заменялось учреждением дорожных и этапных команд, а денежные повинности теперь должны были быть взимаемы по особому положению. Причем все бродячие инородцы от земских повинностей освобождались, а ямщики в несении подушной и оброчной подати и повинности приравнивались к государственным крестьянам [ПСЗ-1, 1830. Т. 38. № 29124].
В данном указе, исполнением которого должен был заниматься Сенат, власть устанавливает более четкое распределение прав и обязанностей групп населения, которые раньше могли занимать двойственное поло- жение. Этот шаг был направлен, прежде всего, на удобство в управлении со стороны гражданского и заводского начальства при выполнении повинностей крестьянами, а не на придание им каких-либо новых прав и обязанностей. Можно говорить, что император обозначил перспективу толкования чиновниками отраслевых ведомств и государственных структур будущих уставов и положений, конкретизирующих различные отрасли управления в Сибири.
Анализ основных положений Учреждения 1822 г. позволяет выделить принципы-цели реформ, в частности: усиление надзора за действиями местных органов управления путем передачи надзорных функций одному из центральных органов исполнительной власти; обеспечение единообразия в деятельности различных административных органов с четким разграничением их компетенций; передача некоторой доли автономии в решении дел каждому местному органу; учет местными органами специфики конкретных областей, в которых они действуют; учет пестрого социального состава населения в деятельности управленческих структур различного уровня; создание недорогого и оперативного в делах управленческого аппарата. На их основе губернии и области разделялись на округа, а те, в свою очередь, на волости и инородные управы. Управление Сибири в соответствии с этим делением имело четыре степени: 1) Главное управление; 2) Губернское управление; 3) Окружное управление; 4) Волостное и инородное управление. Главное управление составляли Генерал-губернатор и Совет [Там же. № 29125. П. 1–5, 13]. Учреждение таких Советов стало важной особенностью проводимой реформы.
Наиболее значимым из вышеуказанных актов является «Учреждение для управления Сибирских губерний», в корне изменявшее статус губернаторской власти. Личную власть губернатора и других должностных лиц следовало преобразовать в отдельное установление, придав ей публичный характер, и потому предусматривалось создание соответствующей системы административных учреждений. При этом генерал-губернаторская власть должна была стать, прежде всего, органом надзора. Учреждением компетенция генерал-губернатора включала следующие полномочия: «1) Побуждение к скорому и законному производству дел в местах подчиненных. 2) Обозрения как общие, так и частные местных управлений, и ревизия их в деле или непосредственно, или через чиновников, а в важных случаях составлением из них следственных комиссий. 3) Определение и увольнение чиновников в порядке, для сего установленном. 4) Временный распорядок в случае недостатка губернских чиновников в одном месте и дополнение их из другого. 5) Рассмотрение и представление о наградах» [ПСЗ-1, 1830. Т. 38. № 29125. П. 19].
Для осуществления коллегиального надзора за местными органами, а также для рассмотрения вопросов, которые не могли быть решены на местах, образовано Главное губернское управление. При нем сформирован Совет, компетенцию которого составляли: общий надзор за действиями сибирского управления; рассмотрение ежегодных отчетов губернаторов; рассмотрение жалоб на действия должностных лиц; подготовка обзоров судебной практики по различным вопросам; рекомендации судам; разрешение в порядке апелляционной инстанции судебных дел по вопросам торговли, нарушения обязательств по договорам, проблемам налогообложения и исполнения воинской обязанности. Следует отметить двойственность надзора: часть дел зависели «от непосредственного действия генерал-губернатора», другие же должны быть предварительно «соображены и уважены в Совете» [Там же. П. 18]. Совет учреждался под председательством генерал-губернатора. В его состав входили три советника «яко производители дел», назначаемые по рекомендации генерал-губернатора, и три советника по «представлению от министерств». В случае недостатка последних предусматривалась возможность включения в состав Совета главных чиновников той губернии, где находится Главное управление, а именно, гражданского губернатора и председателей губернского правления, казенной палаты и губернского суда [Там же. П. 14].
Губернское управление разделялось на общее и частное. Общее образовывали гражданский губернатор и Совет под его председательством. В состав Совета входили председатели губернского правления, казенной палаты, губернского суда и губернский прокурор. Главной функцией общего губернского управления являлся надзор за местной администрацией. Для Губернского управления (как и для Главного управления) надзор был двояким: одна часть дел находилась в компетенции непосредственно гражданского губернатора, другая же нуждалась в предварительном обсуждении губернского совета [Там же. П. 23, 32]. Как и Совет Главного управления, Губернский совет имел статус лишь законосовещательный и не мог ограничить личную власть губернатора. Губернский совет выполнял те же функции, что и Совет Главного управления, но только в масштабе губернии, а именно: 1) надзор и ревизия дел в подчиненных местных управлениях; 2) рассмотрение дел, связанных с жалобами на нарушение судебной процедуры; 3) дела, касающиеся хозяйственной жизни губернии [Там же. П. 34].
Частное губернское управление состояло из губернского правления (по полицейским делам), казенной палаты (по хозяйственным делам) и губернского суда (по гражданским и уголовным делам). Губернское правление составляли председатель, старший советник и три советника, каждый из которых имел «свою определенную часть дел» [Там же. П. 37]. В ведении губернского правления находились административно-полицейские и хозяйственные вопросы, в соответствии с которыми все дела губернского правления разделялись на четыре отделения. При губернском правлении состояли также Приказ общественного призрения, архитектурная часть, типография, медицинская управа и канцелярия, где сосредоточивалось делопроизводство [Там же. П. 44].
Губернский суд состоял из председателя, старшего советника и трех советников и рассматривал как гражданские, так и уголовные дела, причем гражданские «по апелляции, а уголовные и следственные по ревизии» [Там же. П. 54, 55]. Прокурорский надзор в губернии осуществляли губернский прокурор и назначенные два губернских стряпчих, замечания которых «по неправильному или медленному производству дел в местах областных и окружных» рассматривал губернский совет [Там же. П. 34]. Суд и прокурорский надзор не были независимыми от администрации. Приговоры по судебным делам утверждал губернатор, в случае его несогласия с решением губернского суда Совет Главного управления осуществлял их пересмотр [Там же. П. 20].
Третьим уровнем выступало окружное управление. В первой четверти XIX в. уезды в Сибири были переименованы в округа. Следует отметить, что округа различались по количеству проживавших в них людей. Учитывая этот факт, Учреждение выделяет три вида округов: многолюдные, средние и малолюдные. «Управление их, единообразное в главных началах, приспосабливается в подробностях к местным их различиям» – так указывает закон на учет особенностей в окружном управлении. Общее и частное управления полагались лишь в многолюдных округах; в средних округах предусматривалось частное управление, а в малолюдных все управление сосредоточивалось в руках земского исправника [ПСЗ-1, 1830. Т. 38. № 29125. П. 57, 62]. В состав общего окружного управления входили окружной начальник и окружной совет, состоящий из городничего, окружного судьи, земского исправника, окружного казначея, стряпчего и городского главы, если в городе была дума. Общее окружное управление осуществляло надзор за деятельностью местной (окружной, городской и волостной) администрации, «ежемесячное свидетельство всех сумм и всего казенного имущества, в том числе и хлебных казенных запасов», назначение и увольнение «канцелярских чинов», представление к наградам и пр. [Там же. П. 68] Частное окружное управление состояло из окружного суда, земского суда и окружного казенного управления (по хозяйственным делам) [Там же. П. 70].
В состав окружного суда входили окружной судья, два или три заседателя, в зависимости от населения округа, и окружной стряпчий. Суд рассматривал «гражданские тяжебные и уголовные дела», за исключением дел о злоупотреблениях служебным положением, которые слушались в губернском суде. Земский суд образовывали земский начальник «яко председатель» и два (три или четыре) заседателя, в зависимости от населенности и площади округа. Предметы ведения земского суда распределялись на три вида: по земской полиции, по хозяйству, по суду. Он осуществлял надзор за крестьянским самоуправлением, информировал население о постановлениях властей, принимал «меры в случае повальных болезней и скотских падежей», контролировал состояние хлебных, соляных и винных магазинов, взыскивал недоимки, следил за исполнением судебных определений по делам гражданским и исполнял судебные пригово- ры по уголовным делам. Особенностью сибирских земских судов стал надзор за ссыльными: «распределение ссыльных по их назначению, надзор в их провожании и водворении… в тех округах, где производится поселение ссыльных, смотритель поселения на праве заседателя присутствует на земском суде» [Там же. П. 74, 79, 76].
Окружное управление, представленное во II главе Учреждения, предусматривает деятельность отделений властных структур. Если первое отделение касается состава и предметов общего окружного управления, второе – состава и предметов частного окружного управления, то третье предусматривает «управление округов, в коих полагаются особенные отделения», учрежденные «по уважению дальних расстояний и трудности сообщения». Руководство таким округом поручалось одному из земских заседателей, называемому «отдельным заседателем», который и подчинялся земскому исправнику как «председателю суда наравне с другими». Деятельность отдельного заседателя регулировалась общими постановлениями о земском заседателе, включала в себя обязанности «местной полиции и сбор ясака, с тех ясачных, кои обязались вносить его не в городе, но в округе» [Там же. П. 86– 89]. Имея предметом управления особые сферы, отдельный заседатель должен был придерживаться следующих указаний: все полицейские следствия проводить при волостном голове или родовых старшинах, а материалы представлять на рассмотрение земского суда; ни под каким предлогом не вступать в исковые дела, касающиеся родовых судов; охранять свободу частной торговли, как и частную продажу жизненно важных товаров; брать на себя попечение о продовольствии, хранении, продаже и выдаче казенного хлеба; наблюдать, чтобы к инородцам не ввозили крепкие напитки. Все управление в малолюдных округах сосредоточивалось в руках земского исправника, который должен был осуществлять общий надзор «по делам полиции, продовольствия и казенных податей». Исправник подчинялся Окружному совету (если таковой существовал в смежном округе) и действовал по его указаниям [Там же. П. 90–97, 100–102].
Заключительный уровень административной системы – городское управление. По количеству населения Учреждение разделяло города на три категории: многолюдные, средние и малолюдные. В связи с таким делением городское управление, «единообразное в главных началах», имело свои особенности для каждой из категорий городов [ПСЗ-1, 1830. Т. 38. № 29125. П. 103]. В многолюдных городах городское управление состояло из полиции, хозяйственного управления и городского суда. Городскую полицию образовывали городничий и городская управа, которая разделялась на общую (городничий и частные приставы) и частную (частный пристав и надзиратели кварталов). Сюда же входили медицинская и строительная части. Общим предметом ведения городской полиции, как и губернского правления, определялось «сохранение внутренней безопасности лиц и имущества мерами предупреждения и пресечения». К мерам предупреждения отнесены следующие средства: обнародование указов и постановлений, вызовы к торгам и сыск; надзор благочиния в публичных местах; управление городовыми казаками по особому положению, так же как и служителями полиции; предупреждение пожаров и ночная охрана; «охранение чистоты, безвредное помещение фабрик и заводов, надзор за строением частных домов по планам и фасадам»; обеспечение деятельности путей сообщения, надзор за почтовой службой; «надзор в продовольствии города хлебом, вином и солью». Меры пресечения, возможные для городской полиции, предусматривались следующие: сбор различных сведений; производство следствия и взятие под стражу обвиняемых в установленном законами порядке; функционирование тюремной полиции, обеспечивающей: «продовольствие содержимых, одежду, освещение, благочиние»; исполнение судебных приговоров по делам гражданским, казенным и уголовным; принятие ссыльных, обеспечение их одеждой и продовольствием, а также отправление их к месту назначения; взыскание ущерба по векселям или передача в суд спорных дел по обязательствам; прием жалоб, как устных, так и письменных, разбирательство и принятие решений по ним [Там же. П. 111–113]. Частная управа проводила первоначальное следствие, а общая – ревизовала и отсылала в суд по принадлежности.
Хозяйственное управление в городе осуществляла дума, в состав которой входили городской голова и два (порой три или че- тыре) гласных – в зависимости от величины города. К компетенции думы относились: управление городскими доходами; раскладка, взыскание и пересылка в казну положенных податей и денежных сборов; составление городских смет по различным сферам деятельности; представление городского бюджета после рассмотрения его городничим на утверждение высшего начальства, приведение его в исполнение, представление ежегодного отчета по нему городскому обществу; надзор за маклерами, нотариусами и оценщиками; содержание городовых судов; «содержание и исправление общественных зданий, мостов, каналов и проч. в городе и на градском выгоне», а также надзор за городовыми старостами, сиротский суд и опека, цеховая управа и рекрутский набор. Общее присутствие городского суда (мaгистрата) составляли городской судья и два заседателя – «по выбору общества». Городской суд являлся первой степенью гражданского и уголовного суда для купеческого и мещанского сословий. Управление в полицейском отношении средних городов заключалось в частной управе во главе с городничим. Хозяйственным управлением и судом в таких городах ведала ратуша в составе городского судьи, двух заседателей и – «на случай их отсутствия» – трех кандидатов в заседатели. В малолюдных городах управление осуществляли только городничий (полиция), а также городские старосты и словесный суд (хозяйственное управление и суд). «Тяжебные и уголовные» дела поступали в окружной суд [Там же. П. 119, 123–133].
Общие начала в управлении предусматривают подчинение Главных управлений губерний Правительствующему сенату. Все управления, как губернские, так и особенные, подчинялись Главным управлениям, за исключением судебных инстанций, которые подчинялись последнему только в порядке судопроизводства, а в отношении «апелляции и ревизии» порядок оставался прежним. Все местные управления находились под надзором Главного управления, однако по вопросам исправления ситуации, устранения и увольнения чиновников подчинялись соответствующим министерствам. В чрезвычайных случаях генерал-губернатор действовал по своему усмотрению, уведомив министерство, в ведении которого находилось данное управление. Войска, находя- щиеся на территории Сибири, подчинялись генерал-губернатору в случаях, особо оговоренных законом (в порядке надзора), но порядок их подчинения верховной власти оставался неприкосновенным [ПСЗ-1, 1830. Т. 38. № 29125. П. 157–159].
Общему губернскому управлению подчинялись непосредственно частные губернские управления: губернское правление, казенная палата и губернский суд, а вышестоящей для него инстанцией было Главное управление. Губернскому правлению, казенной палате и губернскому суду, как и областным управлениям, подчинялись все окружные управления. В многолюдных округах, где существовало общее окружное управление, ему подчинялось и городское управление. Порядок подчинения в гражданских и уголовных делах делился на два вида: 1) в порядке судопроизводства, когда жалобы на судебную инстанцию рассматривались в вышестоящем административном органе; 2) в порядке апелляции и кассации, когда жалобы на решения суда рассматривались в вышестоящей судебной инстанции, вплоть до Правительствующего Сената [Там же. П. 165, 166, 170–175].
Учреждением определялся и порядок назначения на службу, предусматривающий занятие должностей по «высочайшему усмотрению» для следующих лиц: генерал-губернатор, губернаторы, областные начальники, председатели губернских мест, председатель Омского областного правления и советники Главного управления. Генерал-губернатором непосредственно назначались советники губернских мест, окружные начальники, городничие и начальники отделений в общем губернском управлении, но губернские прокуроры, губернские и областные стряпчие по представлению генерал-губернатора назначались министром юстиции. Все чиновники окружного уровня назначались и увольнялись гражданским губернатором с утверждением генерал-губернатора [Там же. П. 176, 177, 180]. Учитывая постоянную нехватку управленческих кадров, Учреждение специально предусматривало льготы местным чиновникам при выходе на пенсию, если срок службы составлял 10, 20, 30 лет. Можно утверждать, что с усложнением задач, которые правительство было вынуждено возлагать здесь на аппарат управления, потребность в количестве чиновников значительно возрастала, что создавало дополнительные затраты в проведении самой реформы и для бюджета государства вообще [Там же. П. 1].
Итак, «Учреждение для управления Сибирских губерний» предполагало создать такую систему административных установлений, которая устранила бы личное начало в управлении регионом, косвенно ограничив самодержавие в рамках отдельной территории. Основным способом такого ограничения монархии Сперанский считал не конституцию, а разделение власти на законодательную, судебную и исполнительную. Между тем, как замечает С. М. Прутченко, рассматривая основные положения реформы, «Сибирское учреждение» не внесло в жизнь существенно иных устоев, способных дать силу новому строю управления, оставленному и по Учреждению исключительно на бюрократических основах [1899. С. 198]. Думается, что это утверждение имеет под собой основания, но нуждается в уточнении. Следует учесть, что реформа проводилась в рамках взглядов Сперанского на соотношение центрального и местного управления, на идею создания унифицированной системы государственного управления, обоснованные им еще в 1809 г. во «Введении к Уложению государственных законов» [Сперанский, 1961], и потому реформа была рассчитана на длительный срок и в динамике должна была создать условия для преобразования не только административной системы, но и всех сфер жизнедеятельности в регионе.
Далее остановимся на управлении отдельными группами земледельческого общества, поскольку управленческое воздействие государства приобретало здесь весьма различные модификации. Решающую роль в процессе, естественным образом, играли разные формы зависимости крестьян и особенности их хозяйственной деятельности. Заметим, что сибирское земледельческое общество формировалось не на основе этнократических принципов (близость «по крови»), поскольку русские крестьяне оказывались среди множества неславянских народов и на землях, которые пока еще только включались в состав России. Следовательно, гарантией прав общинного самоуправления стало не столько законодательное закрепление пределов правительственной опеки, а, преимущественно, новая практика правового регулирования в системе управления. Для укрепления своих позиций в Сибири империи необходимо было создать критическую массу русского населения, которое и стало бы этнодемографической основой государственной целостности, потому важнейшую роль в империостроительстве должны были сыграть не столько военные и чиновники, сколько мирные крестьяне-переселенцы. Закономерным результатом такого варианта развития административной структуры было бы последовательное конструирование региональной вертикали власти, в том числе, институциональная организация власти, относительно развитая коммуникация органов местной власти и самоуправления, правовая регламентация и бюрократическое делопроизводство.
Принятые в 60–80-х гг. XVIII в. законодательные акты рассматривали в качестве основы крестьянского самоуправления мир, на официальном языке – селение, наряду с более крупными территориальными образованиями типа погоста, слободы, волости. Использование селения в качестве первичного, территориального уровня управления отвечало интересам, прежде всего, самого населения. Так, общая территория проживания, однородный характер деятельности порождали общие интересы, но удовлетворение их в сильной степени затруднялось разделением сельского населения на различные категории по формальному признаку – виду государевой службы или тягла, с запрещением составлять единое общество. Кроме государственных крестьян в сельской местности проживали и занимались землепашеством мещане, купцы, служилые казаки, но они не являлись членами крестьянского общества. Самостоятельные общества составляли ямщики, экономические крестьяне и однодворцы, даже если их земли располагались чересполосно с крестьянскими. В общем, процесс формирования крестьянского общества происходил по инициативе государства, так как именно государство определяло, какие социальные категории и населенные пункты включать в крестьянскую административную единицу, при этом главным и по сути единственным критерием образования общества выступал податной статус социальной группы. В итоге деятельности государства территориальной основой сословного управления и низовой административной единицей выступал фискальноподатной союз – принудительная организа- ция, связывающая своих членов круговой порукой для исправного отбывания лежащих на ней платежей и повинностей.
Однако сословная пестрота общин затрудняла выполнение мирских повинностей, поскольку для крестьянина главным в самоуправлении было равное распределение общественных функций, а вовсе не доступность для всех членов союза к участию в управлении. Кроме членов общества на территории селения проживали и пользовались казенными угодьями, но не участвовали в выполнении земских и мирских служб мещане, формально считавшиеся горожанами. Радикальный путь решения этой проблемы предложил М. Сперанский, проведя массовое зачисление мещан, занимающихся хлебопашеством и проживающих в сельской местности, в сословие государственных крестьян. В 1822 г. сибирская администрация, считая убыточным для казны и обременительным для самих ямщиков сохранение за ними особого статуса, причислила и их в сословие государственных крестьян. Таким образом, консолидация различных категорий в сословие государственных крестьян, изменение в податной системе Учреждением 1822 г. позволили объединить основные категории землепашцев в единое крестьянское общество и унифицировать структуру сельского управления введением единой на территории Сибири низшей административно-территориальной единицы – волости.
Сельское управление составляли в волости волостное правление, по селениям – старшины и десятники. В волостное правление входили волостной глава, староста и писарь, избираемые всем «миром» ежегодно через поверенных. Старшины и десятники избирались по селениям. Избранный глава, староста и писарь представлялись через земский суд на утверждение губернского или областного управления, а старшины утверждались земским судом. К предметам ведения волостного правления относились следующие: по полицейским делам – обязанности земского суда; по хозяйственным – ежегодная раскладка земских и волостных податей и повинностей; их сбор и взыскание недоимок; ведение отчетности по указанным формам; по суду правление в волости отвечало за исполнение приговоров и самостоятельно на основе особенного сельского положения занималось судом по маловажным делам [ПСЗ-I, 1830. Т. 38. № 29125.
П. 134–142]. Реализация реформы привела к тому, что к началу 30-х гг. XIX в. основные категории сельских хлебопашцев – экономические крестьяне, ямщики, однодворцы, водворенные поселенцы, казенные крестьяне – были объединены в сословие государственных крестьян с единой системой управления и налогообложения.
Приступая к анализу управления инородцами, необходимо заметить, что «под именем инородных» подразумевались «все племена обывателей не российского происхождения, в Сибири обитающие». По образу жизни инородцы, согласно Учреждению, разделялись на три разряда: 1) оседлые, «кои имеют постоянную оседлость, хлебопашество и живут деревнями»; 2) кочевые, «кои имеют оседлость хотя и постоянную, но по временам года переменную и не живут деревнями»; 3) бродячие, «кои, не имея никакой оседлости, переходят с одного места на другое по лесам и рекам, по звероловному и рыбному их промыслу, отдельными родами или семействами» [Там же. П. 143– 148]. Управление оседлыми инородцами приравнивалось к волостному. Регулирование отношений у бродячих определялось на основе семейных связей, а за кочевыми оставалось родовое управление. Управление кочевых инородцев рассматривалось двух видов: частное по родам и общее, соединенное по улусам, наслегам, волостям и родам. Старшины под именем даруг, шуленг, зай-сангов, родовых тайшей составляли частное управление. Начальники под именем тайши, князца, улусного головы, тоена и особенная родовая управа составляли общее управление [Там же. П. 149–155].
Родовая управа возглавлялась начальником, состояла из определенного числа старшин, или поверенных, избираемых от родов. Как частные старшины, так и главные начальники избирались на общем родовом собрании и утверждались губернским правлением, причем в выборах допускался принцип наследования [Там же. П. 156, 157]. К компетенции управ инородцев относилось решение следующих вопросов: в полицейском отношении – обнародование и обеспечение исполнения предписаний высшего начальства; предупреждение болезней, падежа скота, предотвращение пожаров; сбор сведений о правонарушениях; по хозяйственным вопросам – раскладка ясака и повинностей, внесение их в казначейство, сбор недоимок, развитие хлебопашества, обеспечение работы хлебных магазинов и попечение о торговле хлебом и солью, представление требуемых отчетов; по судебным делам – исполнение определений по гражданским и уголовным делам; суд по маловажным делам и проведение некоторых взысканий. Думается, стремление правительства к унификации управления в Сибири на примере сходного устройства органов власти в русской волости и в инородной среде свидетельствует о внедрении единого подхода в рамках сословной организации регулирования управленческих связей низших и вышестоящих структур администрации, необходимости подчинения всех нормам права, а не личному началу.
Соответственно, несмотря на сохранение в «Уставе об инородцах» 1822 г. «родоплеменной» терминологии для обозначения территориальной единицы самоуправления, на первое место выдвигается требование общих экономических интересов членов данного коллектива, что для государства было равнозначно созданию податной единицы, объединенной круговой порукой. Однако инородческое управление в этот период не было преобразовано по типу сельского для государственных крестьян. По просьбам самих инородцев и решению ясачной комиссии им было разрешено иметь собственное внутреннее управление. Инородческие волости сохранили свою обособленность, но при этом принципиально важно, что в административном устройстве аборигенов наметились тенденции, характерные и для сельского самоуправления русских крестьян, в том числе постепенная рационализация традиционных институтов самоуправления и оформление достаточно устойчивых административно-территориальных единиц. Таким образом, органы инородческого управления, получившие большую самостоятельность в решении хозяйственных вопросов, и сами инородцы, ограждаемые теперь от постоянного прямого вмешательства в свою жизнь со стороны государственных чиновников, все больше включались в общую административную систему региона. Унификации социальной организации различных этнотерриториальных групп коренного населения, как и у русских крестьян, предшествовало введение единой системы обложения.
В первой половине XIX в. остро встал вопрос о ссылке, ясно обозначивший несовпадение правительственного взгляда на ее назначение с нуждами самой Сибири. Широкое применение ссылки как наказания во многом объяснялось желанием самодержавия найти дешевый способ избавить центральные губернии от преступных элементов. Нарастание потока ссыльных порождало серьезные трудности в их размещении и управлении. Известный исследователь сибирской ссылки Е. Н. Анучин отмечает, что «несмотря на многие узаконения… соединение всех дел о ссыльных в центральном местном управлении Сибирской канцелярии и недостаток специального административного учреждения для устройства ссыльных много препятствовали точному исполнению намерений правительства в этом отношении». Приводя данные за 1807–1812 и 1824– 1826 гг., исследователь пришел к выводу, что «в промежуток 12 лет цифра ссыльных в Сибирь упятерилась». Основанием для такого стремительного роста численности ссыльных стал акт 1821 г., указывающий всех маловажных преступников и бродяг, размещаемых на работы по крепостям, ссылать впредь в Сибирь. Указом 1823 г. прекращено обращение в военную службу маловажных преступников и предусмотрено отправление их в Сибирь. В первые десятилетия XIX в. в регион было сослано более 40 тыс. осужденных за уголовные преступления и направленных в ссылку в административном порядке [1873. С. 13–14]. Обобщая законодательство в данной сфере, Сперанский пришел к выводу, что правовой статус ссыльных вообще не был определен, что влекло за собой отсутствие у них каких-либо гражданских и, тем более, политических прав. В списки ссыльных, составлявшиеся на границе сибирского края, включались без различия в правовом и имущественном положении каторжные и поселенцы, мужчины и женщины, взрослые и дети. Судьба сосланных полностью находилась в руках смотрителей, каждый ссыльный оставался там, куда попадал по случайному стечению обстоятельств.
Выходом из сложившейся ситуации стало издание в 1822 г. двух Уставов – о ссыльных и об этапах, по которым учреждался Тобольский приказ с экспедициями [ПСЗ-I, 1830. Т. 38. № 29128]. Сперанским преследовалось две цели: введение лучшей систе- мы для препровождения в Сибирь преступников и устройство их на месте ссылки. Прием и распределение ссыльных поручались Приказу, а обязанностью экспедиций являлось наблюдение над поселяемыми и водворяемыми преступниками. Вместе с отделением от губернского правления дел о ссыльных в ведомство специальных учреждений – Приказа и экспедиции о ссыльных – была введена и особенная документация. Уставы создали целую систему административно-финансовых мер, установивших материально-хозяйственное положение и правовой статус ссыльных, ввели строгий регламент, определивший порядок препровождения ссыльных по этапам, а также их водворения в местах ссылки. Уставы ввели меры контроля над ссыльными и регламентировали характер надзора. Также в ходе реформы было определено положение детей многих поколений ссыльных. Независимо от срока наказания родителей детям предоставлялось право вступать в свободные городские и сельские состояния. Получив, в частности, статус государственных крестьян, дети ссыльных были защищены от произвола местных чиновников. Нужно заключить, что правительство, начиная с Уставов, решает вопрос об управлении сибирской ссылкой как самостоятельной сферой жизни сибирского общества.
Таким образом, исследуемые отношения публичного управления благодаря принятию «Учреждения для управлении Сибирских губерний» трансформировались на основе определенной локализации власти на уровне региона средствами консолидации и кодификации законодательства в направлении выделения уровней властных полномочий в рамках бюрократической организации с целью поддержания социально-экономической многоукладности геополитически важной части империи. И хотя общепризнан централизованный характер Российской империи и Российского государства вообще, можно признать существенным и полученное суждение о новом его качестве – де факто Россия трансформировалась в сложноцентрализованное государственное образование, поскольку, начав реализовываться в ходе реформы 1822 г. в Сибири, нормы-принципы (деконцентрация судебных, исполнительно-распорядительных и полицейских полномочий; деление империи на генерал-губернаторства соразмерно про- странству, населению и подсистемам управления; функционирование в больших административно-территориальных единицах относительно самостоятельных установлений суда, финансов и полиции и др.) в дальнейшем стали определенными началами государственного устройства в новых территориях – Великом княжестве Финляндском, Царстве Польском, Бессарабской области, среднеазиатских территориях России.
Список литературы Оптимизация властеотношений в Сибири по реформе 1822 года
- Анучин Е. Н. Исследования о процентах сосланных в Сибирь 1827-1846 годов. СПб.: Тип. Майкова, 1873. 246 с.
- Ищенко О. В. Особенности формирования современного административно-территориального деления Российской Федерации // Современные проблемы социального и экономического управления. Сургут, 2012. С. 134-142.
- Морозов В. И. Государственно-правовые взгляды М. М. Сперанского. СПб.: Нестор, 1999. 238 с.
- Окунь С. Б. I Сибирский комитет // Архивное дело. 1936. № 1. С. 84-112.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб.: Тип. II Отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. Т. 38. № 29124. С. 342-345; № 29125. С. 345-394; № 29128. С. 433-469.
- Прутченко С. М. Сибирские окраины. Областные установления, связанные с Сибирским Учреждением 1822 г., в строе управления русского государства. Историко-юридический очерк. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1899. 407 с.
- Ремнев А. В. Управление Сибирью и Дальним Востоком в XIX - начале XX в. Омск: Изд-во ОмГУ, 1991. 88 с.
- Сперанский М. М. Проекты и записки / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 244 с.