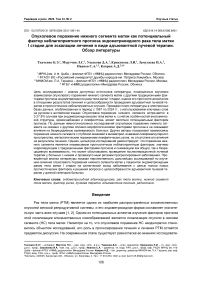Опухолевое поражение нижнего сегмента матки как потенциальный фактор неблагоприятного прогноза эндометриоидного рака тела матки I стадии для эскалации лечения в виде адъювантной лучевой терапии. Обзор литературы
Автор: Ткаченко Б.Э., Мкртчян Л.С., Ушакова Д.А., Крикунова Л.И., Замулаева И.А., Иванов С.А., Каприн А.Д.
Рубрика: Научные статьи
Статья в выпуске: 2 т.33, 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - анализ доступных источников литературы, посвящённых изучению взаимосвязи опухолевого поражения нижнего сегмента матки с другими традиционными факторами прогноза эндометриоидного рака тела матки I стадии, оценке его прогностической роли в отношении результатов лечения и целесообразности проведения адъювантной лучевой терапии в прогностически неблагоприятных случаях. Проведён поиск литературы в электронных базах данных, опубликованных в период с 1987 по 2024 гг., с использованием ключевых слов на русском и английском языках. Опухолевое поражение нижнего сегмента встречается в 3-27,8% случаев при эндометриоидном раке тела матки и, с учётом особенностей анатомической структуры, кровоснабжения и лимфооттока, может являться потенциальным фактором прогноза. По данным немногочисленных исследований опухолевое поражение нижнего сегмента не связано с другими клинико-морфологическими факторами прогноза и не оказывает влияния на безрецидивную выживаемость больных. Другие авторы показывают взаимосвязь поражения нижнего сегмента с глубокой инвазией в миометрий, инвазией лимфоваскулярного пространства, метастатическим поражением лимфатических узлов, но отсутствие его влияния на результаты лечения. Однако, целый ряд исследований демонстрирует, что поражение нижнего сегмента является независимым прогностически неблагоприятным фактором, значимо коррелирующим с традиционными факторами прогноза и снижающим как общую, так и безрецидивную выживаемость, что может обосновывать проведение послеоперационной лучевой терапии у больных с низким и промежуточным рисками прогрессирования заболевания. Проведённый анализ литературы показал перспективность дальнейших исследований по изучению влияния опухолевого поражения нижнего сегмента матки у пациенток эндометриоидным раком тела матки I стадии на клинический исход заболевания с целью поиска новых прогностических факторов и решения вопроса о целесообразности адъювантной лучевой терапии у данной категории больных.
Эндометриоидная аденокарцинома, рак тела матки, нижний сегмент тела матки, фактор риска, лучевая терапия, адъювантное лечение, радиология
Короткий адрес: https://sciup.org/170205591
IDR: 170205591 | УДК: 618.14-006.6-085.849.1 | DOI: 10.21870/0131-3878-2024-33-2-126-144
Текст научной статьи Опухолевое поражение нижнего сегмента матки как потенциальный фактор неблагоприятного прогноза эндометриоидного рака тела матки I стадии для эскалации лечения в виде адъювантной лучевой терапии. Обзор литературы
Рак тела матки (РТМ) является одним из наиболее распространённых злокачественных опухолей женской репродуктивной системы, и его эндометриоидная форма составляет значительную часть всех случаев [1, 2]. Одним из потенциальных аспектов изучения факторов прогноза этой локализации злокачественных новообразований является локализация опухоли в нижнем сегменте (НС) тела матки. Несмотря на то, что опухолевое поражение НС неоднократно становилось объектом исследований, его роль в прогнозировании течения и лечения РТМ остаётся предметом дискуссии. На современном этапе существует разногласие во мнениях исследовате-
Ткаченко Б.Э.* – аспирант; Мкртчян Л.С. – вед. науч. сотр., д.м.н.; Ушакова Д.А. – клин. ординатор; Крикунова Л.И. – гл. науч. сотр., д.м.н., проф.; Замулаева И.А. –зав. отд., д.б.н., проф.; Иванов С.А. – директор, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф. каф. РУДН. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Каприн А.Д. – ген. директор, директор МНИОИ им. П.А. Герцена, зав. каф. РУДН, акад. РАН, д.м.н., проф. ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
лей относительно предиктивной значимости опухолевого поражения НС, что может быть связано с рядом факторов, включая методики исследования, размеры выборок, критерии оценки результатов лечения и др. [3, 4].
Целью данной статьи является обзор существующих данных о связи опухолевого поражения НС матки с традиционными клинико-морфологическими факторами и его прогностической роли в отношении результатов лечения эндометриоидного РТМ. Путём анализа доступных исследований мы стремились выявить основные тренды в этой области, что может способствовать более обоснованному и персонализированному подходу к лечению пациенток с данным заболеванием.
Эпидемиологические аспекты
РТМ в мире занимает седьмое место среди всех злокачественных новообразований у женщин [1]. В 2020 г. РТМ был диагностирован у 417367 женщин во всём мире с наиболее высоким уровнем заболеваемости в странах Северной Америки и Западной Европы, что может быть обусловлено распространённостью факторов риска заболевания, связанных с образом жизни, например, ожирения [2]. В Российской Федерации РТМ занимает первое место среди злокачественных новообразований женских половых органов [5]. В 2021 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 24705 новых случаев РТМ, прирост данного показателя за последние 10 лет составил 21,9% со средним темпом прироста около 3% в год. В 70,8% случаев РТМ диагностируется на I стадии заболевания, однако наблюдается неуклонная тенденция к увеличению показателей смертности с 6494 случаев в 2011 г. до 6734 - в 2021 г. В динамике за 10 лет «грубый» показатель смертности вырос на 3% и составил в 2018 г. 8,61 на 100 тыс. женского населения. Наиболее высокие его значения отмечаются в возрастных группах 75 лет и старше - от 30,1 до 37,27 на 100 тыс. женского населения соответствующего возраста. Это может быть связано как с наличием соматической патологии, так и менее агрессивными подходами к лечению, в том числе вследствие игнорирования потенциальных прогностических факторов [6]. В то же время, среди женщин социально активной категории (до 55 лет), у которых зачастую не лимитировано использование современных лекарственных препаратов и программ лучевой терапии (ЛТ), также отсутствует позитивная тенденция к снижению показателей смертности - 6585 случаев в 2012 г. и 6814 - в 2022 г. Таким образом, высокие показатели заболеваемости и смертности, в том числе среди молодых женщин, обосновывают целесообразность оптимизации методологических подходов к лечению начальных форм РТМ с поиском новых факторов прогноза клинического исхода заболевания.
Прогностические факторы при РТМ
Согласно общепринятым стандартам, после морфологической верификации РТМ выполняется хирургическое лечение, включающее тотальную экстрафасциальную гистерэктомию, двустороннюю сальпингоофорэктомию и оценку состояния лимфатических узлов по показаниям. При эндометриоидной аденокарциноме-, которая встречается в 70-80% случаев среди больных РТМ и является наиболее благоприятной морфологической формой опухоли по сравнению с другими типами (серозная, светлоклеточная карцинома, карциносаркома и др.), проводится послеоперационная стратификация по известным факторам риска, играющим ключевую роль в клиническом исходе заболевания - степень дифференцировки опухоли, глубина инвазии в миометрий, опухолевые эмболы в кровеносных и/или лимфатических сосудах, наличие метастазов в лимфатических узлах [7-9]. С учётом определённых сочетаний клинико-морфологических факторов, об- наруженных в послеоперационном материале, оценивается уровень риска прогрессирования заболевания (низкий, промежуточный, промежуточно-высокий, высокий, распространённая болезнь), на основании которого, а также с учётом объёма проведённого хирургического лечения, в частности, с/без лимфаденэктомии, и определяется необходимость адъювантного лечения в виде ЛТ и/или химиотерапии с целью предупреждения локо-регионарного рецидивирования. Так, опухоли с низкой степенью злокачественности (low-grade) обычно имеют более благоприятный прогноз, особенно при отсутствии опухолевых эмболов в лимфатических щелях, и их лечение может ограничиваться применением хирургического метода, в то время как опухоли с высокой степенью злокачественности (high-grade) ассоциируются с более высоким риском прогрессирования заболевания, особенно в возрастной категории до 60 лет, и могут потребовать более агрессивной терапии с добавлением послеоперационных курсов лучевой и/или химиотерапии [10]. При поверхностной инвазии опухоли (менее 1/2 толщины эндометрия) прогноз заболевания может быть более благоприятным, что, в основном, не требует проведения адъювантной терапии. Высокий риск прогрессирования заболевания, отмеченный при инвазии опухоли более 1/2 толщины миометрия, зачастую определяет необходимость дополнительного лечения, особенно при низкодифференцированных опухолях и/или лимфоваскулярной инвазии (ЛВИ) [11]. Опухолевые эмболы в кровеносных или лимфатических сосудах значимо повышают риск метастазирования, и при отсутствии данных о состоянии регионарных лимфоузлов являются показанием для проведения послеоперационной внутриполостной или дистанционной ЛТ [12, 13].
В последние годы активно развивается представление о молекулярной классификации рака эндометрия, основанной на анализе некоторых показателей мутационного профиля (наличии мутаций генов POLE, TP53, изменении числа соматических копий генов, наличии микросателлит-ной нестабильности) [14]. Согласно молекулярной классификации, больные РТМ разделяются на 4 группы: POLE mut (с мутациями гена POLE ), MMRd (с дефицитом по репарации неспаренных оснований ДНК), р53abn (с мутациями гена ТР53 ) и NSMP (без специфического молекулярного профиля). Выяснилось, что для опухолей с мутациями гена POLE характерен благоприятный исход по выживаемости. Наиболее неблагоприятный прогноз имеют пациенты с мутациями ТP53 . Так, 5-летняя безрецидивная выживаемость (БВ) составила 98% в группе POLE mut и только 48% в группе р53abn. БВ в двух остальных группах имела промежуточные значения от 72 до 74%. Прогностическое значение молекулярной классификации было столь велико, что послужило основанием для её включения в рекомендации ESGO/ESTRO/ESP по ведению больных раком эндометрия [15].
Таким образом, при клинико-морфологической оценке РТМ I стадии на послеоперационном этапе учитывается ряд факторов, которые позволяют определить степень риска прогрессирования заболевания и тактику лечения с разработкой персонализированных программ, целью которых является оптимизация результатов лечения при минимизации побочных эффектов.
Адъювантная лучевая терапия в комбинированном лечении эндометриоидного РТМ I стадии
Радиотерапевтические программы в виде дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) и/или внутриполостного облучения (брахитерапия) являются критически важным компонентом стратегии лечения более 60% больных эндометриоидным РТМ I стадии, особенно при наличии факторов высокого и промежуточно-высокого рисков прогрессирования [16]. О роли ЛТ и её влиянии на результаты лечения эндометриоидного РТМ I стадии сообщается в целом ряде рандомизиро- ванных исследований [11-13]. Воздействуя на остаточные опухолевые клетки, послеоперационная ЛТ снижает риск локо-регионарного рецидивирования и тем самым обеспечивает эффективность лечения данного заболевания [11, 12].
В исследовании PORTEC-1 при проведении послеоперационной ДЛТ зафиксировано значимое снижение частоты локо-регионарных рецидивов при РТМ I стадии, включая эндометриоидную аденокарциному, по сравнению с отсутствием адъювантной терапии - соответственно 6% против 15,5% (p<0,0001) [13]. Снижение частоты локо-регионарных рецидивов у больных РТМ I и II стадий при добавлении послеоперационного курса ДЛТ отмечено также и в исследовании GOG-99 [17].
Проведение адъювантной ЛТ позволяет повысить общую выживаемость (ОВ) больных эндометриоидным РТМ I стадии с наличием таких прогностически неблагоприятных факторов как глубокая инвазия в миометрий, низкодифференцированная форма опухоли, наличие ЛВИ или метастатически поражённых лимфатических узлов [11, 13]. При этом у больных РТМ I стадии высокого и промежуточно-высокого рисков прогрессирования использование адъювантной эндовагинальной брахитерапии по сравнению с ДЛТ демонстрирует идентичную эффективность в снижении частоты рецидивов во влагалище и сопоставимые показатели ОВ на сроке 10 лет: соответственно 2,4% по сравнению с 3,4% (p=0,55) и 69,5% по сравнению с 67,6% (р=0,72).
Таким образом, ЛТ независимо от метода подведения дозы облучения - ДЛТ или брахитерапия, доказала свою эффективность в снижении риска локо-регионарного рецидивирования у больных эндометриоидным РТМ I стадии, особенно в случаях с высоким риском [11].
Согласно результатам рандомизированных исследований, при карциноме эндометрия низкого риска адъювантное лечение не рекомендуется в связи с потенциально невысокой вероятностью развития прогрессирования заболевания, в то время как риск возникновения осложнений при комбинации различных методов (хирургическое и лучевое лечение) может быть существенным [18]. Однако, с учётом данных о послеоперационных рецидивах у части больных данной категории возникают сомнения в полноценности спектра общепринятых в настоящее время неблагоприятных прогностических факторов, которые включены в алгоритмы, определяющие необходимость и объём адъювантного лечения [19]. Поиск новых факторов прогноза позволит идентифицировать ту категорию больных эндометриоидным РТМ I стадии низкого риска прогрессирования, которым может быть показана адъювантная ЛТ.
Тазовая лимфаденэктомия в программах лечения эндометриоидного РТМ I стадии
У больных эндометриоидным РТМ I стадии с целью оценки состояния лимфатических узлов проводится системная тазовая лимфаденэктомия, которая при отсутствии поражения удалённых лимфоузлов позволяет избежать дополнительного лечения. Однако, расширение объёма хирургического вмешательства с выполнением регионарной лимфаденэктомии при низком и промежуточном рисках лимфогенного метастазирования не привело к увеличению показателей общей и безрецидивной выживаемости данной категории больных и до настоящего времени оставило открытым вопрос о целесообразности проведения послеоперационных курсов ЛТ при интактных лимфоузлах [12]. Кроме того, в 30-50% случаев возникают послеоперационные осложнения в виде лимфореи, лимфокист, лимфедемы нижних конечностей, что влияет не только на качество жизни больных, но и эффективность лечения в связи с удлинением сроков начала адъювантной ЛТ при необходимости её проведения [20]. Концепция определения первого лим- фатического узла на пути лимфооттока из поражённого опухолью органа, так называемого сторожевого лимфоузла, может использоваться в качестве альтернативы выполнению стадирую-щей лимфаденэктомии у больных РТМ I стадии [8, 15]. Однако, применение радиоизотопных и флуоресцентных методов диагностики не всегда позволяет с точностью выявить метастатически изменённый лимфатический узел [21], а отсутствие протоколов ультрастадирования, в свою очередь, ограничивает возможность верификации наличия опухолевых клеток.
В этих условиях получение новой прогностической информации может помочь принять решение относительно объёма хирургического лечения, а также позволит индивидуализировать мультимодальные программы лечения с оптимизацией баланса между эффективностью адъювантной ЛТ и потенциальными побочными эффектами.
Опухолевое поражение нижнего сегмента как потенциальный прогностический фактор эндометриоидного РТМ I стадии
В настоящее время при оценке риска прогрессирования эндометриоидного РТМ I стадии и решении вопроса о проведении адъювантной ЛТ не учитывается такой потенциально неблагоприятный клинический фактор как опухолевое поражение НС матки без других традиционных клинических неблагоприятных факторов прогноза [7, 9].
Концепция НС была сформулирована в середине 40-х годов и в дальнейшем активно обсуждалась в многочисленных работах, изучающих особенности течения беременности и родов [22, 23]. На основании результатов морфологических, экспериментальных и клинико-гистерогра-фических исследований установлено, что НС матки рожающей женщины является особым морфофункциональным отделом матки, сократительная деятельность которого участвует в процессах модуляции сократительной деятельности мускулатуры тела матки и прямо участвует в процессе дилатации шейки матки при её полной готовности к родам [24, 25]. Считается, что верхняя граница НС матки проходит в том месте вдоль стенки матки, ниже которого матка должна расшириться для продвижения плода, нижняя граница - в месте фиброзно-мышечного соединения шейки с телом матки. Границей между верхним и нижним маточным сегментом является так называемое контракционное кольцо, т.е. НС включает в себя перешеек и вышерасположенную часть тела матки. Если при беременной матке критерии границ НС не являются предметом дискуссий, то в случае небеременной - одни авторы идентифицируют НС с перешейком [26], другие - выделяя отдельную группу «перешейковых опухолей» [27], включают в НС область перешейка и нижнюю 1/4 [28], 1/3 тела матки [29] или ориентируются на морфологические различия данной области - переход от эндометриальной к эндоцервикальной ткани [30]. Однако, все авторы склоняются к мысли о том, что нижней границей НС является область внутреннего зева, которая чётко визуализируется используемыми методами лучевой диагностики (УЗИ, МРТ). Особенности кровоснабжения этой области, в основном осуществляемое восходящей ветвью маточной артерии, наряду с интенсивным венозным и лимфатическим оттоком, играют определяющую роль при хирургических вмешательствах, таких как кесарево сечение, а также могут иметь значение при распространении злокачественных новообразований [31].
Изолированное опухолевое поражение НС матки представляет собой уникальную клиническую ситуацию, и её распространённость, связь с другими клинико-морфологическими факторами и прогностическая значимость в отношении клинического исхода заболевания обсуждаются в немногочисленных публикациях [3, 32-34].
Распространённость опухолевого поражения НС матки, по данным различных исследований, варьирует от 3 до 27,8% среди всех случаев РТМ [32, 35]. Существует несколько анатомических и физиологических различий, которые могут объяснить прогностическое значение опухолевого поражения НС тела матки. Гистологически нижняя часть тела матки отличается от её средней и верхней 1/3 более тонкой слизистой оболочкой и редко расположенными железами, которые обладают более низкой гормоночувствительностью, даже у женщин репродуктивного возраста [36]. Причём, в переходной от тела к шейке матки области наряду с эндометриальными железами встречаются и эндоцервикальные, что также может обусловливать возможный негативный прогноз, аналогичный II стадии РТМ – при опухолевом поражении шейки матки. Более тонкий миометрий НС матки по сравнению с вышележащими сегментами может явиться потенциальной причиной более глубокой инвазии опухоли в этой области, а известное анатомическое различие в путях лимфооттока – различий в частоте метастатического поражения лимфатических узлов [37]. Различный клинический ответ в зависимости от локализации патологии эндометрия может быть обусловлен и генетической гетерогенностью опухолей, расположенных в области нижнего и верхнего сегментов матки, о которой сообщает ряд авторов [27, 38-40]. Ссылаясь на процесс эмбриогенеза, авторы также рассуждают о заложенной в НС эпигенетической программе, которая инициирует процесс слияния мюллеровых протоков, который, вероятно, проходит по нескольким путям, один из них – быстрая миграция, что и может привести к тому, что опухоли, возникающие в нижних отделах матки, будут более агрессивными [28, 41].
Взаимосвязь опухолевого поражения нижнего сегмента тела матки с клинико-морфологическими факторами
Учитывая особенности метастатического потенциала опухолей, развивающихся в НС матки, вопрос о наличии возможной корреляции последних с другими клинико-морфологическими факторами неоднократно обсуждался в литературе. Ряд авторов, изучая данные морфологического исследования операционного материала больных РТМ, заявляют об отсутствии связи между опухолевым поражением НС и такими важными прогностическими характеристиками опухоли как глубокая инвазия опухоли в миометрий, ЛВИ [42] и метастатическое поражение лимфатических узлов [3, 33]. Большинство исследований, опубликованных в литературе, не выявили также значимой корреляции между возрастом и опухолевым поражением НС матки [33, 42-44].
В то же время в работах других исследователей сообщается о значимой корреляционной связи между опухолевым поражением НС матки и традиционными факторами, влияющими на прогноз заболевания. При этом большинство работ посвящено изучению взаимосвязи опухолевого поражения НС матки и статуса лимфоузлов. Ещё в 80-х годах W.T. Creasman и соавт. (1987) при сравнительном анализе локализации опухоли и наличия метастазов в лимфатических узлах у больных ранней стадией РТМ показали, что при поражении НС матки частота выявления метастатически поражённых лимфоузлов была выше по сравнению с локализацией опухоли в области дна матки: тазовых – соответственно 16% против 8% (р=0,01), парааортальных – соответственно 14% против 4% (р=0,0001) [4]. В работе L.M. Madom и соавт. (2007) было проведено ретроспективное исследование, включающее 299 больных РТМ с различными гистотипами опухоли (эндометриод-ная аденокарцинома – у 218 из них), которым проводилось лечение с 1999 по 2004 гг. [45]. У 174 (58%) пациенток по результатам морфологического исследования операционного материала установлено вовлечение в опухолевый процесс НС матки, из них у 44 (25%) были верифицированы метастатически изменённые лимфоузлы, что оказалось статистически значимо чаще, чем у больных без поражения НС – у 10 (8%) из 125 (р<0,0002). При однофакторном анализе, кроме вовлечения НС, с метастазами в лимфоузлах коррелировали также глубина инвазии опухоли (р<0,0001) и ЛВИ (р<0,0001). При многофакторном анализе опухолевое поражение НС для больных эндометриоидным РТМ оставалось предиктором метастатического поражения лимфатических узлов.
О статистически значимой взаимосвязи опухолей, расположенных в НС, с поражением тазовых (ОШ 3,83, 95% ДИ 1,70-8,60, р<0,01) и парааортальных (ОШ 5,13, 95% ДИ 1,96-13,45, р<0,01) лимфоузлов сообщают и K.M. Doll и соавт. (2013) при проведении многофакторного анализа, в том числе в группах больных РТМ высокого риска прогрессирования (низкодифференцированные эндометриоидные, серозные, светлоклеточные, недифференцированные варианты) [46].
В последующем эти данные были подтверждены турецкими авторами в многоцентровом исследовании, где представлены результаты сравнительного анализа 500 больных РТМ с/без опухолевого поражения НС матки (соответственно 139 (27,8%) и 361 (72,2%) случаев), которым выполнено хирургическое лечение в период с 2007 по 2015 гг. [32]. Вовлечение в опухолевый процесс НС матки коррелировало не только с метастазами в тазовых (р<0,001) и парааортальных (р<0,005) лимфатических узлах, но и с другими неблагоприятными прогностическими факторами: глубиной инвазии в миометрий (р<0,01), поражением серозной оболочки матки (р<0,001), ЛВИ (р<0,001).
О значимой корреляции локализации первичной опухоли с метастазированием в лимфатические узлы (р<0,001), глубиной инвазии в миометрий (р<0,006) и более распространёнными формами заболевания (стадия по FIGO) (р<0,001) сообщают и A. Miyoshi и соавт. (2018), отмечая при этом отсутствие взаимосвязи с ЛВИ (р=0,22) [28].
В то же время M.R. Oliver-Perez и соавт. (2021) в рамках ретроспективного исследования, направленного на выявление связанных с ЛВИ морфологических факторов, показали, что в многофакторном анализе значимыми независимыми факторами для ЛВИ явились размер опухоли ≥2 см (OШ 2,62, 95% ДИ 1,14-6,1, p<0,001) и поражение НС матки (OШ 5,21, 95% ДИ 2,6-10,4, p<0,001) [47].
При изучении результатов хирургического лечения 375 больных РТМ (эндометриоидная аденокарцинома – 174 (90%), локализация опухоли в НС – 89 (24%) случаев) O. Lavie и соавт. (2008) также показали значимую взаимосвязь поражения НС с глубиной инвазии в миометрий (р<0,0001) и наличием лимфоваскулярного поражения (р=0,003). В то же время авторы выявили корреляцию локализации опухоли в НС с высокой степенью злокачественности (high-grade, р=0,022) [33].
В многоцентровом исследовании, включающем данные о 843 больных РТМ из пяти онкологических центров Израиля, при сравнении гистопатологических результатов больных с/без поражения НС матки O. Gemer и соавт. (2009) также подчёркивают его потенциальную роль как значимого прогностического фактора эндометриоидного рака I стадии, связанного с высокой степенью злокачественности (high-grade) наряду с глубокой инвазией (p<0,001) в миометрий и наличием ЛВИ (p=0,01) [44].
О взаимосвязи расположения опухоли в НС матки и менее благоприятным гистотипом опухоли ранее сообщалось в работе T. Hachisuga и соавт. [48]. Продолжая исследование, авторы подтвердили полученные данные на более многочисленной выборке: при поражении НС матки статистически значимо чаще выявляли эндометриоидную аденокарциному high-grade (р=0,02) с глубокой инвазией в миометрий (р<0,01) [49]. Однако связи поражения НС матки с частотой метастазирования в лимфатические узлы в этом исследовании обнаружено не было.
В то же время значительные различия в частоте встречаемости как ЛВИ (40% по сравнению с 22%, р=0,01), так и вовлечённости лимфатических узлов (9,1% против 6,4%, р=0,05) у больных с/без поражения НС матки выявлены в ретроспективном исследовании S. Davidesko и соавт. (2024), включающем 429 больных РТМ (2002-2022 гг.), из которых у 45 (10,5%) имелось поражение НС матки [35].
Интересной в этом аспекте представляется работа H. Cokmez и соавт. (2019), в которой впервые исследуется взаимосвязь между поражением НС матки с/без инвазии в лимфоваскулярное пространство и метастазированием в лимфатические узлы у 253 больных эндометриоидным РТМ, проходивших стадирующее хирургическое лечение в 2010-2019 гг. [34]. При однофакторном (попарном) анализе как опухолевое поражение НС матки, так и инвазия в лимфоваскулярное пространство значимо коррелировали с метастазированием в лимфатические узлы (p<0,05). Однако, при одновременном изучении этих параметров было показано, что у больных с локализацией опухоли в НС тела матки, но без поражения лимфоваскулярного пространства (n=31), метастатическое поражение лимфатических узлов не было зарегистрировано ни в одном случае; в то время, как при сочетании этих факторов (n=18) – выявлены в 50% случаев (p<0,05). Результаты исследования указывают на повышенный риск метастазирования в лимфатические узлы у пациенток с одновременным поражением НС и ЛВИ, предполагая, что вовлечение НС матки может служить независимым предиктором агрессивного течения заболевания. Кроме этого, авторы выявили статистически значимую связь (p<0,05) локализации опухоли в НС с размером опухоли (более/менее 2 см), степенью её дифференцировки, глубиной инвазии в миометрий и стадией заболевания.
В доступной литературе не обнаружено сравнительных данных о молекулярных особенностях опухолей с вовлечением НС матки по сравнению с опухолями других локализаций. Вместе с тем в недавней статье J.V. Brower и соавт. (2024) указывается на перспективность одновременного учёта локализации опухоли в НС и молекулярных данных в клинических рекомендациях [50].
Таким образом, в многочисленных исследованиях показано, что опухолевое поражение НС матки, особенно при эндометриоидной аденокарциноме тела матки, ассоциируется с традиционными неблагоприятными факторами прогноза, и это может быть использовано в качестве дополнительной информации, помогающей принимать решения относительно объёма хирургического вмешательства и адъювантной ЛТ. Однако для оценки вклада данного фактора в результативность лечения РТМ необходимо провести изучение прогностического значения локализации опухоли в НС матки в отношении клинического исхода заболевания.
Прогностическое значение опухолевого поражения нижнего сегмента тела матки в отношении результатов лечения РТМ I стадии
Данные публикаций о прогностической значимости поражения НС являются противоречивыми. Отсутствие его влияния на БВ одними из первых продемонстрировали С. Phelan и соавт. (2021), проанализировав отдалённые результаты лечения больных эндометриоидным РТМ I стадии (медиана наблюдения – 37,3 мес.) [3]. Хотя 5-летняя БВ была ниже у больных с поражением НС по сравнению со случаями без вовлечения НС (80,3 против 94,0%), это различие не достигало статистической значимости (р=0,14). Более того, в многофакторной модели поражение НС не коррелировало с клиническим исходом заболевания (р=0,98; ОШ 0,97; 95% ДИ 0,24-4,0). Ни у одной из 25 пациенток низкого риска (low-grade и/или поверхностная инвазия) с вовлечением НС после хирургического лечения не было зарегистрировано рецидива заболевания в области малого таза. Напротив, у пациенток высокого риска (high-grade и/или глубокая инвазия) отмечена высокая частота локального рецидивирования независимо от вовлечения НС.
Аналогичная точка зрения представлена и в исследовании A. Brown и соавт. (2007): БВ и ОВ больных с/без поражения НС матки была сопоставима (соответственно p=0,3 и p=0,7 при эндометриоидной аденокарциноме, p=0,7 и p=0,8 – при неэндометриоидных гистотипах) [42]. Несмотря на то, что в однофакторном анализе локализация опухоли выступала статистически значимым предиктором риска возникновения рецидива (ОШ 2,8, р=0,04), в многофакторном анализе подобной зависимости выявлено не было (ОШ 1,5, р=0,1). Необходимо отметить, что немногочисленная выборка, полученная после стратификации на гистотипы, не позволила в многофакторном анализе адекватно оценить прогностическую значимость НС и других традиционных факторов (глубина инвазии, ЛВИ) в отношении риска возникновения рецидива заболевания как при эндометриоидных, так и неэндометриоидных морфологических формах.
Отсутствие негативного влияния поражения НС на клинический исход заболевания отмечено и в работах, выполненных в более поздние периоды. Так, S. Erkaya и соавт. (2017) отметили более низкую ОВ в группе больных с локализацией опухоли в НС по сравнению с группой пациенток с отсутствием поражения последнего, но различия были статистически незначимы (р>0,05) – соответственно 82,3 против 80,1%, причём, как при эндометриоидных (соответственно 84,5 против 86,4%), так и неэндометриоидных (соответственно 59,8 против 65,1%) подтипах опухоли. При многофакторном анализе единственными независимыми прогностическими факторами оказались степень дифференцировки опухоли (ОШ 6,57, 95% ДИ 3,59-12,04, р<0,001) и глубина его инвазии в миометрий (ОШ 3,22, 95%, ДИ 1,42-7,29, р<0,005). С учётом показанной в ряде работ значимой корреляции между наличием поражения НС и эндометриоидной аденокарциномой high-grade, анализ БВ мог бы предоставить сведения о вкладе фактора локализации опухоли в риск возникновения рецидивов заболевания. Однако в данной работе подобный анализ не проводился [32].
Интересно, что в работе K.M. Doll и соавт. (2014) в многофакторном анализе ни поражение НС, ни размер опухоли независимо не коррелировали с рецидивом заболевания (соответственно HR 1,67, 95% ДИ 0,81-3,4, р=0,17 и HR 1,21, 95% ДИ 0,90-1,63, р=0,20), хотя и были взаимосвязаны с наличием метастазов в тазовых и парааортальных лимфоузлах (р<0,01), что могло бы априори указывать на более высокий риск неблагоприятного клинического исхода заболевания. Необходимо отметить, что подавляющее число больных, включённых в исследование, имели опухоли high-grade и в совокупности с другими факторами могли нивелировать значимость поражения НС. В пользу данного рассуждения говорит и то, что в однофакторном анализе локализация опухоли в НС оказалась предиктором неблагоприятного клинического исхода заболевания (HR 2,21, 95% ДИ 1,16-4,2, р=0,02). Кроме того, основной части больных с/без поражения НС в связи с гистологически неблагоприятной формой эндометриоидной аденокарциномы проводилась адъювантная ЛТ (соответственно 60,0 и 54,1%, р=0,63), что, возможно, и привело к улучшению результатов лечения при наличии дополнительного потенциально неблагоприятного фактора – локализации опухоли в НС [46].
Несмотря на полученные результаты, тем не менее авторы предполагают, что локализация опухоли в НС матки является важной характеристикой течения заболевания и требует дальнейших исследований по изучению его влияния на неудовлетворительные результаты лечения опухолей низкой степени злокачественности с рассмотрением вопроса об индивидуальном применении адъювантной ЛТ у данной категории пациентов.
Действительно, в целом ряде исследований было показано негативное влияние опухолевого поражения НС на эффективность лечения. Причём, если в ранних работах исследователи с осторожностью озвучивают полученные данные о прогностической значимости опухолевого поражения НС в отношении результатов лечения раннего РТМ [4], то в более поздних работах авторы, регистрируя статистически значимое ухудшение показателей выживаемости при данной локализации опухоли в полости матки, высказывают предположение о целесообразности эскалации лечебных программ в виде адъювантной ЛТ [35].
Так, в исследовании O. Lavie и соавт. (2008) демонстрируется снижение показателей ОВ (р=0,0008) и БВ (р=0,009) при поражении НС [33]. Отсутствие статистически значимых различий в модели пропорциональных рисков Кокса (HR=2,4, 95% ДИ 0,7-8,2; р=0,16) авторы связывают с недостаточной статистической мощностью (375 больных), что находит решение в последующей их работе – многоцентровом исследовании, проведённом в 2009 г. Основу исследования составил однородный контингент – 769 больных эндометриоидным РТМ I стадии, из них послеоперационная ЛТ была проведена в 230 (30,1%) случаях (64 и 166 – соответственно с/без поражения НС, p<0,001). Авторы сообщили о снижении ОВ (p=0,002), а также БВ по критерию возникновения местного (p=0,09) и отдалённого (p=0,04) рецидива заболевания при поражении НС, причём в многофакторном анализе данная закономерность сохранялась (HR=2,3, 95% ДИ 1,3-3,9; р=0,003). Необходимо отметить, что лишь незначительная доля больных (13,1%) имела низкодифференцированные опухоли, в подавляющем большинстве случаев больные относились к группе низкого риска.
Аналогичные данные получены и в исследовании Kizer и соавт. (2011) [43]. Анализируя 481 случай эндометриоидного РТМ I-II стадий, из которых у 223 (46,4%) больных было выявлено поражение НС, авторы отметили снижение у последних на сроке 5 лет как ОВ (р=0,01), так и БВ (р=0,01). Многофакторный анализ подтвердил связь между поражением НС и повышенным риском рецидива (ОШ 2,27; 95% ДИ 1,09-4,7; р=0,03) и летального исхода (ОШ 1,76; 95% ДИ 1,12-2,78; р=0,01). Интересно, что поражение НС значимо коррелировало со снижением ОВ (ОР 1,67, 95% ДИ 1,02-2,72; р=0,04 только у больных с I стадией заболевания.
Одним из важных исследований, позволяющих оценить прогностическую значимость НС в отношении результатов лечения, можно считать работу S. Davidesko и соавт. (2024) [35]. Анализ выживаемости 429 больных РТМ показал, что наличие поражения НС матки было ассоциировано с уменьшением продолжительности жизни (5,6 против 11,5 лет, р=0,03) и времени без прогрессирования (4 против 5,5 лет, р=0,01), даже после коррекции на другие прогностические факторы. При анализе показателей выживаемости было выявлено снижение ОВ и БВ при поражении НС, но различия были статистически незначимы, однако при эндометриоидных формах снижение по БВ носило практически характер тенденции (р=0,06) и увеличивался шанс возникновения рецидива заболевания (HR с 1,29 до 1,35) или летального исхода (HR с 1,55 до 1,76) по сравнению с неэндометриоидными гистотипами.
Заключение
Несмотря на некоторую противоречивость данных литературы, проведённый анализ показывает, что поражение НС может быть связано с традиционными факторами неблагоприятного прогноза и, в то же время, выступать в качестве независимого фактора, влияющего на клинический исход больных РТМ, особенно в отношении раннего эндометриоидного РТМ низкого риска прогрессирования. У данной группы больных с целью повышения результатов лечения может быть целесообразным проведение адъювантной ЛТ, которая в настоящее время не входит в стандарты лечения. Это подтверждает важность и необходимость проведения дальнейших исследований для оценки возможного применения опухолевого поражения НС в качестве предиктора с/без сочетания с другими традиционными прогностическими и разработки новых стратегических подходов для лечения эндометриоидного РТМ I стадии.
Список литературы Опухолевое поражение нижнего сегмента матки как потенциальный фактор неблагоприятного прогноза эндометриоидного рака тела матки I стадии для эскалации лечения в виде адъювантной лучевой терапии. Обзор литературы
- Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., Laversanne M., Soerjomataram I., Jemal A., Bray F. Global cancer statis-tics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries //CA Cancer J. Clin. 2021. V. 71, N 3. Р. 209-249.
- Yi M., Li T., Niu M., Luo S., Chu Q., Wu K. Epidemiological trends of women’s cancers from 1990 to 2019 at the global, regional, and national levels: a population-based study //Biomark. Res. 2021. V. 9, N 1. Р. 55. DOI: 10.1186/s40364-021-00310-y.
- Phelan C., Montag A.G., Rotmensch J., Waggoner S.E., Yamada S.D., Mundt A.J. Outcome and management of pathological stage I endometrial carcinoma patients with involvement of the lower uterine segment //Gynecol. Oncol. 2001. V. 83, N 3. Р. 513-517.
- Creasman W.T., Morrow C.P., Bundy B.N., Homesley H.D., Graham J.E., Heller P.B. Surgical pathologic spread patterns of endometrial cancer. A Gynecologic Oncology Group Study //Cancer. 1987. V. 60, N 8 (Suppl.). Р. 2035-2041.
- Состояние онкологической помощи населению России в 2021 году /под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена − филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2022. 239 с.
- Злокачественные новообразования в России в 2022 году (заболеваемость и смертность) /под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой, И.В. Лисичниковой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена − филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2023. 275 с.
- Oaknin A., Bosse T.J., Creutzberg C.L., Giornelli G., Harter P., Joly F., Lorusso D., Marth C., Makker V., Mirza M.R., Ledermann J.A., Colombo N.; ESMO Guidelines Committee. Endometrial cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up //Ann. Oncol. 2022. V. 33, N 9. P. 860-877.
- Abu-Rustum N., Yashar C., Arend R., Barber E., Bradley K., Brooks R., Campos S.M., Chino J., Chon H.S., Chu C., Crispens M.A., Damast S., Fisher C.M., Frederick P., Gaffney D.K., Giuntoli R., Han E., Holmes J., Howitt B.E., Lea J., Mariani A., Mutch D., Nagel C., Nekhlyudov L., Podoll M., Salani R., Schorge J., Siedel J., Sisodia R., Soliman P., Ueda S., Urban R., Wethington S.L., Wyse E., Zanotti K., McMillian N.R., Aggarwal S. Uterine Neoplasms, Version 1.2023, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology //J. Natl. Compr. Canc. Netw. 2023. V. 21, N 2. P. 181-209.
- Рак тела матки и саркомы матки: клинические рекомендации. М.: Минздрав России, 2022. [Электронный ресурс]. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/460_3 (дата обращения 10.04.24).
- Crosbie E.J., Kitson S.J., McAlpine J.N., Mukhopadhyay A., Powell M.E., Singh N. Endometrial cancer //Lancet. 2022. V. 399, N 10333. Р. 1412-1428.
- Wortman B.G., Creutzberg C.L., Putter H., Jürgenliemk-Schulz I.M., Jobsen J.J., Lutgens L.C., van der Steen-Banasik E.M., Mens J.W., Slot A.; the PORTEC Study Group. Ten-year results of the PORTEC-2 trial for high-intermediate risk endometrial carcinoma: improving patient selection for adjuvant therapy //Br. J. Cancer. 2018. V. 119, N 9. Р. 1067-1074.
- de Boer S.M., Powell M.E., Mileshkin L., Katsaros D., Bessette P., Haie-Meder C., Ottevanger P.B., Le-dermann J.A., Khaw P., Colombo A., Fyles A., Baron M.H., Jürgenliemk-Schulz I.M., Kitchener H.C., Nijman H.W., Wilson G., Brooks S., Carinelli S., Provencher D., Hanzen C., Lutgens L.C., Smit V.T., Singh N., Do V., D'Amico R., Nout R.A., Feeney A., Verhoeven-Adema K.W., Putter H., Creutzberg C.L.; PORTEC study group. Adjuvant chemoradiotherapy versus radiotherapy alone for women with high-risk en-dometrial cancer (PORTEC-3): final results of an international, open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial //Lancet Oncol. 2018. V. 19, N 3. Р. 295-309.
- Creutzberg C.L., Nout R.A., Lybeert M.L., Wárlám-Rodenhuis C.C., Jobsen J.J., Mens J.W., Lutgens L.C., Pras E., van de Poll-Franse L.V., van Putten W.L.; PORTEC Study Group. Fifteen-year radiotherapy outcomes of the randomized PORTEC-1 trial for endometrial carcinoma //Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2011. V. 81, N 4. Р. e631-e638.
- León-Castillo A., de Boer S.M., Powell M.E., Mileshkin L.R., Mackay H.J., Leary A., Nijman H.W., Singh N., Pollock P.M., Bessette P., Fyles A., Haie-Meder C., Smit V.T., Edmondson R.J., Putter H., Kitchener H.C., Crosbie E.J., de Bruyn M., Nout R.A., Horeweg N., Creutzberg C.L., Bosse T.; TransPORTEC consor-tium. Molecular classification of the PORTEC-3 trial for high-risk endometrial cancer: impact on prognosis and benefit from adjuvant therapy //J. Clin. Oncol. 2020. V 38, N 29. P. 3388-3397.
- Concin N., Matias-Guiu X., Vergote I., Cibula D., Mirza M.R., Marnitz S., Ledermann J., Bosse T., Char-gari C., Fagotti A., Fotopoulou C., Gonzalez Martin A., Lax S., Lorusso D., Marth C., Morice P., Nout R.A., O'Donnell D., Querleu D., Raspollini M.R., Sehouli J., Sturdza A., Taylor A., Westermann A., Wim-berger P., Colombo N., Planchamp F., Creutzberg C.L. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma //Int. J. Gynecol. Cancer. 2021. V. 31, N 1. P. 12-39.
- Aoki Y., Kanao H., Wang X., Yunokawa M., Omatsu K., Fusegi A., Takeshima N. Adjuvant treatment of endometrial cancer today //Jpn. J. Clin. Oncol. 2020. V. 50, N 7. P. 753-765.
- Creutzberg C.L. GOG-99: ending the controversy regarding pelvic radiotherapy for endometrial carcinoma? //Gynecol. Oncol. 2004. V. 92, N 3. P. 740-743.
- Nout R.A., van de Poll-Franse L.V., Lybeert M.L., Wárlám-Rodenhuis C.C., Jobsen J.J., Mens J.W., Lutgens L.C., Pras B., van Putten W.L., Creutzberg C.L. Long-term outcome and quality of life of patients with endometrial carcinoma treated with or without pelvic radiotherapy in the post operative radiation therapy in endometrial carcinoma 1 (PORTEC-1) trial //J. Clin. Oncol. 2011. V. 29, N 13. Р. 1692-1700.
- Tronconi F., Nero C., Giudice E., Salutari V., Musacchio L., Ricci C., Carbone M.V., Ghizzoni V., Perri M.T., Camarda F., Gentile M., Berardi R., Scambia G., Lorusso D. Advanced and recurrent endometrial cancer: state of the art and future perspectives //Crit. Rev. Oncol. Hematol. 2022. V. 180. Р. 103851. DOI: 10.1016/j.critrevonc.2022.103851.
- Kakubari R., Kobayashi E., Kakuda M., Iwamiya T., Takiuchi T., Kodama M., Hashimoto K., Ueda Y., Sawada K., Tomimatsu T., Kimura T. Postoperative lymphocyst formation after pelvic lymphadenectomy for gynecologic cancers: comparison between laparoscopy and laparotomy //Int. J. Clin. Oncol. 2022. V. 27, N 3. Р. 602-608.
- Holloway R.W., Abu-Rustum N.R., Backes F.J., Boggess J.F., Gotlieb W.H., Jeffrey Lowery W., Rossi E.C., Tanner E.J., Wolsky R.J. Sentinel lymph node mapping and staging in endometrial cancer: a Society of Gynecologic Oncology literature review with consensus recommendations //Gynecol. Oncol. 2017. V. 146, N 2. Р. 405-415.
- Danforth D.N., Ivy A.C. The lower uterine segment; its derivation and physiologic behavior //Am. J. Obstet. Gynecol. 1949. V. 57, N 5. P. 831-841.
- McLeish S.F., Murchison A.B., Smith D.M., Ghahremani T., Johnson I.M., Magann E.F. Predicting uterine rupture risk using lower uterine segment measurement during pregnancy with cesarean history: how reliable is it? A review //Obstet. Gynecol. Surv. 2023. V. 78, N 5. P. 302-308.
- Hoffmann J., Exner M., Bremicker K., Grothoff M., Stumpp P., Stepan H. Comparison of the lower uterine segment in pregnant women with and without previous cesarean section in 3 T MRI //BMC Pregnancy Child-birth. 2019. V. 19, N 1. P. 160. DOI: 10.1186/s12884-019-2314-7.
- Савицкий А.Г., Абрамченко В.В., Савицкий Г.А. Роль нижнего сегмента в родовом процессе //Жур-нал акушерства и женских болезней. 2005. Т. LIV, № 3. С. 19-20.
- Westin S.N., Lacour R.A., Urbauer D.L., Luthra R., Bodurka D.C., Lu K.H., Broaddus R.R. Carcinoma of the lower uterine segment: a newly described association with Lynch syndrome //J. Clin. Oncol. 2008. V. 26, N 36. P. 5965-5971.
- Jacques S.M., Qureshi F., Ramirez N.C., Malviya V.K., Lawrence W.D. Tumors of the uterine isthmus: clinicopathologic features and immunohistochemical characterization of p53 expression and hormone recep-tors //Int. J. Gynecol. Pathol. 1997. V. 16, N 1. P. 38-44.
- Miyoshi A., Kanao S., Naoi H., Otsuka H., Yokoi T. Investigation of the clinical features of lower uterine segment carcinoma: association with advanced stage disease and indication of poorer prognosis //Arch. Gynecol. Obstet. 2018. V. 297, N 1. Р. 193-198.
- Prat J. Pathology of cancers of the female genital tract //Int. J. Gynaecol. Obstet. 2015. V. 131, N 2 (Suppl.). P. S132-S145.
- Mayr N.A., Wen B.C., Benda J.A., Sorosky J.I., Davis C.S., Fuller R.W., Hussey D.H. Postoperative radi-ation therapy in clinical stage I endometrial cancer: corpus, cervical, and lower uterine segment involvement-patterns of failure //Radiology. 1995. V. 196, N 2. Р. 323-328.
- Rawal A.C. The lower segment of uterus – a critical area in childbirth and resulting trauma //Principles of Critical Care in Obstetrics. New Delhi: Springer, 2016. P. 175-197.
- Erkaya S., Öz M., Topçu H.O., Şi̇Rvan A.L., Güngör T., Meydanli M.M. Is lower uterine segment involve-ment a prognostic factor in endometrial cancer? //Turk. J. Med. Sci. 2017. V. 47, N 1. Р. 300-306.
- Lavie O., Uriev L., Gdalevich M., Barak F., Peer G., Auslender R., Anteby E., Gemer O. The outcome of patients with stage I endometrial cancer involving the lower uterine segment //Int. J. Gynecol. Cancer. 2008. V. 18, N 5. Р. 1079-1083.
- Cokmez H., Yilmaz A. Lower uterine segment involvement in lymphovascular space invasion and lymph node metastasis in endometrioid endometrial cancer //Ginekol. Pol. 2019. V. 90, N 6. Р. 314-319.
- Davidesko S., Meirovitz M., Shaco-Levy R., Yarza S., Samueli B., Kezerle Y., Kessous R. The significance of lower uterine segment involvement in endometrial cancer //Eur. J. Surg. Oncol. 2024. V. 50, N 3. Р. 108007. DOI: 10.1016/j.ejso.2024.108007.
- Buhimschi C.S., Buhimschi I.A., Zhao G., Funai E., Peltecu G., Saade G.R., Weiner C.P. Biomechanical properties of the lower uterine segment above and below the reflection of the urinary bladder flap //Obstet. Gynecol. 2007. V. 109, N 3. Р. 691-700.
- Geppert B., Lönnerfors C., Bollino M., Arechvo A., Persson J. A study on uterine lymphatic anatomy for standardization of pelvic sentinel lymph node detection in endometrial cancer //Gynecol. Oncol. 2017. V. 145, N 2. Р. 256-261.
- Matoba Y., Kisu I., Saotome K., Katayama M., Taniguchi M., Miura Y., Goto T., Hirao N. Clear cell carci-noma of the lower uterine segment: a case report //Mol. Clin. Oncol. 2016. V. 5, N 6. Р. 701-704.
- Watanabe Y., Nakajima H., Nozaki K., Ueda H., Obata K., Hoshiai H., Noda K. Clinicopathologic and immunohistochemical features and microsatellite status of endometrial cancer of the uterine isthmus //Int. J. Gynecol. Pathol. 2001. V. 20, N 4. Р. 368-373.
- Kogan L., Octeau D., Amajoud Z., Abitbol J., Laskov I., Ferenczy A., Pelmus M., Eisenberg N., Kessous R., Lau S., Yasmeen A., Gotlieb W.H., Salvador S. Impact of lower uterine segment involvement in type II endometrial cancer and the unique mutational profile of serous tumors //Gynecol. Oncol. Rep. 2018. V. 24. Р. 43-47.
- Youngson N.A., Vickaryous N., van der Horst A., Epp T., Harten S., Fleming J.S., Khanna K.K., de Kretser D.M., Whitelaw E. A missense mutation in the transcription factor Foxo3a causes teratomas and oocyte abnormalities in mice //Mamm. Genome. 2011. V. 22, N 3-4. Р. 235-248.
- Brown A.K., Madom L., Moore R., Granai C.O., Disilvestro P. The prognostic significance of lower uterine segment involvement in surgically staged endometrial cancer patients with negative nodes //Gynecol. Oncol. 2007. V. 105, N 1. Р. 55-58.
- Kizer N.T., Gao F., Guntupalli S., Thaker P.H., Powell M.A., Goodfellow P.J., Mutch D.G., Zighelboim I. Lower uterine segment involvement is associated with poor outcomes in early-stage endometrioid endometrial carcinoma //Ann. Surg. Oncol. 2011. V. 18, N 5. Р. 1419-1424.
- Gemer O., Gdalevich M., Voldarsky M., Barak F., Ben Arie A., Schneider D., Levy T., Anteby E.Y., Lavie O. Lower uterine segment involvement is associated with adverse outcome in patients with stage I endometroid endometrial cancer: results of a multicenter study //Eur. J. Surg. Oncol. 2009. V. 35, N 8. Р. 865-869.
- Madom L.M., Brown A.K., Lui F., Moore R.G., Granai C.O., Disilvestro P.A. Lower uterine segment in-volvement as a predictor for lymph node spread in endometrial carcinoma //Gynecol. Oncol. 2007. V. 107, N 1. Р. 75-78.
- Doll K.M., Tseng J., Denslow S.A., Fader A.N., Gehrig P.A. High-grade endometrial cancer: revisiting the impact of tumor size and location on outcomes //Gynecol. Oncol. 2014. V. 132, N 1. Р. 44-49.
- Oliver-Perez M.R., Magriña J., Villalain-Gonzalez C., Jimenez-Lopez J.S., Lopez-Gonzalez G., Barcena C., Martinez-Biosques C., Gil-Ibañez B., Tejerizo-Garcia A. Lymphovascular space invasion in endometrial carcinoma: tumor size and location matter //Surg. Oncol. 2021. V. 37. Р. 101541. DOI: 10.1016/j.suronc.2021.101541.
- Hachisuga T., Kaku T., Enjoji M. Carcinoma of the lower uterine segment. Clinicopathologic analysis of 12 cases //Int. J. Gynecol. Pathol. 1989. V. 8, N 1. Р. 26-35.
- Hachisuga T., Fukuda K., Iwasaka T., Hirakawa T., Kawarabayashi T., Tsuneyoshi M. Endometrioid adenocarcinomas of the uterine corpus in women younger than 50 years of age can be divided into two distinct clinical and pathologic entities based on anatomic location //Cancer. 2001. V. 92, N 10. Р. 2578-2584.
- Brower J.V., Bregar A.J., Klopp A.H. Path to precision: refining radiation therapy guidelines for early stage endometrial cancer through incorporation of primary tumor size, lower uterine segment invasion, and molecular markers //Pract. Radiat. Oncol. 2024. V. 14, N 2. P. 154-160.