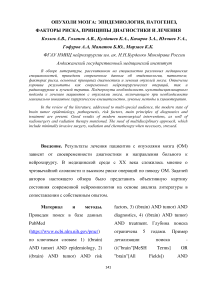Опухоли мозга: эпидемиология, патогенез, факторы риска, принципы диагностики и лечения
Автор: Козлов А.В., Голанов А.В., Кулдашев К.А., Кахаров З.А., Юлчиев У.А., Гофуров А.А., Маматов Б.Ю., Мирзаев К.К.
Журнал: Re-health journal @re-health
Рубрика: Нейрохирургия
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В обзоре литературы, рассчитанном на специалистов различных медицинских специальностей, приведены современные данные об эпидемиологии, патогенезе, факторах риска, основных принципах диагностики и лечения опухолей мозга. Отмечены хорошие результаты как современных нейрохирургических операций, так и радиохирургии и лучевой терапии. Подчеркнута необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению пациентов с опухолями мозга, включающего при необходимости минимально инвазивное хирургическое вмешательство, лучевые методы и химиотерапию.
Короткий адрес: https://sciup.org/14125378
IDR: 14125378
Текст научной статьи Опухоли мозга: эпидемиология, патогенез, факторы риска, принципы диагностики и лечения
Проведен поиск в базе данных PubMed
по ключевым словам: 1) ((brain) AND tumor) AND epidemiology, 2) ((brain) AND tumor) AND risk factors, 3) ((brain) AND tumor) AND diagnostics, 4) ((brain) AND tumor) AND treatment. Глубина поиска ограничена 5 годами. Пример детализации поиска -((("brain"[MeSH Terms] OR "brain"[All Fields]) AND
("tumour"[All Fields] OR "neoplasms"[MeSH Terms] OR "neoplasms"[All Fields] OR "tumor"[All Fields])) AND ("epidemiology"[Subheading] OR "epidemiology"[All Fields] OR "epidemiology"[MeSH Terms])) AND (medline[sb] AND "2014/09/12"[PDat] : "2019/09/10"[PDat]). Получены ссылки более чем на 300 000 публикаций. Очевидно, что тема актуальна и интенсивно разрабатывается, но полный анализ такого массива данных невозможен. Исходя из целей данной публикации, мы ограничились 10 источниками, добавив к ним русскоязычную монографию, доступную на территории СНГ.
Результаты и обсуждение. Эпидемиология. Заболеваемость первичными опухолями головного и спинного мозга (ОМ), по данным CBTRUS, 2018, составляет 23 случая на 100 000 населения в год [1]. В 1995-1999 гг., по данным того же регистра, этот показатель составлял 14/100 000 населения в год. Различие обусловлено не ростом заболеваемости ОМ, а только повышением доступности нейровизуализационных исследований и, главное, улучшением учета. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о заболеваемости ОМ в мире, равной 3,4/100 000 в год; различие показателей объясняется худшей организацией учета в рамках ВОЗ и худшей диагностикой в развивающихся странах [1]. Полноценные онкологические регистры в странах СНГ находятся в стадии создания, поэтому сегодня целесообразно ориентироваться на данные CBTRUS как наиболее полные.
Всего выделяют более 100 видов первичных ОМ, большинство из них (69,1%) -доброкачественные. Самыми распространенными (36,7%) являются менингиомы, в 98,5% случаев доброкачественные; 14,7% первичных ОМ составляют глиобластомы и 10,2% - другие злокачественные глиомы, 16,4% -доброкачественные опухоли гипофиза и 8,5% - опухоли периферических нервов, также доброкачественные. Остальные ОМ встречаются реже [1].
Гистологическая классификация опухолей ЦНС, принятая ВОЗ, включает 4 степени (Grade) злокачественности ОМ, но Международная классификация болезней в онкологии (ICD-O или, по-русски, МКБ-О) выделяет только 3 варианта: 0 – доброкачественные, 1 – неопределенного поведения и 3 – злокачественные ОМ (вариант 2 – cancer in situ – в нейроонкологии отсутствует) [2]. При расхождениях между указанными классификациями следует руководствоваться МКБ-О. Так, если диффузная астроцитома по гистологической классификации ВОЗ относится к Grade 2, а по МКБ-О – к 3, то должна считаться злокачественной.
В связи с успехами нейрохирургии и доброкачественным характером большинства ОМ, показатели смертности от них существенно ниже заболеваемости – 0,71,0/100 000 населения в возрасте до 40 лет и 9/100 000 – в возрасте 40 лет и старше [1]. Таким образом, статистика однозначно свидетельствует, что диагноз ОМ сегодня является не приговором, а основанием для проведения полноценного комплекса диагностических и лечебных мероприятий.
Патогенез ОМ, несмотря на интенсивной изучение, остается неясным. Если на рубеже ХХ и ХXI веков доминировала мутационная теория, то сегодня первоочередное внимание уделяется эпигенетическим факторам, т.е. молекулам, инициирующим или, наоборот, блокирующим считывание информации с гена на матричную РНК [3]. Так, нарушение синтеза изоцитратдегидрогеназы 1 и 2 типов затрудняет восстановление повреждений ДНК в клетках опухоли, возникающих под действием лучевой и химиотерапии, и наличие или отсутствие мутации кодирующего выработку этих белков гена IDH 1 и 2 уже учитывается в современной гистологической классификации опухолей ЦНС ВОЗ [2] и в подборе химиотерапии. Известно, что генные мутации отсутствуют в 60% опухолей гипофиза, при этом фармакологическое (не цитостатическое) лечение обычно приводит к регрессии или полному исчезновению пролактином и соматотропином [4]. Сегодня внимание исследователей сосредоточено на роли в пролиферации клетки деацетилаз гистона (HDAC), которые могут быть объектом фармакологического воздействия [3]. Также большое внимание уделяется роли внеклеточных везикул (липидных гранул), образующихся на поверхности опухолевых клеток, попадающих в межклеточное пространство и в кровоток, и непонятным пока образом передающих информацию другим опухолевым клеткам, в том числе обеспечивающую устойчивость к проводимому лечению [5,6].
Факторы риска. Вероятность возникновения ОМ увеличивают рентгеновское и радиоактивное облучение (в 2-7 раз в зависимости от дозы, для менингиом) и наличие близкого родственника с ОМ (в 2 раза, для разных опухолей); снижает (в 2 раза, для глиом) наличие аллергических заболеваний (сенной лихорадки, бронхиальной астмы, атопического дерматита, пищевой аллергии). Другие изучавшиеся факторы (травма головы, электромагнитное излучение, в том числе сотовых телефонов, магнитное поле, пищевые нитриты и пестициды) на риск возникновения ОМ не влияют [1].
Профилактика ОМ не разработана. Исходя из известных факторов риска, можно рекомендовать минимизацию лучевой нагрузки в ходе медицинских исследований.
Диагностика ОМ основывается на появлении и постепенном нарастании у пациента тех или иных неврологических симптомов. В этом случае врач общей практики или невропатолог должны определить «область интереса» (голова, шейный, грудной или пояснично-крестцовый отдел позвоночника) и назначить нейровизуализационное исследование. «Золотым стандартом» диагностики ОМ является МРТ с контрастированием.
противопоказаниях к введению препаратов гадолиния выполняют нативную МРТ, при противопоказаниях к МРТ (например, при наличии кардиостимутятора и т.д.) - КТ с контрастированием, при непереносимости йод-содержащих препаратов - КТ без контрастирования. Другие нейровизуализационные исследования (например, МРТ в специальных последовательностях, ангиографию и прочие) на этом этапе проводить не следует, их в случае необходимости назначит нейрохирург [7].
С расширением доступности КТ и МРТ все чаще встречаются ситуации, когда ОМ выявляются случайно в ходе исследования, проведенного по поводу черепномозговой травмы, головных болей напряжения и т.д. Таких пациентов также следует направлять на консультацию нейрохирурга, который определит оптимальную тактику. Следует иметь в виду, что при маленьких менингиомах без клинических проявлений и без перитуморозного отека мозга, а также при некоторых других ОМ часто рекомендуют динамическое наблюдение - повторение МРТ с контрастированием через 3 месяца, и при отсутствии динамики - 1 раз в год [7].
Принципы лечения в нейроонкологии. При ОМ используют хирургический, лучевой и химиотерапевтический методы, порознь или в различных сочетаниях в зависимости от гистологического диагноза
(верифицированного или предположительного) и клинической ситуации. Излечение от ОМ возможно при некоторых аденомах гипофиза, пилоидной астроцитоме, субэпендимарной гигантоклеточной астроцитоме и ряде других редких доброкачественных новообразований, а также при некоторых злокачественных опухолях - медуллобластоме и герминоме, с вероятностью 60-70% и свыше 90%, соответственно. В остальных, т.е. в подавляющем большинстве случаев ОМ целью лечения
является контроль
опухоли, т.е. отсутствие ее прогрессии в течение возможно большего периода времени.
Особенности нейрохирургических
операций. В
нейроонкологии невозможно соблюдение принципов онкологической абластики, т.е. удаление ОМ единым блоком с окружающими тканями. Чаще всего опухоль удаляют фрагментированием, и опухолевые клетки остаются в ране даже при макроскопически полной резекции ОМ. Поэтому даже после видимо полного удаления доброкачественной менингиомы 15-летняя безрецидивная выживаемость составляет не 100, а около 90% [8]. При опухолях с диффузным ростом в ткань мозга, а также при вовлечении в ОМ критически и функционально значимых структур (коры мозга, проводящих путей, нервов и сосудов), удаление обычно бывает частичным. Наконец, при глубинно расположенных ОМ нейрохирургическое вмешательство может быть ограничено стереотаксической биопсией с целью верификации гистологического диагноза. При неоперабельных опухолях возможно выполнение декомпрессивной трепанации черепа и разгрузочных операций на ликворной системе с целью снижения внутричерепной гипертензии [7].
Результаты. Становление нейрохирургии сопровождалось высокими показателями послеоперационной летальности, которая в 1940-е годы при некоторых видах онкологической патологии достигала 50% [8].
Сегодня, с прогрессом диагностики, хирургической техники,
анестезиологии,
реаниматологии и других областей медицины,
хирургическая
летальность в нейроонкологии обычно не превышает 0,6% (в
НМИЦ нейрохирургии за последние годы - 0,5%). Главной проблемой сегодня считается снижение показателя морбидности, причем не только постоянной (инвалидизации), но и временной. Достигается это за счет снижения травматизации мозга и критически значимых структур при использовании минимальноинвазивных хирургических доступов и фармакологических средств защиты мозга в ходе нейрохирургических вмешательств [8]. Следует иметь в виду, что в конце ХХ века в нейрохирургии доминировала концепция необходимости максимально радикального удаления ОМ, для чего разрабатывались экстенсивные трансбазальные хирургические доступы, например, доступ к скату с расщеплением лица [9]. Объективный анализ результатов использования экстенсивных доступов, проведенный на рубеже веков, показал их однозначно негативное влияние на качество жизни пациентов при отсутствии значимого влияния на частоту рецидивов ОМ [10], и сегодня такие доступы применяют лишь в исключительных случаях [8].
Радиохирургия и лучевая терапия. Радиохирургией называют прецизионное облучение небольших мишеней, проводимое, как правило, однократно.
Высокотехнологичное оборудование, используемое для данного метода лечения (Гамманож, Кибер-нож и другие линейные ускорители) требуют командной работы нейрохирурга, радиационного онколога и медицинского физика. Ограничением считается объем мишени более 20 мл, или 35 мм в максимальном измерении [7], впрочем, единственная в СНГ установка Гамма-нож последнего поколения (Gamma Knife Icon), работающая на территории НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко, обеспечивает возможность облучения мишеней и большего размера.
Лучевую терапию, т.е. фракционированное облучение, используют при крупных и инфильтративно растущих опухолях, а также при вовлечении в процесс критических структур (например, зрительных нервов и хиазмы).
Радиохирургические и радиотерапевтические методы лечения ОМ могут как дополнять хирургическое вмешательство, так и использоваться самостоятельно; их эффективность сопоставима с хирургией при отсутствии летальности и меньшей морбидности [7].
Химиотерапия.
Цитостатическая химиотерапия используется преимущественно при злокачественных ОМ. Чаще всего при глиомах назначают темозоломид, препарат отличает простота приема (внутрь) и высокая эффективность. При глиобластоме химиотерапию темозоломидом начинают одновременно с лучевой терапией (химиолучевое лечение) и затем проводят 6 и более курсов монохимиотерапии. Возможно использование и других препаратов, и их сочетаний.
Фармакотерапия применяется и при доброкачественных ОМ, в первую очередь, при гормонально активных аденомах гипофиза. Так, при пролактин-секретирующих аденомах препаратом выбора является бромокриптин, при СТГ-продуцирующих – октреотид, при АКТГ-продуцирующих – кетоконазол [7].
Заключение. Таким образом, современная нейроонкология характеризуется комплексным подходом к лечению пациентов. Целью такого лечения в большинстве случаев является обеспечение контроля опухолевого роста при максимально возможных показателях качества и продолжительности жизни, причем в некоторых случаях возможен отказ от хирургического вмешательства в пользу лучевого, химиотерапевтического метода или динамического наблюдения. Ведутся интенсивные разработки молекулярной биологии ОМ, но о практическом применении выявленных закономерностей говорить рано. Хирургическое вмешательство пока остается необходимым у большинства пациентов с ОМ, но прогресс нейрохирургии сделал риск минимальным.
Список литературы Опухоли мозга: эпидемиология, патогенез, факторы риска, принципы диагностики и лечения
- Ostrom QT, Gittleman H, Truitt G, Boscia A, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2011-2015. Neuro Oncol. 2018 Oct 1;20(suppl_4):iv1-iv86.
- Louis DN, Perry A, Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee WK, Ohgaki H, Wiestler O D, Kleihues P, Ellison DW. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta Neuropathol. 2016 Jun; 131(6): 803-820. Published online 2016 May 9. -З.
- Eyüpoglu IY, Savaskan NE. Epigenetics in Brain Tumors: HDACs Take Center Stage. Curr Neuropharmacol. 2016 Jan; 14(1): 48-54. Published online 2016 Jan.
- Marques P, Korbonits M. Genetic Aspects of Pituitary Adenomas. Endocrinol Metab Clin North Am. 2017 Jun;46(2):335-374. Epub 2017 Mar 18.
- Tkach M, Théry C. Communication by Extracellular Vesicles: Where We Are and Where We Need to Go. cell. 2016 Mar 10;164(6):1226-1232.