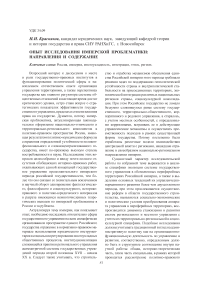Опыт исследования имперской проблематики: направления и содержание
Автор: Красняков Н.И.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Юриспруденция: теория и практика
Статья в выпуске: 4 (31), 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируются направления и содержание исследования имперской проблематики в историко-правовой науке. Выделяются национально-этнический и территориально-региональный элементы имперской государственной системы. Предлагается в методологии темы акцентировать внимание на категориях: многоукладность, геополитическая устойчивость, бюрократизм, сложноцентрализованное управление.
Россия, империя, многоукладность, интеграция, этнос, регион
Короткий адрес: https://sciup.org/142178917
IDR: 142178917
Текст научной статьи Опыт исследования имперской проблематики: направления и содержание
Возросший интерес к дискуссиям о месте и роли государственно-правовых институтов в функционировании политической сферы и накопленном отечественном опыте организации управления территориями, а также перспективах государства как главного регулятора системы общественных отношений в настоящее время достиг критического уровня, остро ставя вопрос о стратегических показателях эффективности государственного управления, пределах и степени влияния права на государство. Думается, потому имперская проблематика, актуализирующая законодательное оформление национально-этнического и территориально-регионального компонентов в политико-правовом пространстве России, имеющая результатом политико-юридические формулы сохранения определенной устойчивости поликон-фессионального и сложноцентрализованного государства, имеет по-прежнему высокую степень востребованности в науке. Исследование этих вопросов целесообразно и ввиду почти полного отсутствия обобщающих историко-правовых работ, охватывающих единой концепцией государственное управление продолжительного имперского периода российской государственности, тем более что оно связано со значительным вовлечением в научный оборот одновременно фактологического, философского и социокультурного, историкоправового и политико-юридического материалов в разрезе имеющихся немногочисленных теоретических выводов по имперской проблематике в России и за рубежом.
Актуализируя тему империи, как показывает опыт, необходимо исследовать относительно сферы государственного управления на всем специфически организованном пространстве единого Российского государства отражение в нормативно-правовом материале использования юридического инструментария в социальном регулировании многоукладных общественных процессов, институционализации сложившейся практики регионального управления асимметричной системы государственных учреждений периода второй половины XVII – начала XX в. Следует также учитывать, что строитель- ство и отработка механизмов обеспечения единства Российской империи этого периода требовали решения задач по поддержанию геополитической устойчивости страны и внутриполитической стабильности на присоединенных территориях, экономической интеграции различных национальных регионов страны, социокультурной консолидации. При этом Российское государство не ломало бездумно сложившуюся ранее систему государственного, территориально-общественного, корпоративного и родового управления, а старалось, с учетом местных особенностей, с определенными коррективами, встраивать ее в действующие управленческие механизмы и осуществлять преемственность подходов в рамках существующей формы государства. Потому постепенно были отработаны различные модели взаимодействия центральной власти с регионами, нашедшие отражение в своеобразном национально-региональном подразделении империи.
Сущностный характер исследовательской работы по избранной теме выражается в анализе специфики эволюции системы государственного управления в обозначенных периферийных территориях Российской империи, а также в выделении основных тенденций их управленческо-нормативного развития более чем двухсотлетнего периода, при этом прослеживается осуществление реформ в области государственного строительства, выявляются социально-экономические и политические условия преобразования аппарата управления в периферийных территориях, воспроизводится динамика становления и развития систем регионального и местного управления с учетом их территориально-региональной и социокультурной специфики. Подобные исследования должны учитывать традиционный взгляд на административную политику как на организационнофункциональную деятельность по управлению в развитии, соответственно, определенным должно быть и структурное соотношение внутри научной работы: общая, историко-теоретическая часть, затем часть специальная, в рамках которой проводится рассмотрение политико-правового процесса влияния имперского характера государственности на урегулирование вопросов империо-строительства и государственного управления в регионах и центре в рамках предложенных моделей регионального управления.
В ходе исследования стоит уделить существенное внимание теоретико-методологическим, политико-правовым и социально-результативным основам формирования и эволюции системы государственного управления периферийными регионами Российской империи. В частности, сюда включаются подходы самодержавной власти к организации имперского политико-правового пространства, а также направления, содержание и специфика интеграции региональных управленческих институтов и механизма публичной власти России.
Стоит подчеркнуть, что необходимо выделить позитивацию самобытных социально-правовых традиций присоединяемых территорий и автономистской традиции Российского государства, поскольку последнее, по существу, было и оставалось специфичным - унитарным на всем протяжении исследуемого периода. При этом восприятие верховной власти империи в ее пределах выражается применительно к совокупности трех элементов классической арифметической теории происхождения государства: «власть + население + территория» как «самодержавная власть + надэтнический состав населения + региональные несуверенные образования».
Отметим, что государственная власть в империи обеспечивается такими элементами механизма ее легитимации, как сакральный характер власти монарха, дифференциация власти и системы регионального управления, общность и легитимность имперской элиты, завоевательный характер ее распространения и авторитета, более развитый тип цивилизации центра, сохранение по мере возможности многоукладности полиэтничного населения. Но в определенный исторический период перехода государства в буржуазную эпоху, в силу своей традиционалистской и бюрократической природы, эта власть не вписывается в модернизационный императив и потому ее социальная база резко уменьшается.
Содержательные линии исследования империи включают в себя, во-первых, общие научнотеоретические подходы, теоретико-методологические подходы историков государства и права к изучению Российской империи как формы организации политического пространства; во-вторых, институционализацию имперских доминант в государственном механизме России; в-третьих, идеологию, правовое регулирование и практику деятельности центра и региональных властей по интеграции имеющихся местных управленческих институтов периферийных территорий и механизма публичной власти российского абсолютизма. При этом все они объединены такими взаимозависимыми категориями историко-правового плана, как государственное устройство и государственное единство.
Исходным основанием определено, что территориальное и административное устройство власти и населения на всех этапах эволюции имперской государственности тесно связаны с функционированием общественно-политических процессов и институтов. Следовательно, с методологически выверенных позиций к исследованию предмета и объекта проблематики мы можем выделить следующие модели в определении правового статуса регионов Российской империи в государственном управлении: министерско-губернская, базовая для внутренних губерний; национально-автономистская, эволюционирующая в Великом княжестве Финляндском и Царстве Польском; административно-автономистская - характерная для Малороссии (Украины), Остзейских губерний и Западного края; смешанная, постепенно получившая реализацию в Сибири; регионально-наместническая, в той или иной конфигурации осуществленная на Кавказе, в Бессарабии и среднеазиатских владениях России.
Определенное влияние на трансформацию политических связей и государственно-правовой системы самой империи как совокупности регионов оказывал фактор наличия или отсутствия государственного бытия присоединяемых территорий и степень его совпадения с уровнем государственно-правового развития центра, детерминированные устоявшимися тенденциями национально-автономистской традиции в управлении крупными этносами, а также сложным геополитическим положением территориально протяженной Российской империи.
В рамках обозначенных моделей в течение второй половины XVII - начала XX в. происходит упорядочение деятельности центральных органов власти по региональному управлению, формируется по возможности единообразная схема структур власти и их четкой соподчиненности в системе «центр - периферия», при этом прослеживается планомерный отход от екатерининского понимания автономии и постепенное усиление в политике центра тенденции инкорпорации и унификации в государственно-региональном управлении, однако прежние институты мест- ного управления и самоуправления продолжали действовать даже при же стком администрировании и полицейском контроле.
В исследовании имперской тематики основное внимание как системной характеристике империи необходимо уделять системе взаимосвязанных утверждений относительно динамики таких ее свойств, как «самодержавие – абсолютизм + сословия – этносы + губернии – наместничества – регионы», которая в рамках построения типологии административной политики должна быть отслежена применительно к специфике вышеназванных моделей в организации территорий на протяжении XVIII – начала XX в. И, как следствие, сущность имперского государственного управления определяется набором групп признаков империи, распространяемых по территории. В частности, такими свойствами являются общественно-экономические, социальные, политические, правовые и социокультурные, причем их иерархия для различных регионов империи составляет асимметричный порядок.
Классифицируя имеющийся историко-политический и социально-правовой материал относительно управленческо-нормативной системы империи в целом и создавая собственную типизацию признаков имперской государственности, можно прослеживать следующую идею: империя с точки зрения государства представляет собой систему дифференцированного управления другими образованиями, а также механизм, с помощью которого поддерживается существование нескольких разноуровневых естественно-общественных традиций и жизненных укладов, на которые без их разрушения не может быть наложена слишком жесткая схема организации общественной жизни. При этом, с правовых позиций представляя имперскую конструкцию государственной власти и систему государственных управленческих структур, стоит пытаться прийти к убеждению, что унитарный характер Российской империи в ситуации, когда законодательные акты выступали важным средством регулирования жизни общества, не мешал сохранять и поддерживать в действенном состоянии плюрализм источников права.
Собственное частное право и определенный объем публичного в сфере внутреннего регионального управления и местного самоуправления отдельных территорий реализовывались и применялись не только в имевших национальноавтономистский статус частях империи – в Великом княжестве Финляндском и Царстве Польском, но и в управляемых общим порядком, но административно обособленных частях, таких как Мало- россия, Прибалтика, Бессарабия. И хотя сложно выделить восхождение и утверждение в качестве определяющей тенденции в империи унификацию управления, тем не менее подчеркнем возможность сохранения своеобразия правовых, но никак не административных систем входящих в состав империи народов, так как общинные и иные формы самоуправления отнюдь не заменяли, а только лишь дополняли стержневые чиновничьи формы администрации.
Отметим, что изложенная оригинальная концепция специфических моделей организации территорий в политико-правовом пространстве Российского государства предполагает принципиальную нетождественность этнического и национального элемента государственности в абсолютистских империях, при этом можно говорить о некотором сближении понятий народ и нация , а также народность и этнос . В конечном счете нации оказывались размыты в государственной, религиозной и культурной идентичности, а принцип национализма в государственном управлении империй, естественно, становился неприменимым.
Думается, что Российская империя охватывала несхожие между собой социальные традиции и жизненные уклады, при этом не столько уравнивая их к некоему среднему уровню, сколько создавая разнообразные механизмы управления и адаптации к местным обычаям. Следовательно, об имперской схеме управления стоит рассуждать только тогда, когда в единое целое приходится интегрировать средствами управленческо-нормативной системы и бюрократии несколько разных политических систем, образов жизни, традиций права, религиозных конфессий и т.д. Даже при отсутствии единого подхода в этом вопросе приходим к выводу, что в этой плоскости источником подлинного имперского типа государственности выступает многоуклад-ность традиций в обществе (причем не отрицается и многонациональность), а также что империя создает правовое пространство, устанавливая общую, наднациональную цель и предлагая общее, наднациональное асимметричное, с несколькими «вертикалями власти», политическое бытие для всех народов, если не сводить империю к деспотии.
Подчеркнем, что реализация триединого подхода «специфика – единство – управляемость» в Российской империи проводилась через систему региональных институтов государственного устройства, при этом регион выступал формой локализации узловых проблем в рамках определенного территориального сообщества, позволяющей эффективно и адекватно контролировать и решать с помощью институционального объединения имеющихся ресурсов возникающие конфликты и проявления неблагоприятной социально-политической обстановки. Естественно, что региональные черты существенным образом оказывали влияние на территориально-законодательное устройство имперского государства и оформление государственного управления в позитивном праве. Национально-этническое, культурно-религиозное и административно-управленческое своеобразие территорий вынуждало правительство осуществлять поиск оптимальной модели взаимоотношений региона и центра, проводить на практике вариант прагматично-компромиссной региональной политики, которая выразилась в преобразованиях центрального управления, внедрении надфункциональной модели организации и деятельности его структур, перераспределении властных полномочий основных уровней правительственных учреждений государственного управления.
В политике освоения нового пространства, в частности, применялся также и принцип «непрямого господства», кооперации с нерусской элитой, в итоге все эти средства, что вполне закономерно, преследовали цели инкорпорации самобытных территорий в имперское политико-правовое пространство. Властеотношения государственного управления и самоуправления в Российской империи наиболее полно отражались в эволюции институционального оформления статуса главы региональной власти, с одной стороны, концентрирующего в своей должности представление интересов короны на местах и местных потребностей перед центром, а с другой – локализующего местные проблемы и пути их преодоления, в том числе с помощью системы внутреннего управления региона, сочетающей обычаи и традиции отдельной территории и возможности внесения на месте согласованных с верховной властью и учитывающих местную специфику изменений в общеимперское законодательство. Хотя усиливающаяся детализация характера власти правителя в регионе все более закрепляла его бюрократическую природу, соответственно, и проецировала такой подход на низшие уровни местного управления, в итоге функциональный, бюрократический подход в государственном управлении возобладал не только в столице в министерствах, но и в местных учреждениях.
При этом необходимо отметить, что в исследовании темы стоит обращать внимание на специфику неравномерности в политике центра империи по отношению к периферийным территориям, нашедшую позитивное выражение в праве: так, на западных ее рубежах формируется более совершенная политическая система, способная в большем объеме представлять потребности подданных в регулировании общественных дел. Здесь увеличивается число субъектов государственного управления и расширяется обеспеченность их публичных интересов; верховная власть законодательным путем регламентирует политические отношения; основные ее понятия: государство, общество, подданный, политика, право – приобретают плюралистический смысл; политическая организация из строго иерархической трансформируется в многоуровневую, многолинейную и асимметричную по отношению к монарху.
В условиях реформирования всех уровней публичной власти несколько иное значение в системе государственного управления приобретают создаваемые на Кавказе наместничества и их производные варианты в Бессарабии и среднеазиатских владениях России. Они уже рассматриваются как особый институт публичной власти, отличный от екатерининских генерал-губернаторств, как один из механизмов системы соединения всех составных частей империи в единое целое, а не как инструмент управления отдельным регионом. И, безусловно, тот факт, что во второй половине XIX – начале XX в. в ситуации почти унифицированного государственного управления наместничества учреждались вновь, подтверждает убеждение, что эта форма не изжила себя, а, напротив, являлась достаточно актуальной для социально проблемных регионов страны.
В качестве определенного итога исследования стоит отметить, что в обозначенной конструкции Российской империи институционально можно выделить следующие имперские доминанты: влияние институтов обычного права на формирование системы региональной власти; сохранение местных административных систем и разнообразие организационных форм местного управления при внутреннем их единстве; определяющий характер геополитических факторов для роли и значения институтов административного автономизма в обществе; способность российского законодательства, регулирующего отношения империи с отдельными территориями, соединять в себе различные обычно-правовые традиции; стремление государства в лице его органов найти методы взаимодействия с органами местного самоуправления путем создания совмещенных институтов власти и государственного управления. Эти доминанты и явились основаниями различных вариантов-моделей организации политико-правового пространства империи.
Широкий набор признаков позволяет сделать вывод о том, что только в совокупности с предшествующим цивилизационным развитием самой империи и ее регионов, характеризующимся сочетанием идеологической составляющей государственности в многоукладном социуме и размытым соотношением «право – обычай – религия», удастся четко обозначить влияние имперского фактора на регулирование практики центрального, регионального и местного управления и самоуправления в отдельно взятых территориях.
Положительным моментом проведенного исследования будет вывод о том, что изучение вопросов империостроительства через отражение в управленческих и правовых институтах этнополитики российской верховной власти позволяет более глубоко осмыслить и понять истоки процессов, проекция которых достаточно отчетливо просматривается в социальном развитии и взаимоотношениях народов самостоятельных государств – в прошлом территорий Российской империи. В этом плане опыт выстраивания отношений России как метрополии с национальными регионами в условиях построения территориальной империи уникален и поучителен, а его практическая значимость требует проведения комплекса взаимосвязанных глубоких исследований особенностей национально-региональной политики Российского государства в смежных гуманитарных науках. Наблюдая развитие государственности в современной мировой политической системе, причем не всегда по восходящей линии, понимаешь, насколько возрастает значение для России государственно-правовых традиций и юридического быта народов. И потому такое исследование представляет еще и практический интерес в сфере формирования правового мышления и социально мотивированного правосознания не только специалистов, но и широкой общественности.