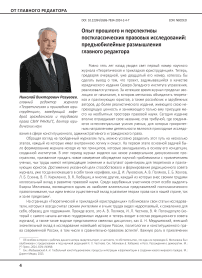Опыт прошлого и перспективы постклассических правовых исследований: предъюбилейные размышления главного редактора
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: От главного редактора
Статья в выпуске: 2 (20), 2024 года.
Бесплатный доступ
ID: 14130312 Короткий адрес: https://sciup.org/14130312
Текст ред. заметки Опыт прошлого и перспективы постклассических правовых исследований: предъюбилейные размышления главного редактора
Ровно пять лет назад увидел свет первый номер научного журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция». Теперь, предваряя очередной, уже двадцатый его номер, хотелось бы сделать вывод о том, что проект, задумывавшийся в качестве юридического издания Северо-Западного института управления, реализовался успешно. За истекшее время журнал проделал эволюцию от начинания, в котором мечталось объединить теоретиков и практикующих юристов, а также российских и зарубежных авторов, до более реалистического издания, имеющего свою непреходящую ценность и занимающего только ему присущее место на необъятных просторах правовой науки. Сегодня издание вполне оправдывает свое название, став трибуной, где соединяются интеллектуальные усилия ученых, для которых приоритетным направлением деятельности являются прикладные исследо- вания в сфере конституционного, административного и гражданского права.
Обращая взгляд на пройденный журналом путь, можно условно разделить этот путь на несколько этапов, каждый из которых имел внутреннюю логику и смысл. На первом этапе основной задачей было формирование журнала исходя из тех принципов, которые закладывались в основу его концепции, созданной институтом. В этот период журнал виделся как некое универсальное дискуссионное пространство, призванное придать новое измерение обсуждения научной проблематики с привлечением ученых, чьи труды имеют непреходящее значение и выступают ориентиром для теоретиков и практикующих юристов. Достижению указанной цели способствовало и формирование редакционного совета журнала, уже тогда включавшего в себя таких корифеев, как Д. И. Луковская, А. В. Поляков, Е. Б. Хохлов, Л. Б. Ескина, В. П. Кириленко, В. Я. Любашиц и многие другие, каждый из которых внес своими трудами колоссальный вклад в развитие правовой науки. Среди зарубежных участников стоит особо выделить Бъярна Мелкевика, являющегося одним из наиболее влиятельных представителей постклассического правопонимания, чьи идеи внесли существенный вклад в развитие теории права как в нашей стране, так и за ее пределами1.
На страницах «Теоретической и прикладной юриспруденции» публиковали свои статьи исследователи, которых я всегда считал своими учителями и в чьих трудах видел недосягаемый, к сожалению для себя, образец для подражания. Прежде всего, это А. В. Поляков, И. Л. Честнов, В. Ф. Попондопуло (который с самого начала активно поддерживал издание и теперь входит в состав редакционного совета журнала), а также такие видные представители смежных дисциплин, как А. Н. Медушевский, внесший значительный вклад в исследование новейшей истории России, политологии и конституционного права современной России, в том числе в сравнительно-правовом аспекте2. Важную роль в привлечении авторов сыграли титульные научные мероприятия, которые проводились Институтом и юридическим факультетом — прежде всего, Баскинские чтения, спикерами которых стали многие авторы, в том числе принявшие участие в коллективной монографии «Изменения в праве: новаторство и преемственность»1, сразу же привлекшей внимание в юридической литературе2.
Целью следующего этапа стало встраивание публикаций журнала в единую научную парадигму, причем речь шла, разумеется, не просто о том, чтобы добиться единообразия в публикациях автора, что было бы, с нашей стороны, слишком большой смелостью, ибо подобное навязывание «единственно верной» линии вошло бы в очевидное противоречие с принципом академической свободы, являющимся мощнейшей движущей силой роста нового знания и достижения новых научных результатов. Речь шла, скорее, о том, чтобы сформировать тот общий для авторов журнала дискурс, который стал бы отличительной особенностью «Теоретической и прикладной юриспруденции», выделяя его из числа других правовых журналов.
Необходимость подобного дискурса, а не только новых идей, для которых он является плодородной почвой, мне стала ясна еще в конце 1990-х гг., когда все усилия юристов (по крайней мере теоретиков права) были направлены на создание нового правопонимания, способного стать альтернативой для «марксистско-ленинской общей теории права». Отмечу, что попытки формирования такой теории предпринимались в том числе наиболее прогрессивными учеными, в той или иной мере стоявшими на марксистских позициях, в частности С. С. Алексеевым. Последний, как известно, пытался создать свою оригинальную теорию права, в корне отличную от того, что он писал в работах 70–80-х гг. прошлого века.
Результатом стал ряд идей, ставших поворотными для С. С. Алексеева и повлиявших на последующее развитие общей теории права3. Не вызывает сомнения, что эти идеи повлияли и на тех исследователей моего поколения, кто пытался внести известный вклад в правовую науку на рубеже прошлого и нынешнего столетий. Тем не менее все прилагаемые усилия не достигали успеха до тех пор, пока не были заложены основы нового языка правовой науки, подобно тому, как физика, говорившая на языке ньютоновской классической механики в конце XIX столетия, зашла в тупик, пока Макс Планк и Альберт Эйнштейн не создали язык новой неклассической физики. Точно так же и теория права, а вслед за ней и отраслевые юридические науки не могли выйти на новые рубежи, пока не появился дискурс, в рамках которого стало бы возможным достижение инновационных результатов.
Основой этого дискурса стали постклассические исследования права, у истоков которых стояли И. Л. Честнов и А. В. Поляков. Именно усилиями названных ученых были обозначены существенные черты постклассического (или постнеклассического) понимания права, включая человекоразмерность и сконструированность права, а также его контекстуальную обусловленность, что, впрочем, отнюдь не означает тотального детерминизма в определении смысла базовых ценностей, которые лежат в основе правового регулирования. Как пишет И. Л. Честнов, «постклассическая программа предполагает антропологизм, конструктивизм, релятивизм и контекстуализм, практическое, знаково-символическое измерение многогранной, потенциально неисчерпаемой в своих внешних проявлениях правовой реальности»4.
Со своей стороны, А. В. Поляков, обращаясь к истокам постклассического подхода, выделяет целый ряд современных российских ученых, объединенных участием в постклассических исследованиях. По его словам: «Контуры пересмотренной рациональности юридической науки начали просматриваться… в 2000 г., чему немало способствовала защита инновационной диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Н. В. Разуваевым… Содержание диссертации Разуваева на тему “Норма права как явление правовой культуры” и сам ход ее обсуждения убедил меня в том, что я не одинок в своих представлениях о задачах современного правоведения и способах их решения»1. Вместе c тем в самом начале этого пути, который я пытался проделать вместе со своими единомышленниками и друзьями, а их, увы, было слишком в тот момент немного, задача построения здания новой теории права казалась почти невыполнимой.
Мне в тот момент думалось, что это бремя является непосильным и вспоминались слова Светония из биографии римского императора Марка Сальвия Отона: «В ту же ночь, говорят, он видел страшный сон и громко стонал; на крик прибежали и нашли его на полу перед постелью: ему казалось, что дух Гальбы поднял его и сбросил с ложа, и он не жалел искупительных жертв, пытаясь его умилостивить. На следующий день при гадании его сшибло с ног внезапным вихрем, и слышали, как он несколько раз пробормотал: “Куда уж мне до длинных флейт”»2. Для неискушенных в истории античной литературы поясню, что, согласно комментарию Кассия Диона (Dion Cass. 64.7), «такая пословица говорится в народе о тех, кто берется за непосильное дело». Собственно, и дело создания новой теории права, которая стала бы основой для всей системы правоведческого знания, включающего в себя отраслевые юридические науки, также выглядело непосильным. Тем не менее по прошествии 25 лет приходит осознание того, что усилия были не напрасными и опыт журнала «Теоретическая и прикладная юриспруденция» служит тому очевидным подтверждением.
Последний этап развития журнала находится в контексте новейших тенденций сегодняшней правовой науки, главной из которых является исследование аксиологического аспекта права. Значение данной тенденции трудно переоценить, поскольку ценности в праве, прежде всего традиционные ценности, являются основой любой практической деятельности и, прежде всего, деятельности правовой. В парадигме неклассической рациональности все перечисленные группы ценностей лишены своего естественного основания, поскольку не имеют референтов в виде явлений и процессов, происходящих в природном мире, будь то мир физических явлений или живой природы. Иными словами, культурные ценности выступают необходимым проявлением той «естественной искусственности», которая характеризует самого человека, лишенного особого места в реальности неорганической или органической природы, не закрепленного в этой реальности и, следовательно, нуждающегося в обосновании собственного бытия, становившегося ускользающе зыбким по мере того, как в ходе исторической эволюции совершенствовались неестественные и сверхъестественные навыки человеческого существа (в частности, навыки прямохождения и орудийного производства)3.
Уже давно было замечено, что уязвимость человека как живого существа, с одной стороны, уменьшается благодаря этим навыкам, позволяющим успешно добывать пищу, строить жилища, шить одежду, делающим человека менее зависимым от неблагоприятных условий внешней среды. С другой стороны, с каждым из этих навыков человеческое существо становится все более эксцентричным, меняется его положение в окружающем мире, а это, в свою очередь, трансформирует структуры внешней реальности таким образом, что человеку всякий раз приходится к ним приспосабливаться заново, перестраивая себя не только физически или психологически, но и онтологически, в плане собственного бытия.
Вот почему культура и культурные ценности выполняют компенсаторную функцию, восполняя биологическую недостаточность человека за счет активизации его творческих способностей. Как и другие феномены культурного мира, ценности являются результатами творческой активности людей, воплощающими в себе разнообразные смыслы, обеспечивающие укоренение в реальности человека, но уже не как биологического существа, а как творца культуры и участника культурной коммуникации. Вместе с тем эта компенсаторность, как становится все более очевидным, обладает лишь ограниченной эффективностью, поскольку сама по себе не свободна от изъянов, важнейшим из которых следует считать смысловую амбивалентность феноменов культуры. Последние, будучи для человека «второй природой»
(подчас более реальной, чем природа «первая»), вовсе не обладают той интуитивной самоочевидностью, которую имеют природные явления.
Указанная особенность культурных феноменов, прежде всего ценностей, делает их произвольными и противоречащими друг другу, причем, как уже было отмечено, смысловой релятивизм и взаимная противоречивость смыслов, воплощаемых в ценностях, создает предпосылки для кризисной ситуации, проявляющейся в разрыве культурного пространства по трем перечисленным аксиологическим осям: эпистемологической, этической и эстетической. Каждая из этих осей, претендуя на то, чтобы служить основой для всех прочих измерений, демонстрирует при этом свое несовершенство, объясняющееся присутствующей в них идеологической нагрузкой, призванной подчинить индивида действию обезличенных субъектов политического или иного господства, отчуждающих культурные смыслы, созидаемые членами общества, от этих последних1.
Ущербность эпистемологического, аксиологического и эстетического релятивизма в качестве предпосылки кризисности духовной ситуации современной эпохи была осознана еще Н. Гартманом, по словам которого, «за смешением истины и значимости кроется нечто гораздо более опасное: смешение истины и ее критерия… Познание и заблуждение во всех областях жизни и знания существуют в нераздельном смешении, все успехи в постижении мира суть поступательное исправление ошибок, а критика ошибок должна осуществляться только с учетом всех обстоятельств. В этом внутренняя причина кажущейся относительности истины, как приватной в личных воззрениях, так и объективно-исторической — в смене эпох»2.
Сейчас журнал «Теоретическая и прикладная юриспруденция» готовится к включению в перечень ВАК. Уверен в том, что совместными усилиями главного редактора, редакционного совета и, главное, авторов журнала последний сможет достичь новых высот и быть в мейнстриме правовой науки.