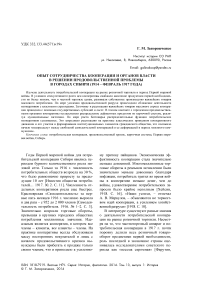Опыт сотрудничества кооперации и органов власти в решении продовольственной проблемы в городах Сибири (1914 – февраль 1917 года)
Автор: Запорожченко Галина Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Изучена деятельность потребительской кооперации на рынке розничной торговли в период Первой мировой войны. В условиях спекулятивного роста цен кооперативы снабжали население продуктами первой необходимости по более низким, чем в частной торговле ценам, развивали собственное производство важнейших товаров массового потребления. По мере усиления продовольственной разрухи происходило сближение деятельности кооперативов с властными структурами. Заготовку и реализацию важнейших товаров массового спроса кооперация проводила с помощью государственных субсидий и льгот. В тесном контакте с городскими продовольственными органами кооперативы осуществляли распределение дефицитных продуктов по карточной системе, реализуя муниципальные заготовки. По мере роста бестоварья распределительные функции потребительских кооперативов усиливались. Это затрудняло реализацию на практике классических принципов кооперативного движения и его участия в формировании институциональных элементов гражданского общества, что положило начало «водоразделу» между свободной самодеятельной кооперацией и ее деформацией в период «военного коммунизма».
Потребительская кооперация, продовольственный кризис, карточная система, первая мировая война, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/147218996
IDR: 147218996 | УДК: 332.133.44(571)6199
Текст научной статьи Опыт сотрудничества кооперации и органов власти в решении продовольственной проблемы в городах Сибири (1914 – февраль 1917 года)
Годы Первой мировой войны для потребительской кооперации Сибири явились периодом бурного количественного роста низовой сети. Только за 1916 г. численность потребительных обществ возросла на 30 %, что было равнозначно приросту за предыдущие 10 лет [Известия общества потребителей… 1917. № 2. С. 11]. Численность отдельных кооперативов росла еще быстрее. Красноярская «Самодеятельность» за первые пять месяцев 1916 г. численно выросла в два раза – с 952 до 2 000 членов [Самодеятельность потребителя. 1916. № 1–2. С. 3]. Значительно возросли торговые обороты, превышая в крупных городских обществах потребления миллионные значения. Идеальным является кооператив, в котором все члены – клиенты, все клиенты – члены. На практике кооперативы всегда обслуживали массу посторонних покупателей и лишь с началом продовольственного кризиса вынуждены были прибегать к продаже только своим членам, что и приводило к усиленно- му притоку пайщиков. Экономическая эффективность кооперации стала значительно меньше довоенной. Многомиллионные торговые обороты в реальном исчислении были значительно меньше довоенных благодаря инфляции, потребитель тратил во время войны в кооперативе меньше денег, чем до войны, удовлетворение потребительских запросов было крайне неполным [Хейсин, 1918. С. 16]. «Наши успехи, – отмечал А. В. Меркулов, – объясняются не торжеством идей кооперации, а усилением хозяйственной разрухи» [1918. С. 10].
В литературе существуют разные мнения о деятельности потребительской кооперации на рынке розничной торговли. Несмотря на то, что частноторговый аппарат и потребительская кооперация в 1917 г. почти поровну делили весь розничный товарооборот предметами первой необходимости, роль последней в экономике страны оценивалась исследователями советского периода как «весьма скромная» [Фарутин,
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 1: История © Г. М. Запорожченко, 2014
1970. С. 71]. Делался вывод о том, что «потребительская кооперация лишь в незначительной степени влияла на общий уровень цен в частной торговле и не могла задержать неуклонное снижение жизненного уровня трудящихся масс» [Кистанов, 1951. С. 135; Дихтяр, 1960. С. 231]. Более объективной представляется позиция А. В. Меркулова, который считал, что потребительская кооперация сделала не так уж мало, и не ее вина, что она не сделала большего. «Как можно осуществить борьбу со спекуляцией без широкого и целесообразно организованного государственного контроля над производством и торговлей, без урегулирования транспорта? Волею-неволею сократилось значение кооперации во второй и, особенно, в третий год войны, когда к дороговизне присоединилось бестоварье. Но все-таки и здесь кооперативы свою роль сыграли. В них иногда только и можно было получить продукты первой необходимости и по сносной цене» [1917. С. 104]. Неоднозначность оценок заставляет еще раз обратиться к вопросу о содержании и значении участия дореволюционной потребительской кооперации Сибири в решении продовольственной проблемы в годы Первой мировой войны.
Сибирь как потребитель привозных товаров и производитель сырья оказалась целиком во власти бедствий войны. Расстройство транспорта, скопление грузов на станциях, нехватка вагонов, уменьшение производства товаров, предназначенных для широкого рынка, сокращение кредита и инфляция привели к дефициту в области закупок важнейших товаров массового потребления и росту цен. Меры государства, вынужденного вмешаться в экономическую жизнь (запрет на вывоз хлеба из отдельных губерний, установление твердых цен), проводились без плана и усиливали спекуляцию [Сибирские записки. 1916. № 1. С. 140].
Борьба с продовольственным кризисом на муниципальном уровне выражалась в создании городских продовольственных органов – комиссий по борьбе с дороговизной, в которые наряду с гласными входили с совещательным голосом представители общественных, кооперативных и биржевых организаций, необходимые средства предоставлялись казной. Лишенным фактического права проверки товарных запасов и определения себестоимости продукции, заготов- ленной частными предпринимателями, городским самоуправлениям оставалась лишь узкая сфера деятельности: производить собственные заготовки и распределять их между потребителями, опираясь на кооперацию. Однако деятельность продовольственных комиссий почти везде оценивалась отрицательно, отмечались отсутствие инициативы, некомпетентность, недоброжелательное отношение к кооперативам. Из Красноярска в 1916 г. сообщали, что «городская лавка торгует по рыночным ценам, продовольственная комиссия закупки ведет поздно, дорого, спустя рукава, часть денег идет на другие нужды» [Самодеятельность потребителя. 1916. № 1–2. С. 2–3]. Кооператоры Красноярска отмечали: «Наблюдается полный развал комиссии, мяса мало, дров нет, часть продуктов испорчена, сахар сплавили купцам» [Там же. № 4–6. С. 3]. Так же работало городское самоуправление в Тайге: «Городское управление оказалось бессильно организовать самоснабжение населения сахаром и прибегло к услугам торговцев. Так же плохо с мясом, мукой, хлебом. Остается одна надежда – на местный кооператив» [Голос Сибири. 1916. 6 сент.]. Из Читы сообщали, что продовольственную ссуду «отцы города» решили использовать «вкупе да влюбе с купцами», пока не вмешались кооператоры, потребовав создания продовольственной комиссии с широким представительством. «Реальную борьбу с продовольственным кризисом ведут только кооперативы, и только им население обязано тем, что продовольственный кризис ощущается не столь остро. Городская управа остается молчаливым свидетелем растущей разрухи на товарном рынке» [Кооперативное слово. 1916. № 2. С. 11, 26]. В Верхнеудинске гласные пригласили в комиссию торговцев с правом решающего голоса для создания численного перевеса против кооператоров при голосовании [Голос Сибири. 1916. 11, 27 окт.]. Из Бийска сообщали, что «продовольственная комиссия не принимает никаких мер» [Сибирская жизнь. 1916. 16 сент.]. В Новониколаевске в 1915 г. городская дума собрала комиссию без представителей общественных организаций, в составе главным образом предпринимателей-мукомолов, которые выгодно перекупали муку, предназначенную для заготовки городом. Кооператоры утверждали, что «по ряду фактов можно зафиксировать опреде- ленно отрицательное отношение городской управы к потребительному обществу “Экономия”» 1.
Муниципальные заготовки сдержали резкое повышение цен, но действия городских продовольственных органов, представленных в основном цензовыми элементами, были далеки от настойчивой борьбы с дороговизной [Николаев, 1916. С. 121]. Из-за неспособности наладить снабжение населения продовольственные комиссии городских дум теряли авторитет в глазах людей, и к концу 1916 г. началась организация продовольственных комитетов с широким народным представительством для учета и распределения продуктов. Население видело спасение в самоснабжении и в массовом порядке вступало в потребительские кооперативы, однако условия функционирования последних резко усложнились. Главные трудности были связаны с недостатком товаров и оборотных средств. Кооператоры Енисейска писали: «Запасы потребительного общества иссякают, хотя их было заготовлено в четыре раза больше, чем в прошлом году» [Голос Сибири. 1916. 9 дек.].
В условиях спекулятивного роста цен кооперативы удерживали цены на дефицитные продукты на более низком уровне, чем частная торговля: «Очень многие потребительные общества имели запасы муки и долго еще продавали ее и другие предметы первой необходимости по довоенным ценам, сбивая наглость частных торговцев» [Сибирская деревня. 1914. № 22. С. 22]. В 1915–1916 гг. в городских кооперативах проходили бурные общие собрания, на которых разрабатывались планы общественноторговой деятельности в условиях продовольственного кризиса. Так, в томском «Деятеле» на общем собрании 1 мая 1916 г. было решено образовать закупочный фонд, начать поиск нового рынка закупок, установить тесные отношения со всеми организациями, борющимися с дороговизной, развивать культурную работу, «которая только и создает и укрепляет организацию» [Утро Сибири. 1916. 5 мая]. Пункт о сотрудничестве с властями являлся предметом для идейных разногласий между кооперативными руководителями различных политических направлений – меньшевиков и эсеров,
«разбивающих твердыни капитализма ковригами хлеба и картошкой», и большевиков, отвергающих «политику обивания порогов у власть имущих и забегания с заднего крыльца» [Плотников, 1971. С. 102]. Вместе с тем логика деятельности кооперативов в условиях развала рынка приводила их к сотрудничеству с муниципальными структурами, заботе о снабжении не только своих членов, но и всего населения города, вмешательству в хозяйственную жизнь города вообще, что являлось новыми моментами в их деятельности и особенно ценным при отсутствии земства, разрозненности населения, удаленности от рынков и промышленных центров.
В марте 1916 г. тобольское «Самосознание» разработало два плана продовольственной кампании для Тобольска: малый, рассчитанный на снабжение только своих членов, и большой с учетом жителей города и ближайших деревень. Подробная записка с изложением этих планов была заслушана на заседании тобольской городской думы в июне 1916 г., которая «отнеслась не только формально, но даже враждебно к предложениям кооператива» [Сибирский листок. 1916. 20 марта, 19 июля, 4 окт.]. Лишь в октябре 1916 г. городские власти пошли на сотрудничество с потребителями, постановив торговать заготовленными городом продуктами – мукой, солью, сахаром – через магазины «Самосознания». Из Тайги также сообщали о том, что городская дума отвергла план снабжения населения, предоставленный кооперативом «Труд», и отдала предпочтение предложениям торговцев. «Классовый состав думы взял верх, и некоторые гласные с циничностью говорили: “Зачем давать этому обществу разрастаться и крепнуть, зачем самим себе готовить в будущем безделье”» [Сибирская жизнь. 1916. 3 дек.].
В связи с расширением рынка сбыта, необходимостью заготовок продуктов большими партиями, значительным количеством в составе членов неполнопайщиков кооперативы нуждались в дополнительном финансировании. Частные коммерческие банки лишь к началу 1917 г. оценили растущую силу кооперации в сибирской торговле и стали кредитовать кооперативы, иногда даже под более низкий процент, чем частных лиц [Сибирская деревня. 1917. № 1–2. С. 52]. Наращивая оборотные средства, коо- перативы стремились использовать кроме традиционных (внутренние займы, ссуды от мещанских обществ и профессиональных союзов, кредитование в банках и торговых фирмах) новый источник финансирования – государственные субсидии городам на борьбу с дороговизной, многократно направляя в городские управы ходатайства о получении ссуд и гарантиях банковского или товарного кредита для расширения торговой деятельности. Во многих случаях эти ходатайства остались не удовлетворенными под предлогом отсутствия гарантии возвращения ссуды, что являлось следствием слабой проработки в юридической практике того времени вопроса о кредитовании общественных организаций. Кроме того, цензовое городское самоуправление, состоящее из представителей торгово-промышленных кругов, видело в потребительных обществах своих конкурентов и всячески препятствовало предоставлению им финансовой поддержки, признавая, однако, на словах заслуги кооперативов в деле борьбы с дороговизной. Типичным являлось сообщение из Енисейска о надвигающемся голоде, бездействии городских властей и о погибшем в городской канцелярии ходатайстве кооператива о ссуде [Сибирская жизнь. 1917. 9 янв.]. В течение 1915–1916 гг. многим кооперативам удалось получить ссуды из средств, выделенных государственной казной на борьбу с продовольственным кризисом. Например, 20 тыс . руб. получила от городской думы верхнеудинская «Экономия», гарантированный кредит в 20 тыс. руб. – кооператив Кургана, ссуду в 25 тыс. руб. – кооператив в Мариинске, 10 тыс. руб. – барнаульский «Сотрудник», беспроцентную ссуду – кооператив в Нерчинске, 5 тыс. руб. – бийская «Общая польза», 5 тыс. руб. – кооператив Ачинска, 15 тыс. руб. – красноярская «Самодеятельность» и т. д. [Николаев, 1916. С. 123–124]. На кооперацию возлагались заготовки важнейших продуктов, использовались ее налаженный торговый аппарат в обмен на субсидии, бесплатные торговые и складские помещения, наряды на вагоны. Город осуществлял контроль за использованием выделенных финансовых средств, оплачивал проценты по кредитам, принимал убытки от колебания цен. По мнению экспертов, установление тесного контакта кооперативных и муниципальных структур, за исключением отдельных случаев, носило массовый характер [Там же. С. 125].
Важное значение имело участие кооперации в снабжении населения продуктами первой необходимости по карточной системе в периоды мясных, сахарных, мучных и т. п. кризисов, периодически потрясавших рынки сибирских городов. Журнал «Кооперативное слово» писал о деятельности верхнеудинской «Экономии» в 1915 г.: «Штат сбился с ног, продукты быстро тают, чтобы найти новые – надо прилагать неимоверные усилия. Что же сделать для более справедливого распределения продуктов? – спрашивали себя кооператоры. И как к неизбежному пришли к мысли о карточной системе» [Кооперативное слово. 1916. № 1. С. 26]. Сначала они добились переизбрания продовольственной комиссии городской думы, введя туда больше представителей от кооперативов. Затем разработали карточную систему, которая лишь через два месяца удостоилась санкции городской думы. Когда выяснилось, что в управе нет точных сведений о количестве жителей города, кооператоры мобилизовали добровольцев на перепись населения: «Среди переписчиков не было ни одного “интеллигента в кокарде”, дело сделали два учителя, служащие, приказчики, рабочие, реалисты старшего класса. Все мероприятия и инструкции проходили без ответа городской думы» [Там же]. С августа 1915 г. была введена карточная система снабжения сахаром в Новониколаевске. Кооператив «Экономия» продавал сахар населению себе в убыток, так как потеря при провесе в розничной продаже не полностью возмещалась поставщиком сахара – городской управой, имевшей прибыль от сахарных операций. В магазинах и лавках «Экономии» сахар получили 45 233 чел., в городских лавках – 43 581 чел. Активно включилась «Экономия» и в ликвидацию мучного кризиса, продавая ежемесячно по пять вагонов заготовленной городом муки [Голос Сибири. 1916. 3, 20, 29 сент., 13, 16 окт., 22 дек.].
Роль кооперативов в снабжении населения важнейшими продуктами по нормальным ценам выглядит еще значительней на фоне действий частных торговых фирм, которые нередко разрывали соглашения о поставках кооперативам, охотнее отпуская товары частным торговцам. Кооператоры Томска сообщали: «Несколько фирм совершенно отказались отпускать потребительному обществу муку, и оно принуждено те- перь покупать ее через перепродавцов. В то же время мукомолы свободно отпускали ее десятками кулей иногородним перепродавцам и лавочникам» [Союз потребителей. 1916. № 6. С. 222].
Существенное значение в удовлетворении потребительского спроса имела организация кооперативного производства важнейших товаров массового потребления. Повсеместно в городах действовали кооперативные хлебопекарни, мукомольные, колбасные, мыловаренные, кожевенные, карамельные заводы, шубные и сапожные мастерские. Большую роль играли кооперативы в снабжении армии, выполняя поставки мяса, овса, прессованного сена [Сибирская жизнь. 1915. 12 нояб.; 1916. 9 нояб.].
В городских условиях развитие потребительской кооперации, несмотря на то что 80 % потребительных обществ Сибири находилось в сельской местности 2, являлось наиболее важным для системы жизнеобеспечения в силу большей оторванности горожан от производства необходимых предметов потребления. Деятельность городской потребительской кооперации по преодолению продовольственного кризиса в годы Первой мировой войны играла ощутимую роль в снабжении продовольствием и предметами первой необходимости малообеспеченных слоев населения. Несмотря на трудности (недостаток оборотных капиталов, кадров в связи с мобилизацией, развал рынка), кооперативы являлись единственной массовой организацией, выполнявшей функции общественного регулирования. Прежде всего, в условиях роста спекуляции они заготавливали важнейшие продукты и продавали их по доступным ценам, способствуя снижению цен и в частной торговле. Кооператоры распространяли свою активность дальше своих собственных коммерческих интересов, понимая важность самодеятельности в решении продовольственной проблемы. Прибегая в периоды сильного бестоварья к продаже продовольствия только своим членам, они в то же время ставили вопрос о снабжении важнейшими продуктами всего населения городов, разрабатывали и предлагали городским властям планы совместных продовольственных кампаний, настаивали на демократическом составе и гласном характере деятельности городских продовольственных комиссий и комитетов.
Вместе с тем внешние признаки быстрого и мощного роста кооперации скрывали тенденцию ненормального развития и изменения сущности кооперативного движения. Потребительская кооперация возникла и развивалась организационно и материально независимо от государства. По мере усиления продовольственной разрухи происходило сближение ее деятельности с городскими властными структурами. Заготовку и реализацию важнейших товаров массового спроса кооперация проводила с помощью государственных субсидий и льгот. В тесном контакте с городскими продовольственными органами кооперативы осуществляли распределение дефицитных продуктов по карточной системе, реализуя муниципальные заготовки. Таким образом, во время войны потребительные общества наряду с основной работой брали на себя функции распределительных пунктов муниципальных продовольственных органов, обслуживая большее число горожан, чем городские продовольственные лавки. По мере роста бестоварья распределительные функции потребительских кооперативов усиливались. Это затрудняло реализацию на практике классических принципов кооперативного движения и его участия в формировании институциональных элементов гражданского общества. Деятельность городской потребительской кооперации в Сибири в годы войны подтверждает высказанное в литературе мнение специалистов о том, что именно война и вызванный ею кризис, а затем уже Октябрьская революция и целенаправленная политика большевиков, явились «водоразделом» между свободной самодеятельной кооперацией и ее деформацией в период «военного коммунизма» [Рынков, 2003. С. 92, 113].
INTERACTION OF COOPERATION AND AUTHORITIES IN SOLVING
THE FOOD PROBLEM IN THE CITIES OF SIBERIA (1914 – FEBRUARY 1917)
Список литературы Опыт сотрудничества кооперации и органов власти в решении продовольственной проблемы в городах Сибири (1914 – февраль 1917 года)
- Голос Сибири. 1916. 3, 6, 20, 29 сент., 11, 13, 16, 27 окт., 9, 22 дек.
- Дихтяр Г. А. Внутренняя торговля в дореволюционной России. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 237 с.
- Известия общества потребителей служащих и рабочих Забайкальской железной дороги. 1917. № 2.
- Кистанов Я. А. Потребительская кооперация СССР. Исторический очерк. М.: Центрсоюз, 1951. 420 с.
- Кооперативное слово. 1916. № 1, 2.
- Меркулов А. В. Исторический очерк развития потребительской кооперации в России. М.: Изд-во Моск. союза потреб. об-в, 1917. 112 с.
- Меркулов А. В. Кооперация в 1917 году // Союз потребителей. 1918. № 1-2. С. 10-15.
- Николаев В. Городское дело в Сибири // Сибирские записки. 1916. № 2. С. 120-125.
- Плотников Ю. П. Из истории борьбы красноярских большевиков за легальные опорные пункты партийной работы (рабочий кооператив «Самодеятельность») // Из истории красноярской партийной организации. Красноярск, 1971. Вып. 3. С. 100-110.
- Рынков В. М. На полпути к «военному коммунизму»: кооперация востока России в 1914-1919 гг. // Кооперация Сибири: факторы и условия устойчивого развития / Под ред. А. А. Николаева. Новосибирск, 2003. Вып. 4. С. 91-119.
- Самодеятельность потребителя. 1916. № 1-2, 4-6.
- Сибирская деревня. 1914. № 22; 1917. № 1-2.
- Сибирская жизнь. 1915. 12 нояб.; 1916. 16 сент., 9 нояб., 3 дек.; 1917. 9 янв.
- Сибирские записки. 1916. № 1. Сибирский листок. 1916. 20 марта, 19 июля, 4 окт.
- Союз потребителей. 1916. № 6. Утро Сибири. 1916. 5 мая.
- Фарутин И. А. Характер и особенности кооперативного движения в дореволюционной России // Учен. зап. Калининград. ун-та. Общественные науки. Калининград, 1970. Вып. 4. С. 60-82.
- Хейсин М. Л. Кооперация довоенная // Союз потребителей. 1918. № 20. С. 13-17.