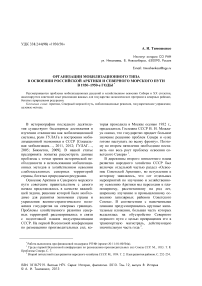Организации мобилизационного типа в освоении российской Арктики и Северного морского пути в 1930–1950-е годы
Автор: Тимошенко Альбина Ивановна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются проблемы мобилизационных решений в хозяйственном освоении Сибири в ХХ столетии, анализируется советский опыт реализации важных для государства экономических программ в северных районах, богатых природными ресурсами.
Арктика, северный морской путь, мобилизационные решения, государственное управление, целевые методы
Короткий адрес: https://sciup.org/147218925
IDR: 147218925 | УДК: 338.244(98)
Текст научной статьи Организации мобилизационного типа в освоении российской Арктики и Северного морского пути в 1930–1950-е годы
В историографии последнего десятилетия существуют бесспорные достижения в изучении сталинизма как мобилизационной системы, роли ГУЛАГа в построении мобилизационной экономики в СССР [Социальная мобилизация…, 2011, 2012; ГУЛАГ…, 2005; Бикметов, 2009]. В нашей статье предпринята попытка рассмотреть данные проблемы с точки зрения исторической необходимости в использовании мобилизационных методов в хозяйственном освоении слабозаселенных северных территорий страны, богатых природными ресурсами.
Освоение Арктики и Северного морского пути советским правительством с самого начала представлялось в качестве важнейшей задачи, решение которой было необходимо для развития экономики страны и укрепления военно-стратегического положения государства на северных границах. Проблемы хозяйственного развития северных территорий рассматривались в связи с подготовкой планов индустриализации СССР. На первой Всесоюзной конференции по размещению производительных сил, ко- торая проходила в Москве осенью 1932 г., председатель Госплана СССР В. И. Межла-ук сказал, что государство придает большое значение решению проблем Севера и «уже готово наступать по всему фронту». Поэтому во втором пятилетии необходимо поставить «во весь рост проблему освоения советского Севера» 1.
В директивы второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР был включен отдельной частью раздел «Освоение Советской Арктики», во вступлении к которому заявлялось, что «от отдельных мероприятий по изучению и хозяйственному освоению Арктики мы переходим к планомерному, рассчитанному на ряд лет, широкому изучению и промышленному освоению заполярных районов Советского Союза». В соответствии с намеченными планами предусматривались крупные капитальные вложения, большая часть которых выделялась на обустройство Северного морского пути с целью превращения его в транспортную магистраль, действующую значительную часть года 2.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00504а).
Всесоюзная конференция по размещению производительных сил СССР положила конец дискуссиям о различных вариантах освоения Арктики и Северного морского пути [Боякова, 2004. С. 275]. В декабре 1932 г. для реализации намеченной программы по решению СНК СССР была создана специфическая организация под названием Главное Управление Северного морского пути (Главсевморпуть), которой вменялось в обязанность «проложить окончательно Северный морской путь от Белого до Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить плавание по этому пути» [Летопись Севера, 1975. С. 9].
На деятельность новой организации советское правительство возлагало большие надежды. Она, действуя на правах министерства, должна была объединить в своих рамках все работавшие ранее в Арктике организации, принадлежавшие к разным ведомствам, в том числе и Арктический институт, который в свое время создавался для изучения проблем Северного морского пути, обозначенных в качестве главных научных задач государственного значения. Директор института О. Ю. Шмидт назначался начальником «Главсевморпути».
Управление должно было обеспечить комплексное социально-экономическое развитие арктических территорий СССР на основе использования новейших средств транспорта и связи с созданием портовых хозяйств и различных производственных предприятий. С помощью сотрудников Арктического научно-исследовательского института предусматривалась организация постоянно действующих полярных станций и экспедиций по изучению морей и островов Северного Ледовитого океана, которые должны были оперативно представлять информацию, необходимую для развития плавания по Северному морскому пути. Так, организованная Ленская экспедиция положила начало систематическим рейсам по доставке грузов с запада для северных районов Якутии. Она уже в 1933–1934 гг. позволила приводить в порт Тикси (устье Лены) крупные речные суда для доставки грузов вверх по реке в Якутию, в бассейн Лены, а также в бассейны Яны, Колымы, Индигирки. Через Тикси осуществлялась связь Северного морского пути и крупного речного порта Осетрово, куда позже была подведена железная дорога от Тайшета на Транссибе до Братска – Усть-Кута [Тимошенко, 2012. С. 16].
В первый же производственный 1933 г. деятельности «Главсевморпути» произошло несколько событий, потребовавших мобилизационных решений. Кроме очередной навигации, под руководством О. Ю. Шмидта состоялась первая большая научно-исследовательская экспедиция на пароходе «Челюскин», которая закончилась трагически, к счастью только для парохода. Он, не обеспеченный проводкой ледоколов, попал в дрейф у берегов Чукотки и погиб, раздавленный льдами. Команда, пассажиры и научный персонал, высадившиеся на дрейфующую льдину, были сняты летчиками. Весь мир следил за спасением челюскинцев, которое было оценено как героическое событие. Вместе с тем эпопея плавания на «Челюскине» показала, что в целом СССР еще не достиг того уровня, когда плавание по всему Северному морскому пути может быть результативным и безопасным: во-первых, нет в нужном количестве мощных ледоколов, без которых не могут плавать грузовые суда. Во-вторых, необходимо развивать и совершенствовать полярную авиацию, которая должна летать над побережьем и океаном в любое время года.
После доклада О. Ю. Шмидта об экспедиции на «Челюскине» была образована специальная комиссия под председательством В. В. Куйбышева, которая должна была изучить все обстоятельства, связанные с освоением Арктики и Северного морского пути и подготовить предложения для принятия государственных решений. В результате 20 июля 1934 г. было принято совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по развитию Северного морского пути и северного хозяйства», которое стало, по сути дела, мобилизационной программой действия «Главсевморпути» в Арктике на ближайшие годы. В постановлении говорилось о необходимости изыскать возможности для строительства в СССР новых ледоколов, морских портов и радиоцентров, для развития полярной авиации, строительства аэропортов и воздушных линий, а также намечались меры по подготовке кадров полярников различной специализации. К зоне деятельности специфической организации были отнесены моря и острова Северного Ледовитого океана и континен- тальная территория Азиатской части страны, расположенная севернее 62-й параллели (параллель Якутска) [Решения партии…, 1967. С. 481–486].
Способность к активной мобилизационной деятельности закладывалась в структуре Управления «Главсевморпуть», во главе которого находился начальник, назначаемый СНК СССР и подконтрольный только ему. При начальнике в качестве консультативного органа работал Совет «Главсевморпути», состоящий из специалистов, но он не принимал самостоятельных решений. Персональный его состав формировался по представлению начальника, который отвечал за всю деятельность Управления. При начальнике работал сектор по подбору и распределению кадров, ему подотчетны были все специализированные и административно-управленческие отделы, научно-исследовательские и проектно-строительные организации, межведомственное бюро долгосрочных ледовых прогнозов и т. д. [Изучение и освоение…, 2011. С. 243–245].
Единоначалие в структуре «Главсевмор-пути» в какой-то степени ограничивалось только Политуправлением, действующим на основе особого Положения. В 1938 г. в его составе числилось 11 политотделов и 15 освобожденных парторгов полярных станций и предприятий, в задачу которых входила постоянная работа с коллективами и отдельными людьми на всех предприятиях, подведомственных «Главсевморпути». Специфика работы в Арктике, безусловно, требовала от людей большой выдержки и ответственности, которые должны были присутствовать и проявляться постоянно. По заданию руководства государства решалась важнейшая общенациональная задача, связанная с освоением территорий Крайнего Севера. Партийные организации в этой связи стали неким руководящим центром и мобилизационным механизмом не только в производственной деятельности работников «Главсевморпути», но и в устройстве их быта и в целом жизни в Арктике.
За счет партийных структур создавался определенный мобилизационный каркас всей многофункциональной организации. Партийные ячейки, парторги активно участвовали в работе всех подразделений «Глав-севморпути», идеологически и морально поддерживали полярников. Коммунисты были расставлены на руководящие посты во всех секторах управления и производства, являлись техническими и идеологическими проводниками мобилизационной политики государства. Могли и первыми от нее пострадать. Репрессии 1930–1940-х гг. часто в первую очередь обрушивались на членов партии.
С 1934 г. политработники для Арктики готовились специальным образом. В их подготовке совместно с Политуправлением участвовали высшие руководители «Глав-севморпути», опытные полярники и ученые, которые были искренне преданы своей работе и часто заражали собственным примером желающих работать и жить на Севере. Большое значение придавалось так называемой политической учебе, в организации и проведении которой наряду с политработниками должны были участвовать все руководители самого различного ранга. Они, по Положению об организации, утвержденному СНК СССР, занимались не только производственной деятельностью предприятий, но и политическим воспитанием своих подчиненных, способствовали через внедрение различных форм соревнования развитию их трудового энтузиазма, творческого отношения к порученному делу, а также сообщали сведения о политике государства, о положении его в мире. Все это, вместе взятое, способствовало мобилизации людей на выполнение обозначенных государством целевых задач.
В 1935–1936 гг. состоялся уже целый ряд высокоширотных плаваний на ледоколах «Садко», «Седов», «Малыгин», «Красин». В 1936 г. ледокол «Литке» успешно перевел с запада на восток по арктическим морям два эсминца. Эта экспедиция под руководством О. Ю. Шмидта показала, что Северный морской путь может иметь не только транспортное, но и важное военно-оборонное значение. Опыт был использован в годы Великой Отечественной войны при переводе военных судов с востока на запад [Летопись Севера, 1985. С. 13].
Значительное развитие получила полярная авиация. В 1930-е гг. она сложилась в самостоятельную отрасль со своими особыми задачами, с опытными летчиками-полярниками, способными решать сложные и специфические задачи в условиях воздушных перелетов в Арктике. В связи с челюскинской эпопеей в СССР было учреждено звание Героя Советского Союза. Первое по- четное звание получили семь отважных летчиков-полярников, участвовавших в спасении челюскинцев.
В 1936 г. были совершены продолжительные полеты по всей трассе Северного морского пути летчиком В. С. Молоковым, по маршруту Москва – о. Рудольфа – Москва летчиком М. В. Водопьяновым. Воздушная арктическая трасса вдоль евразийского побережья связала Москву с самыми отдаленными базами Советской Арктики, с ее портами, зимовками, полярными станциями и промышленными новостройками. Историческими трансарктическими перелетами В. П. Чкалова, а затем М. М. Громова из СССР через Северный полюс в Северную Америку ознаменовался 1937 год. Состоялась первая в мире экспедиция по высадке тяжелых самолетов на Северном полюсе с созданием научной дрейфующей станции «Северный полюс» во главе с И. Д. Папаниным. С этого времени самолеты полярной авиации СССР стали регулярно совершать как научные, так и стратегические наблюдательные полеты, удаляясь от побережья на значительное расстояние. Авиация все чаще стала использоваться для связи с отдаленными северными районами и зимовками, доставляя грузы и пассажиров не только в короткий навигационный период, но и в течение всего года.
Строительство отечественных ледоколов и создание мощного ледокольного флота было отдельной страницей в освоении арктических пространств. До середины 1930-х гг. советский ледокольный флот состоял из ледоколов, в основном построенных в дореволюционный период или купленных за границей. Легендарный «Ермак», построенный в 1899 г., хотя и служил долго (только в 1964 г был выведен из эксплуатации), но уже не удовлетворял возросшим потребностям морских перевозок и безнадежно устарел к началу деятельности «Главсевморпу-ти». Поэтому ставилась задача создания более мощного отечественного ледокольного флота.
В СССР строительство мощных морских ледоколов, способных покорять арктические льды, началось в 1936 г. с постройки ледокола «Сибирь» мощностью около 12 тыс. л. с. С тех пор страна стала занимать ведущее место в мировом ледоколостроении. В начале 1950-х гг. СССР был лидером по производству мощных ледоколов (более 25 тыс. л. с.)
для проводки судов в арктических и в других замерзающих морях. Наиболее крупным достижением советского ледоколостроения явилась постройка в 1959 г. первого в мире ледокола с энергетической установкой на ядерном топливе – атомохода «Ленин» [Каштелян и др., 1972. С. 9–11].
В 1930-е гг. деятельность «Главсевмор-пути» распространялась на огромной территории – от островов Шпицбергена и Новой Земли до Чукотки. Из года в год увеличивалось ее государственное финансирование. Если в 1933 г. его размер составлял 18 млн руб., то в 1937 г. – 400 млн. В итоге за пятилетие затраты государства на деятельность «Главсевморпути» составили 922 млн руб. Общая сумма капитальных вложений за пятилетие составила 465 млн руб., увеличившись с 26,4 млн руб. в 1933 г. до 164,5 млн руб. в 1937 г. [Летопись Севера, 1975. С. 16].
Комплексные мероприятия государства в Арктике предполагали и защиту северных рубежей СССР. Основным содержанием военно-стратегической программы в 1930-е гг. стало создание Северного военного морского флота. Его необходимость осознавалась российским правительством еще в конце XIX в., в годы Первой мировой войны, но проблема решалась очень трудно. Реальные действия были предприняты советским правительством с завершением строительства Беломоро-Балтийского канала, который соединил Белое и Балтийское моря, дал выход из Балтики в Северный Ледовитый океан, а через речные системы стал возможным и выход соответственно в Черное и Средиземное моря, что в военно-стратегическом отношении сразу же было оценено очень высоко.
По данным Ю. Н. Жукова, сразу же после пуска в эксплуатацию Беломоро-Балтийского канала летом 1933 г. советское правительство приняло решение о срочном возведении на р. Свирь, связывающей Ладожское озеро с Онежским, плотины для проводки судов с повышенной осадкой. Вскоре последовало решение комиссии обороны, подписанное К. Е. Ворошиловым, о переводе ряда военных судов из Балтийского моря в Белое и о базировании их в Мурманском порту. Вновь созданное объединение военно-морских сил было обозначено вначале Северной военной флотилией, позже через несколько лет стало основанием для создания Северного морского флота, который показал свою боеспособность в годы Великой Отечественной войны и в предвоенные годы мог охранять большую часть акватории Баренцева моря, подходы к Мурманскому побережью и горлу Белого моря [Жуков, 2008. С. 320–321].
В июле 1936 г. Политбюро ВКП (б) приняло особую программу крупного военноморского судостроения, главным мероприятием которой рассматривало строительство в Архангельске мощного военно-судостроительного завода. На верфях в устье Северной Двины предполагалось построить исключительно для Северного флота к 1 января 1942 г. два линкольна, один тяжелый и четыре легких крейсера, три лидера, шестнадцать эсминцев, четыре большие подводные лодки, двенадцать сторожевиков и девять быстроходных тральщиков. Помимо того, к 1947 г. Северный флот должен был получить еще три тяжелых и два легких крейсера, авианосец, четыре эсминца, двенадцать больших подводных лодок, шесть сторожевиков и один минный заградитель [Там же. С. 352].
Однако эти намеченные долгосрочные планы с самого начала стали корректироваться. Завод строился медленнее, чем было определено сроками. Северный флот пополнялся по необходимости судами Балтийского, а иногда и просто транспортного или рыболовного флотов, которые в спешном порядке оборудовались под военные.
Но, тем не менее, в 1941 г. Северный морской флот уже имел свою главную базу Ваенга (ныне г. Североморск), а также базировался в Мурманске, Архангельске и других портах Заполярья, состоял из отдельного дивизиона эскадренных миноносцев из восьми кораблей, имел бригаду подводных лодок (15 судов), соединение сторожевых кораблей, тральщиков, заградителей и сторожевых катеров охраны водного района главной базы флота. Военно-воздушные силы флота насчитывали 116 самолетов – бомбардировщиков, истребителей и разведчиков. Береговая и противовоздушная оборона состояла из нескольких десятков батарей калибром до 180 мм. Северный морской флот располагал базами, аэродромами и подразделениями береговой обороны во всех важнейших пунктах Заполярья, имел налаженную службу наблюдения и связи [Козлов, Шломин, 1983. С. 84– 85].
Активная мобилизационная деятельность советского государства на Севере способствовала его социально-экономическому разви- тию. Уже в конце 1930-х гг. здесь появились «очаги» индустрии, которые зажигались, во-первых, в портовых городах, требовавших соответствующей промышленной инфраструктуры. Кроме того, возможность сбыта продукции диктовала строительство перерабатывающих предприятий: лесопильных и рыбоконсервных заводов, горно-добывающих и лесоперерабатывающих комбинатов. Во-вторых, открытие месторождений полезных ископаемых, представляющих ценность для народнохозяйственного комплекса СССР, также могло быть основанием для рождения индустриального «очага». В этом отношении прекрасным примером является создание Норильского промышленного комплекса и г. Норильск, которое началось в связи с разработкой открытых на Таймыре месторождений полиметаллических руд [Тимошенко, 2011. С. 12–13].
В крупный индустриальный район в годы первых пятилеток превратился Европейский Север. Здесь стали развиваться такие новые отрасли промышленности, как целлюлознобумажная, картонная, фанерная, мебельная, лесохимическая, лесные и рыбные промыслы получили новые импульсы развития. Только на Кольском полуострове за 1926– 1937 гг. было построено 39 предприятий, в том числе горно-химический трест «Апатит», Мурманский рыбокомбинат, Нивская и Нижне-Туломская гидроэлектростанции. В 1939 г. вступило в строй действующих крупное предприятие союзного значения «Североникель», которое стало раньше Норильского комбината обеспечивать страну никелем, кобальтом, медью и другими цветными металлами. Европейский Север являлся главным лесоэкспортным районом СССР в предвоенные годы [Там же. С. 13].
Эффективность северной политики советского правительства была доказана в годы Великой Отечественной войны, когда промышленные предприятия, построенные в предвоенные годы, смогли внести весомый вклад в победу над врагом, а Северный морской путь, как транспортная магистраль, стал еще более востребованным, чем в мирное время.
Государственная политика, заложившая основы социально-экономического и политического развития северных районов СССР и Северного морского пути, проводилась и в послевоенные годы, когда уже в мирных условиях были продолжены все начинания предвоенного периода. Развитие промышленных районов, золотых приисков и рудников в северных районах требовало значительного увеличения завоза грузов. Одновременно возрастала потребность страны в продукции, производимой на Севере, вывозе на экспорт сибирского леса, обслуживании быстрого развития островного хозяйства, которое после войны составляло основу материально-технического обеспечения здесь многочисленных научно-исследовательских и метеорологических станций и экспедиций, в задачу которых входило составление достоверных погодных и ледовых прогнозов в Арктике.
Управление «Главсевморпуть» показало себя в качестве организации мобилизационного типа, способной реализовать на практике государственную стратегию хозяйственного освоения арктической зоны СССР. Деятельность Управления стала действенным инструментом для проведения в жизнь мобилизационных решений, связанных с освоением богатых природных ресурсов на северных малозаселенных и экономически неосвоенных территориях страны, кроме всего прочего нуждавшихся еще и в военностратегической защите. Советский опыт создания государственных специфических надведомственных организаций, которые одновременно могли быть как хозяйствующими субъектами, так и представительствами государственной власти в отдаленных от центра районах СССР, был использован в мировой практике решения управленческих, экономических, социальных, геополитических и прочих задач в процессах пионерного освоения новых территорий.
Другой подобной организацией мобилизационного типа в хозяйственном освоении и обживании арктических территорий СССР можно назвать государственный трест «Дальстрой», созданный в ноябре 1931 г. по особо секретным постановлениям Политбюро ЦК ВКП (б) и Совета Труда и Обороны СССР. Эта организация была еще в большей степени жестко мобилизационной. Она изначально мыслилась как чрезвычайная, необходимая для обеспечения добычи золота и других особо ценных полезных ископаемых (олова, кобальта, вольфрама, урана) в незаселенных людьми районах северо-востока СССР, отличающихся крайне суровыми природно-климатическими условиями. Действовала в строго секретном режиме, используя на своих предприятиях в основном подневольный труд заключенных и спецпереселенцев. Деятельность государственного треста «Дальстрой» (Главного управления строительства Дальнего Севера), происходившая в 1930–1950-е гг., осу- ществлялась в основном в организационных рамках силовых ведомств СССР. Структурные перестройки и ведомственные перераспределения предприятий не изменяли в целом мобилизационного предназначения этой специфической организации, сыгравшей на определенном историческом этапе пионерную роль в обживании и хозяйственном освоении значительной территории северо-востока СССР. В 1932–1935 гг. район, подведомственный «Дальстрою», составлял 400–450 тыс. кв. км, в 1941 г. – 2 266 тыс., а в 1953 г. – около 3 млн кв. км [Историческая энциклопедия Сибири, 2009. С. 457].
Деятельность «Дальстроя» не была подконтрольной обычным органам государственной административно-территориальной власти, предусмотренным Конституцией СССР. Она подчинялась лишь высшим партийно-государственным инстанциям в стране. Ее деятельностью постоянно интересовался И. В. Сталин. Двадцать шестого ноября 1932 г. было принято особое постановление Политбюро ЦК ВКП (б), возлагавшее на начальника «Дальстроя» широкие властные полномочия, которые делали его одновременно главным административным и партийным руководителем на подведомственной территории. Кроме того, он же являлся уполномоченным ОГПУ (в 1934–1938 гг. – НКВД) СССР в регионе. Производственные планы «Дальстроя» по добыче золота и других полезных ископаемых ежегодно утверждались специальными постановлениями ЦК ВКП (б) и СНК СССР, в которых определялся и перечень основных мероприятий по обеспечению выполнения этих планов [Бацаев, 2007. С. 37].
Магаданский исследователь А. И. Широков приводит примеры неудачных попыток создания на территории, подведомственной «Дальстрою», обычных государственных и партийных органов. В 1937 г. на партийной конференции «Дальстроя» ряд делегатов предложили реформировать партийную организацию треста в соответствии с Уставом ВКП (б), но начальник треста Э. П. Берзин жестко отреагировал на это предложение, сказав, что это вряд ли будет правильно. «Мое личное мнение таково, что Колыме нужна парторганизация порядка военной… основная масса рабочей силы заключенные. Вот почему я и говорю, что нам нужна организация порядка военной организации…» [Широков, 2006. С. 24].
В 1939 г. по ходатайству Хабаровского крайкома партии и Крайисполкома Прези- диум Верховного Совета РСФСР своим указом создал в составе Хабаровского края Колымский округ с центром в Магадане, который получил статус города. Однако вмешался И. В. Сталин и, по сути, отменил это решение, признав его «схематичным и нежизненным». В качестве объяснения он подчеркнул, что «Дальстрой» – не обычное производственное управление, это «…ком-бинат специального типа, работающий в специфических условиях использования исключительно или почти исключительно уголовных людей», чья «…специфика требует особых условий работы, особой дисциплины, особого режима». Поэтому «в районе Колымы требуется не окружком, а партком при “Дальстрое”, связанный с политотделом и подчиненный ему» [Там же. С. 24–25].
Таким образом, на северо-восточных территориях СССР, формально входивших в Хабаровский край, действовал особый режим чрезвычайного управления вплоть до образования в 1953 г. Магаданской области. За счет жестко мобилизационных методов через систему ГУЛАГа осуществлялось хозяйственное освоение огромной территории. Главной в деятельности «Дальстроя» была добыча полезных ископаемых. Вместе с тем по необходимости в необжитой людьми местности велось транспортное, энергетическое и другое социально-инфраструктурное строительство, способствовавшее колонизации края. В 1930-е гг. активно велось дорожное строительство, для которого с 1933 г. было организовано специальное управление. К 1940 г. им было построено в ранее бездорожных районах в бассейне Колымы и Индигирки более 3 тыс. км автодорог, несколько мостов, не имевших аналогов среди подобных сооружений в СССР. Опорным хозяйственным пунктом стал порт в бухте Нагаева, построенный в 1933–1934 гг.
Среди поселений, созданных во времена «Дальстроя», наиболее значимыми были рудничные поселки, где одновременно дислоцировались крупные лагерные подразделения. Здесь же развивались отрасли местной промышленности, среди которых наиболее крупными были связанные со строительством и использованием местного сырья (стекольный, кожевенный заводы, завод по производству керамических изделий и т. д.). Для снабжения продовольствием создавались государственные сельскохозяйственные предприятия в виде совхозов и подсобных хозяйств предприятий и лагерных учреждений.
Одно из главных предназначений «Даль-строя» было наращивание в СССР добычи золота. Здесь в Колымо-Индигирском бассейне в первой половине 1930-х гг. работало 75 геологических экспедиций и партий, которыми было выявлено свыше 200 золотоносных месторождений, среди которых 20 было крупных месторождений с содержанием одновременно золота и олова, а также были найдены месторождения угля и других полезных ископаемых. Первенцами золотодобывающей промышленности на Колыме стали построенные к 1937 г. рудник «Кинжал» и Утинская опытная обогатительная фабрика. В 1940 г. в бассейне Колымы было добыто 80 т химически чистого золота, удельный вес его в общей золотодобыче СССР составил 46,3 %. Колыма уверенно вошла в число крупнейших золотодобывающих районов не только страны, но и мира. В 1932–1956 гг. на приисках «Даль-строя» было добыто 1 187,1 т химически чистого золота, 65,3 тыс. т оловянного концентрата, 2,85 тыс. т вольфрама и около 400 т кобальта в концентрате [Широков, 2006. С. 31].
По мнению А. И. Широкова, «Дальстрой» в 1930–1950-е гг. с помощью заключенных системы ГУЛАГа, которых через рудники Колымо-Индигирского края в 1932–1954 гг. прошло около 900 тыс. чел., осуществлял колонизацию огромной территории северо-востока СССР, сопровождавшуюся форсированным изъятием «из недр региона ценных видов минерального сырья» [Широков, 2008. С. 92].
Государство через организации мобилизационного типа реализовывало свои решения по добыче особо важных и уникальных полезных ископаемых, находящихся на необжитых и экономически слабо освоенных территориях страны, отличающихся суровыми природно-климатическими условиями, географической отдаленностью, отсутствием транспортной и хозяйственной инфраструктуры и т. д. В процессе деятельности «Дальстроя» ранее необжитая огромная территория северо-востока СССР, богатая природными ресурсами, смогла включиться в единый народно-хозяйственный комплекс страны, занять в нем ключевое место как источник редких полезных ископаемых и золотовалютных резервов.
Разработка полезных ископаемых Колы-мо-Индигирского края в свою очередь дала толчок к развитию морского транспорта Дальнего Востока, речных и воздушных коммуникаций, способствовала интенсифи- кации перевозок по Северному морскому пути, внутрирегиональному дорожному и социальному строительству. Районы, охваченные деятельностью «Дальстроя», наряду с Камчаткой имели важное военно-стратегическое значение. Их заселение и экономическое развитие укрепляло границы и тыловые районы СССР на дальневосточных рубежах. Так или иначе, в результате планомерного добровольно-принудительного перераспределения трудоспособного населения на северо-восток страны, имевшего зачастую чрезвычайный характер, решалась важная проблема государственной значимости – заселения новых районов и создания здесь условий для дальнейшего социальноэкономического развития.
Организации мобилизационного типа в СССР действовали целевыми методами в особом чрезвычайном режиме, обеспечивались всеми ресурсами и возможностями для своей деятельности и осуществляли не только производственное строительство, но и в целом реализовывали программы социально-экономического развития территорий на период возведения главных градообразующих предприятий. Данные методы оказывались наиболее эффективными в северных слабообжитых районах с суровыми природно-климатическими условиями.
Список литературы Организации мобилизационного типа в освоении российской Арктики и Северного морского пути в 1930–1950-е годы
- Бацаев Е. Д. Очерки истории Магаданской области. Магадан, 2007. 256 с.
- Бикметов Р. С. Использование спецконтингента в экономике Кузбасса. 1929-1956. Кемерово, 2009. 430 с.
- Боякова С. И. Освоение Арктики и народы северовостока Азии (XIX -30-е годы XX в.): Дис. … д-ра ист. наук. Якутск, 2004. 430 с.
- ГУЛАГ: экономика принудительного труда. М., 2005. 260 с.
- Жуков Ю. Н. Сталин: Арктический щит. М., 2008. 542 с.
- Изучение и освоение Арктической зоны России в XVIII -начале XXI в.: Сб. документов и материалов. Новосибирск, 2011. 328 с.
- Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1. 715 с.
- Каштелян В. И., Рывлин А. Я., Фаддеев О. В. и др. Ледоколы. Л., 1972. 287 с.
- Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознаменный Северный флот. М., 1983. 225 с.
- Летопись Севера. М., 1975. Т. 7. 222 с.
- Летопись Севера. М., 1985. Т. 11. 256 с.
- Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967). М., 1967. Т. 2. 469 с.
- Социальная мобилизация в сталинском обществе: институты, механизмы, практики. Новосибирск, 2011. Вып. 1. 189 с.
- Социальная мобилизация в сталинском обществе: институты, механизмы, практики. Новосибирск, 2012. Вып. 2. 192 с.
- Тимошенко А. И. Российская региональная политика в Арктике в XX-XXI вв.: проблемы стратегической преемственности//Актуальные проблемы Российской государственной политики в Арктике (XX -начало XXI в.): Сб. науч. тр. Новосибирск, 2011. С. 4-17.
- Тимошенко А. И. Трансформации в российской государственной политике освоения Арктики и Северного морского пути//Государственная политика России в Арктике: стратегия и практика освоения в XVIII-XXI вв.: Сб. науч. тр. Новосибирск, 2012. С. 4-35.
- Широков А. И. Северо-Восток в системе общественных отношений СССР в 1930-1950-е гг. ХХ столетия (теоретический и практический аспекты)//Колымский гуманитарный альманах. Магадан, 2006. Вып. 1. С. 5-35.
- Широков А. И. «Дальстрой» как институт колонизации северо-востока России в 1930-1950-х гг.//Гуманитарные науки в Сибири. 2008. № 2. С. 90-93.