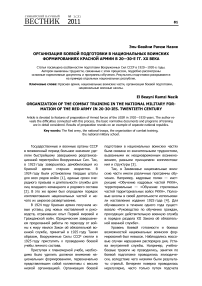Организация боевой подготовки в национальных воинских формированиях Красной армии в 20-30-е гг. ХХ века
Автор: Эль-Беайни Рамзи Назик
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена особенностям подготовки Вооруженных Сил СССР в 1920-1930 годах. Автор раскрывает трудности, связанные с этим процессом, подробно рассматриваются основные нормативные документы и программы обучения. Результаты подготовки раскрываются на примере отдельных национальных республик.
Красная армия, национальные воинские части, организация боевой подготовки, национальные военные школы
Короткий адрес: https://sciup.org/14113588
IDR: 14113588
Текст научной статьи Организация боевой подготовки в национальных воинских формированиях Красной армии в 20-30-е гг. ХХ века
Государственные и военные органы СССР в межвоенный период большое значение уделяли быстрейшему завершению реорганизационной перестройки Вооруженных Сил. Так, в 1923 году завершилась демобилизация из Красной армии старших возрастов. В 1924 году были установлены твердые штаты для всех родов войск [1], единые сроки очередного призыва и длительности службы для лиц младшего командного и рядового состава [2]. В это же время был определен порядок комплектования национальных частей и начато их широкое развертывание.
В 1924 году Красная армия получила новые уставы, ряд новых наставлений и руководств, отражавших опыт Первой мировой и Гражданской войн. Юридическим завершением проделанной работы по переходу от войны к миру явился Закон об обязательной военной службе, принятый в 1925 году Таким образом, Вооруженные Силы СССР смогли в 1925 году приступить к проведению боевой учебы личного состава.
Приступая к планомерной учебе, необходимо было уделить должное внимание национальным формированиям, первоначально представлявшим собой коллективы с весьма низкой организацией. Организация боевой подготовки в национальных воинских частях была связана со значительными трудностями, вызванными их неодновременным возникновением, разными принципами комплектования и структуры [3].
Так, в Закавказье национальные воинские части имели различные программы обучения. Например, кадровые полки — инструкцию «Обучение кадровых частей РККА», территориальные — «Обучение стрелковых частей территориальных войск РККА». Полковые школы в своей деятельности использовали наставление издания 1925 года [4]. Для обучавшихся в течение одного года существовало «Руководство по обучению граждан, проходящих действительную военную службу в порядке раздела XII Закона об обязательной военной службе».
Уровень боевой готовности и боевых возможностей национальных воинских формирований был невысок. Наблюдались массовые случаи нарушения распорядка дня, Устава внутренней службы. Например, учебнобоевые тревоги не проводились, занятия по боевой подготовке проводились эпизодически, вследствие чего низкими были результаты стрельб. Вечерняя поверка проводилась нерегулярно, часто только путем подсчета голосов. Отсюда вытекали многочисленные факты самовольных отлучек. Состояние жилых и служебных помещений было запущенным. Особенно было тревожным положение на пищеблоках. Котлы и походные кухни не отвечали элементарным требованиям гигиены и санитарным условиям. Военнослужащие ходили в неопрятном обмундировании, не мыли руки, пищу принимали в головных уборах и т. д. [5].
Одной из причин подобного положения являлась нехватка национальных военных кадров и весьма слабая военная подготовка. Командиры в большинстве своем не отличались требовательностью к себе и подчинен- ным, исполнительностью и примерностью, сами не соблюдали распорядок дня и правила ношения формы одежды. Как отмечал комбриг Я. Г. Мелькумов, проявление требовательности воспринималось в штыки как насаждение «царской муштры», что приводило к панибратству с подчиненными [6].
Представление о подготовленности командного состава к выполнению своих обязанностей дает таблица 1, составленная автором по данным 72 частей РККА, в которых проходили службу командиры выпуска 1925 и 1926 гг. (в том числе и выпускники национальных военных школ) [7].
Таблица 1
Подготовленность командного состава к выполнению своих обязанностей
|
Оцениваемые данные |
Общая оценка (в %) |
||
|
Хорошо |
Удовлетворительно |
Слабо |
|
|
Общее развитие |
32 |
35 |
23 |
|
Военные знания |
18 |
81 |
1 |
|
Знания уставов |
24 |
64 |
12 |
|
Стрелковая подготовка |
18 |
74 |
8 |
|
Специальная подготовка |
19 |
75 |
5 |
|
Политическая подготовка |
18 |
72 |
10 |
|
Интерес к службе |
27 |
64 |
9 |
Как видно из таблицы, общая подготовленность лиц командного состава была невысокой. Лучшая подготовленность отмечалась у выпускников общесоюзных школ. Наименее подготовленными показали себя выпускники национальных военных школ — СевероКавказской школы горских национальностей, Крымской кавалерийской школы и Белорусской военной школы [8]. Особую тревогу военного руководства страны вызывали крупные пробелы в стрелковой подготовке, низкие военные и политические знания. Значительная часть командного состава была оторвана от военнослужащих, так как не умела или не хотела (в силу своего социального происхождения) работать с людьми.
Как отмечалось выше, выпускники нормальных военных школ составляли незначительный процент в национальных военных формированиях. Большинство из лиц командного состава окончили ускоренные курсы красных командиров или же были выдвиженцами-практиками без военного образования и с низкой профессиональной культурой. Так, командир Азербайджанской стрелковой дивизии был вынужден отдать приказ, требовавший от начальников и командиров вести служебную документацию чернилами, писать четко и разборчиво [9]. Военную литературу, газеты и журналы командиры почти не читали. В 1924 году Реввоенсовет Туркестанского фронта следующим образом охарактеризовал национальный командный состав: «Комсостав из татар и местного населения незначительный, к тому же подготовлен слабо в военном и специальном отношении и не может воспитывать бойцов, особенно будущих командиров. Политический состав не подготовлен к ведению политпросвет работы» [10].
В 1926 году на IV Всеармейской партийной конференции заместитель начальника Политуправления Кавказской Краснознаменной армии в докладе «Задачи военного строительства» указывал, что «…за пять лет напряженного труда удалось собрать комсостав, который можно назвать советским, но он нуждается в серьезной военной, специальной, политической подготовке и переподготовке» [11].
Ряд лиц начальствующего состава считал, что политико-моральным воспитанием личного состава необходимо заниматься в свободное от службы время [12]. Отрицательно сказывалось и отсутствие стабильности в службе, большая загруженность текущими делами, а также неумелое распределение своего рабочего времени.
Для ликвидации указанных недостатков было сделано следующее. Во исполнение циркуляра Политического управления РККА № 68/18 от 21 марта 1923 года [13] была проведена аттестация военных кадров, позволившая отобрать для службы наиболее достойных лиц. Из национальных формирований были изъяты антисоветски настроенные и разложившиеся элементы. С целью бóльшей объективности в оценке командиров и сближения их с политработниками в аттестационной кампании активное участие принял и политсостав [13]. С 1923 года началось переучивание командиров РККА на курсах переподготовки. К концу года национальные воинские формирования приняли их первых выпускников.
Основной формой привития командному составу командирских качеств и военной подготовки явилась организация командирской учебы. По мнению А. М. Иовлева, до 1930— 1931 гг. командирская учеба в Красной армии, включая и национальные воинские формирования, была поставлена неудовлетворительно [14]. Главным образом это касалось изучения техники, вооружения и овладения сложными формами боя. По этим вопросам отсутствовала централизованно разработанная тематика. Однако некоторые виды командирской подготовки, такие как подведение итогов, разборы, плановые ежедекадные совещания носили регулярный характер.
Вопросы командирской требовательности, исполнительности, обмена передовым опытом начали обсуждаться на собраниях командного состава, недостатки и упущения — подвергаться критике и дисциплинарным воздействиям, своевременно контролироваться выполнение отданных приказов и распоряжений. В целях борьбы с недобросовестным отношением к выполнению служебных обязанностей РВС начали издавать циркуляры, требовавшие по каждому случаю неисполнительности проводить расследования и виновных привлекать к уголовной ответственности
[15]. В результате командно-политический состав усилил самоконтроль, повысил требовательность к отработке организационных вопросов. По примеру общих подразделений Красной армии в национальных воинских формированиях стали составляться и отрабатываться служебная документация, расписания дежурной и караульной служб, распорядок дня.
Основными элементами боевой подготовки национальных воинских формирований, как и всей Красной армии, являлись тактическая, общевойсковая, стрелковая и физическая подготовка.
Тактические занятия проводились с начальствующим, курсантским и рядовым составом в течение года по планам боевой подготовки. Они подразделялись на теоретическую учебу и практические действия в поле. С командным составом занятия проводились дифференцированно по должностным категориям. Средний комсостав и политработников обучали командиры и комиссары батальонов, полков или бригад. Их, в свою очередь, — вышестоящие начальники. Полученные знания проверялись и закреплялись на батальонных, полковых, дивизионных и армейских (окружных) военных играх, в которых принимали участие и политработники. Тем самым они обучались военному делу и приобретали навыки партийно-политического обеспечения предстоящих боевых действий.
О возросших возможностях национальных воинских формирований свидетельствует самостоятельное проведение ими крупных военных игр на широком тактическом фоне с большим количеством вводных, требовавших достаточно высоких знаний от участников. Например, такая военная игра была проведена в Азербайджанской дивизии с 21 по 28 августа 1928 года [16]. В 1927 году в Закавказье прошли учения по противодесантной обороне Черноморского побережья, где каждая национальная дивизия имела свои участки обороны [16]. Национальный командный состав также активно привлекался и к армейским (окружным) военным играм. В них нередко участвовал весь руководящий состав (до командиров полков включительно).
В 1928 году Реввоенсовет СССР подвел итоги военной подготовки старшего и среднего начальствующего состава. Было отмечено, что в целом в национальных воинских фор- мированиях произошел заметный сдвиг в лучшую сторону. Вместе с тем были выявлены и существенные недостатки в организации боевой подготовки. Главными из них были следующие: слабое овладение техникой использования вооружения, организацией боя, топографией и теорией стрельбы. По уровню военных знаний старший командный состав отставал от среднего. В Кавказской Краснознаменной армии политработники слабее других освоили военные предметы. В СреднеАзиатском военном округе со старшим политсоставом военная подготовка вообще не проводилась [17].
Основные причины имеющихся недостатков в военной подготовке командно-начальствующего состава были указаны в приказе РВС № 1425—1929 г. И уже с 1930/31 учебного года и в этой области намечается существенный переворот. Он начался с резкого увеличения часов, отводимых на командирскую учебу, утверждения твердого порядка обучения, который был объявлен приказом народного комиссара по военным и морским делам № 080 [18]. Во исполнение планов боевой подготовки стали проводиться занятия с высшим и старшим командным составом, армейские (окружные) оперативные игры, тактические сборы командиров батальонов, командиров и политруков рот, сборы начальников штабов полков и полковых школ, а также преподавателей тактики училищ, гражданских вузов и военруков. Особое внимание обращалось на военную подготовку руководящего состава национальных военных школ. На 30 % увеличилось время на их плановую учебу [14]. Стало придаваться большее значение вопросам использования новой техники в боевых условиях. Своеобразной формой освоения новой техники явились «Месячники штурма новой техники им. К. Е. Ворошилова». В национальных формированиях Кавказской Краснознаменной армии он был проведен с 23 января по 23 февраля 1931 года под лозунгами: «Научимся по-большевистски владеть техникой», «Месячник штурма техники — наш лучший подарок К. Е. Ворошилову в честь его 50-летия». В результате национальный командно-политический состав стал владеть более лучшей и совершенной методикой проведения занятий и учений с личным составом. Тактические решения на бой стали приниматься более правильные, технические средства (танки, связь, химическое оружие и т. д.) использовались более целенаправленно.
Совершенствовалась и материальная база боевой подготовки. В ряде случаев изготавливались макеты танков и бронемашин [20]. Однако они были громоздкими и тихоходными и надлежащим образом не моли использоваться. Это обедняло занятия, лишало обучаемых возможности до конца понять тактико-технические особенности бронетехники [21].
Но, несмотря на несовершенство материальной базы, занятия приносили определенную пользу. Об этом свидетельствуют данные Реввоенсовета и итоги испытаний, проведенных в 1931 году. Так, из всего личного состава Объединенной татаро-башкирской школы не выдержал испытания только один помощник командира роты [22].
В среднем, освоение новой техники во всех частях Красной армии составило 80—85 %. По общему мнению командиров и политработников, военная учеба принесла значительную пользу и повысила личную выучку [23]. Успехи в учебе командно-политического состава способствовали повышению качества боевой подготовки личного состава. Она становится регулярной, основанной на принципах постепенности, посильности, поступательности и целенаправленности. Обучение проходило по годам службы, по категориям личного состава и состояло из теоретического курса, практических действий, полевых тактических учений и было разделено на зимний и летний периоды [24].
Главной целью учебы в зимний период являлось: подготовить одиночного бойца-специалиста, отработать действия в составе малых подразделений (отделение, взвод, рота) в наступательном и оборонительном бою с использованием всех имеющихся средств. Главной задачей летнего периода обучения являлось закрепление достигнутых результатов в личной подготовке и отработка действий в составе соединений. В Закавказье первый выход подразделений в лагеря был проведен в 1923 году, для остальных национальных воинских формирований он становится регулярным с 1925 года.
По мере возможности лагерные сборы проводились совместно с общесоюзными подразделениями. Так, например, в 1925 году все военные школы, расположенные на территории Приволжского военного округа, летнюю практику проходили в г. Кушка Туркестанско- го фронта, где приняли участие в боевых действиях с отрядами басмачей.
Отработка учебно-боевых задач осуществлялась в соответствии с приказами по организации боевой подготовки на год. С целью более лучшей организации и проведения занятий было введено в практику издание приказов, предваряющих упражнение (учение), регламентирующих условия и нацеливающих на достижение новых показателей. Одной из главных задач боевой подготовки являлось создание условий, максимально приближенных к боевым. Примером этого может служить учение, проведенное в 1927 году Азербайджанской стрелковой дивизией, по использованию артиллерии в наступательном бою. Для поражения укрепленных огневых точек и подвижных целей стрельба проводилась боевыми снарядами [26].
Конец лагерного периода совпадал с окончанием учебного года. Он завершался маневрами, парадом и подробным разбором [27]. Наиболее интересно и поучительно маневры стали проводиться с 1927 года, когда стали двусторонними. В результате этого к 1930 году национальные воинские части по уровню подготовки одиночного военнослужащего, отделения, взвода, полка и дивизии вышли на уровень общесоюзных [28].
С 1926 года были предприняты первые шаги по планомерному обучению национальных воинских частей к действиям в горных условиях. С этой целью изучались и отрабатывались способы и порядок перемещения войск, преодоление горных препятствий. Личный состав воинских частей обучался использованию горного рельефа в обороне и наступлении, применению оружия и техники в горах. Однако в полной мере боевая учеба в горных условиях развернулась с 1936 года, когда было принято «Наставление для действия войск РККА в горах» [29].
Проведенный автором анализ отчетов и докладных записок Главного политического управления РККА и Реввоенсовета СССР позволяет утверждать, что негативные моменты в боевой подготовке личного состава национальных воинских формирований к 1935 году были в основном устранены.
Вместе с тем, в боевой подготовке имелись и серьезные недостатки. Так, не в полной мере отрабатывалось применение химических средств, оборона и наступление с ис- пользованием дымов проводились в упрощенных условиях, неудовлетворительно организовывался встречный бой [30], обучение наступательным действиям проводилось исключительно на равнинной местности, слабо отрабатывались вопросы круговой обороны [31]. Среди значительной части командного состава всех округов в некоторых случаях был распространен взгляд на тактические учения как на дополнительные тяготы. Ряд командиров с трудом переносили условия походной жизни. Так, по данным СреднеАзиатского военного округа, настроения командиров на учениях были хуже, чем у бойцов. Имелись случаи, когда за один день до 30 человек командного состава обращались в лазареты за медицинской помощью [32].
Во всех военных округах особенно тревожными были упущения в стрелковой подготовке, прежде всего, в использовании револьверов, снайперских винтовок, пулеметов и гранат. Из материалов РГВА видно, что только 1-я Грузинская дивизия получила общую оценку «хорошо», а остальные соединения — «неудовлетворительно». Самым слабым местом в стрелковой подготовке личного состава оставалась подготовка снайперов и пулеметчиков.
Для преодоления этого положения в середине 1930-х гг. стали проводиться регулярные занятия по устройству, эксплуатации и сбережению всех видов стрелкового оружия: винтовок и пулеметов — с младшими командирами, личного оружия — с каждым военнослужащим.
Период 1936—1938 гг. охарактеризован крупными успехами в боевой подготовке национальных воинских формирований. Так, лагерные сборы 1-я Грузинская горно-стрелковая дивизия завершила скоростным высокогорным маршем из Боржоми в Батуми через Годерский перевал, перекрыв все нормативы, достигнутые при подобных переходах [33]. 7-я Туркменская горно-кавалерийская дивизия провела марш-учение в горах в зимних условиях, получив высокую оценку С. М. Буденного [34]. В 1936 году на тактических учениях 18-я Узбекская горно-кавалерийская дивизия показала образцовую работу всего личного состава, совершив глубокий обходной маневр по горным тропам [35]. Дивизия отлично проявила себя и на учениях в пустынных условиях [36].
Большим достижением национальных воинских формирований явилось то, что они овладели способностью атаковать и противодействовать атакам противника как на равнинной, так и в горной местности. Подразделения национальных воинских частей научились вести борьбу с танками, авиацией и химическим оружием. Одно из отделений в роте исполняло обязанности внештатных химиков-разведчиков [37].
В результате значительных успехов в боевой подготовке только в армянских и азербайджанских соединениях в 1936 году были награждены 26 человек (из них орденом Красной Звезды — 10 человек, Орденом «Знак почета» — 16 человек) [38].
В целом, анализ показывает, что в 1936 году национальные воинские части по основным показателям боевой подготовки находились на уровне общесоюзных. Высокие результаты, достигнутые в боевой учебе, позволили народному комиссару обороны в 1936—1938 гг. присвоить национальным соединениям номера (как и любой части Красной армии) и ряд из них наградить боевыми орденами.
-
1. См.: Конюховский В. Н. Борьба Коммунистической партии за укрепление Красной Армии в годы мирного социалистического строительства (1921—1941 гг.). Ч. 2. М., 1962. С. 148.
-
2. См.: Собрание узаконений РСФСР. 1924 г. № 45. Ст. 300.
-
3. Так, в Средней Азии и в некоторых других районах они комплектовались на добровольной основе, в остальных республиках — на основе всеобщей воинской повинности. На Украине и в Белоруссии национальные воинские формирования были территориальными, в Закавказье — смешанными, а в других местностях — кадровыми ( Примеч. авт. ).
-
4. РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 20. Л. 6.
-
5. РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 18. Л. 21.
-
6. См.: Мелькумов Я. Г. Туркестанцы. М., 1957. С. 40.
-
7. РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 236. Л. 417—419.
-
8. РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 236. Л. 421.
-
9. См.: Маркарян В. С. Коммунистическая партия — организатор и руководитель национальных воинских формирований Красной армии в период мирного социалистического строительства (1922—1938 гг.): дис. … канд. наук. М., 1975. С. 88.
-
10. РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 459. Л. 23.
-
11. Заря Востока. 1926. 10 февр.
-
12. РГВА. Ф. 37615. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
-
13. РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 19. Л. 22.
-
14. См.: Иовлев А. М. Борьба Коммунистической партии за создание военных кадров Советского государства в период строительства социализма (1928—1932 гг.): дис канд. ист. наук. М., 1954. С. 173.
-
15. РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 19. Л. 7.
-
16. РГВА. Ф. 928. Оп. 1. Д. 18. Л. 11.
-
17. РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 347. Л. 17—18.
-
18. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 198. Л. 12.
-
19. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 235. Л. 280.
-
20. РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 235. Л. 280—281.
-
21. РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 459. Л. 62-63.
-
22. РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 5. Л. 55.
-
23. РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 348. Л. 8—8 об.
-
24. РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 20. Л. 5.
-
25. РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 37. Л. 74.
-
26. РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.
-
27. РГВА. Ф. 34411. Оп. 1. Д. 3. Л. 34 об.
-
28. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 235. Л. 283.
-
29. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1639. Л. 9.
-
30. РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 138. Л. 13—13 об.
-
31. РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 1365. Л. 39.
-
32. РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 235. Л. 96.
-
33. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1366. Л. 76.
-
34. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1257. Л. 9, 33.
-
35. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1652. Л. 56.
-
36. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1366. Л. 6.
-
37. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1366. Л. 2.
-
38. РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2639. Л. 2, 24, 25.
Список литературы Организация боевой подготовки в национальных воинских формированиях Красной армии в 20-30-е гг. ХХ века
- Конюховский В. Н. Борьба Коммунистической партии за укрепление Красной Армии в годы мирного социалистического строительства (1921-1941 гг.). Ч. 2. М., 1962. С. 148.
- Собрание узаконений РСФСР. 1924 г. № 45. Ст. 300.
- РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 20. Л. 6.
- РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 18. Л. 21.
- Мелькумов Я. Г. Туркестанцы. М., 1957. С. 40.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 236. Л. 417-419.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 236. Л. 421.
- Маркарян В. С. Коммунистическая партия -организатор и руководитель национальных воинских формирований Красной армии в период мирного социалистического строительства (1922-1938 гг.): дис. … канд. наук. М., 1975. С. 88.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 459. Л. 23.
- Заря Востока. 1926. 10 февр.
- РГВА. Ф. 37615. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
- РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 19. Л. 22.
- Иовлев А. М. Борьба Коммунистической партии за создание военных кадров Советского государства в период строительства социализма (1928-1932 гг.): дис.... канд. ист. наук. М., 1954. С. 173.
- РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 19. Л. 7.
- РГВА. Ф. 928. Оп. 1. Д. 18. Л. 11.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 347. Л. 17-18.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 198. Л. 12.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 235. Л. 280.
- РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 235. Л. 280-281.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 459. Л. 62-63.
- РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 5. Л. 55.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 348. Л. 8-8 об.
- РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 20. Л. 5.
- РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 37. Л. 74.
- РГВА. Ф. 918. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.
- РГВА. Ф. 34411. Оп. 1. Д. 3. Л. 34 об.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 235. Л. 283.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1639. Л. 9.
- РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 138. Л. 13-13 об.
- РГВА. Ф. 25030. Оп. 1. Д. 1365. Л. 39.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 235. Л. 96.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1366. Л. 76.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1257. Л. 9, 33.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1652. Л. 56.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1366. Л. 6.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 1366. Л. 2.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 2639. Л. 2, 24, 25.