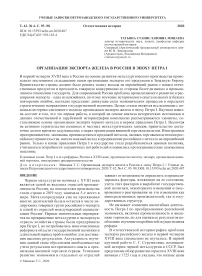Организация экспорта железа в России в эпоху Петра I
Автор: Минаева Татьяна Станиславовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 4 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
В первой четверти XVIII века в России на основе развития металлургического производства происходило постепенное складывание основ организации экспорта его продукции в Западную Европу. Правительство страны должно было решить задачу выхода на европейский рынок с новым отечественным продуктом и преодолеть товарную конкуренцию со стороны более развитых в промышленном отношении государств. Для современной России проблема промышленного развития и расширения экспорта - одна из важнейших, поэтому изучение исторического опыта позволит избежать повторения ошибок, наглядно представит движущие силы экономических процессов и определит стратегические направления государственной политики. Целью статьи является исследование c помощью историко-системного подхода организации экспорта железа в эпоху Петра I. Научная новизна состоит в том, что это первая работа, в которой на основе анализа исторических источников и данных отечественной и зарубежной историографии комплексно рассматриваются элементы, составляющие основу организации экспорта черного металла в период правления Петра I. Несмотря на активное строительство казенных и частных металлургических заводов, правительство достаточно долгое время не задумывалось о мерах организации внешней торговли железом. Иностранные предприниматели, занимаясь производством и продажей металла, являясь торговыми агентами российского правительства, внесли важный вклад в продвижение российского металла на европейский рынок. Только в конце правления Петра I в государстве стала разрабатываться ценовая политика, учитываться потребности заграничных потребителей и появились протекционистские таможенные пошлины.
Петр i и его реформы, Россия в xviii веке, производство железа, экспорт, организация внешней торговли, иностранное предпринимательство
Короткий адрес: https://sciup.org/147227274
IDR: 147227274 | УДК: 94(47).05+339.165.4 | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.487
Текст научной статьи Организация экспорта железа в России в эпоху Петра I
Черная металлургия начиная с XVIII века является одной из ведущих отраслей промышленности России, по показателям производства стали страна в 2019 году занимала 5-е место в мире. Металлопродукция уже на протяжении многих десятилетий была и остается в числе лидирующих товарных групп российского экспорта и одной из отраслей международной специализации России1. Первые значительные мероприятия по превращению металлургии в экспортную отрасль хозяйства страны были предприняты при Петре I, но потребовались многочисленные реформы в области государственной политики и длительный период проб и ошибок для достижения высоких результатов. Актуальность изучения данной темы обусловлена необходимостью учета результатов исторического опыта в организации внешней торговли страны. Успешное развитие экономики и отдельных ее отраслей зависит от возможности определить и проанализировать факторы, влияющие на ее состояние, учета этих факторов в выработке государственной политики, мониторинга изменений и своевременного реагирования на эти изменения как непосредственных производителей, так и государственных структур.
Не вызывает сомнения масштабная деятельность Петра I по преобразованию российской экономики, включая промышленность и внешнюю торговлю, но для оценки ее результатов необходимо изучение подробностей осуществления реформ.
В отечественной историографии проблема экспорта российского железа в первой четверти XVIII века специально не изучалась. В первой крупной работе С. Г. Струмилина, посвященной истории черной металлургии в СССР, был представлен обзор развития отрасли в XVIII веке начиная с 1725 года и указано, что низкие цены позволили России постепенно увеличить экспорт черного металла в Великобританию [9: 227]. В дальнейшем в научной исторической литературе данная проблема практически не поднималась. Участие казны во внешней торговле России в первой четверти XVIII века изучала Р. И. Козинцева, рассматривая преимущественно продукцию лесных промыслов [5]. А. В. Демкин в монографии о деятельности британского купечества в России проанализировал участие англичан в экспортной торговле, но в основном начиная с 1730-х годов [2]. Автор данной статьи в работе «Россия и Швеция в XVIII веке: история таможенной политики и таможенной системы» уделяла внимание условиям возникновения и развитию конкуренции России и Швеции в Европе, в том числе в торговле металлом. В монографии был сделан вывод о формировании целенаправленной комплексной государственной политики поддержки экспорта в России со второй половины XVIII века [7]. В. В. Запарий, исследуя модернизацию уральских металлургических предприятий в петровский период, сделал вывод, что низкие цены и высокое качество товара, обеспеченное техническим и организационным преобразованием предприятий, позволило с 1724 года усилить экспорт уральского железа в европейские страны [3: 131]. В многотомном издании «Развитие экономики в России в XVI–XX вв.» авторы М. В. Конотопов и С. И. Сметанин опубликовали уточненные со времени выхода монографии С. Г. Струмилина статистические данные, представленные в отечественной научной литературе, о динамике объема производства, производственных затратах и ценах на продукцию черной металлургии, что может быть использовано для дальнейшего анализа внешней торговли России со странами Европы [6: 190–193].
Самым значительным зарубежным исследованием по экономике России XVIII века является труд американского ученого А. Кахана (A. Kahan) [14]. Как историк и экономист, А. Кахан дал всесторонний анализ внешней торговли России, ее взаимоотношений с основными торговыми партнерами, представил динамику российского экспорта наиболее значимых товаров, в том числе железа, и сделал вывод, что без внешнего спроса металлургия России вряд ли достигла высокого уровня.
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ЖЕЛЕЗА В КОНЦЕ XVII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА
Статистические данные о внешней торговле России в конце XVII – начале XVIII века собирались центральными ведомствами крайне нерегулярно, поэтому найти их в архивах сложно, в отдельных случаях приходится использовать сведения иностранных ученых, полученные ими из зарубежных архивов. Кроме того, указанные в документах количественные показатели иногда очень сильно отличаются друг от друга, что затрудняет анализ внешнеторговых операций. Вероятнее всего, начало экспорта железа из России связано с историей Архангельского порта и деятельностью голландских предпринимателей и партнеров по оптовой торговле Хейнриха Бутенанта и Вернера Муллера (Вахромея Меллера). Х. Бутенант в 1679–1681 годах построил возле Олонца железоделательный завод и в 1683 году отправил 6449 пудов железа в Архангельск, из которых более половины продал на экспорт [1: 169]. Следующие сведения относятся уже к периоду Северной войны, когда значительный внутренний спрос на металл, связанный с необходимостью изготовления оружия и боеприпасов, не позволял развивать экспорт. Россия в начале XVIII века еще только создавала крупную металлургическую промышленность на Урале, и экспорт осуществлялся, скорее всего, с частных заводов по инициативе голландских торговцев и заводчиков. В 1714 году 13 тонн железа поступило из России в Англию, груз предположительно был доставлен из Архангельска, так как в документах Зундской таможни сведений о нем нет [12: 35]. В 1715 году 47 тонн прутового железа отправили из Архангельска за границу голландцы Вернер и Петер Муллеры (Варфоломей и Петр Меллеры) с одного из своих заводов. С этого времени небольшие партии русского железа уже регулярно продаются за рубеж. Так, в 1716 году в Англию поступило 74 тонны российского железа, в 1717 году – 121 тонна, в 1718 году – 334 тонны, по другим источникам, за 1717–1719 годы из Архангельска ежегодно вывозилось в среднем по 580 тонн [8: 188], [14: 212].
Появление русского металла первоначально ничем не угрожало положению шведского железа на британском рынке, так как из всего объема импортируемого Великобританией железа шведское составляло 76 %, русское – всего 2 %2. Швеция для увеличения доходов отрасли и борьбы с конкурентами старалась сохранять высокое качество своего металла [13: 686–687]. Все железо, которое шло на экспорт, взвешивалось в портах и контролировалось браковщиками. Но бракованным признавалось очень небольшое количество товара, так как производители старались поддержать его качество. Каждый брюк, центр производства железа, имел свое клеймо, которое выступало в роли своеобразной торговой марки, и иностранные купцы и потребители быстро их запомнили.
По мере увеличения числа российских заводов и завершения военных действий в ходе Северной войны в России стали появляться излишки металла, которые можно было сбывать за границу. Дальнейшие успехи в развитии черной металлургии – формирование двух новых металлургических районов (Уральского и Олонецкого) и рост их производства – вызвали постепенное изменение структуры российского экспорта, связанное с регулярной продажей железа за границу (см. таблицу).
Экспорт российского железа в 1720-х годах (в тоннах)3
Iron export from Russia in the 1720s (in tons)
|
Год |
Экспорт из балтийских портов через Эрезунд |
Экспорт в Англию |
|
1720 |
249 |
|
|
1721 |
121 |
|
|
1722 |
690 |
34 |
|
1723 |
712 |
210 |
|
1724 |
1381 |
569 |
|
1725 |
906 |
148 |
Окончание Северной войны, увеличение выпуска продукции металлургическими заводами России, расширение масштабов внешней торговли Петербурга сыграли свою роль в подъеме российского экспорта, но одна из причин столь быстрого роста вывоза российского черного металла, особенно в Англию, несомненно, заключалась в принятом в 1724 году Швецией особом законе – Продуктплакате, который ограничил приход британских судов за шведским железом. В соответствии с новым законом ввоз импортных товаров разрешался только на шведских судах или на кораблях страны происхождения товара, что резко ограничило приход в страну английских и голландских судов4. Важным фактором, способствовавшим русскому экспорту, стало также разорение и сожжение 10 шведских металлургических центров в 1719 году русской армией, на их восстановление требовались время и деньги, что сказывалось на рыночной цене шведского металла. Шведское железо стоило на английском рынке в 1720-х годах от 16,5 до 21 фунта стерлингов, в то время как русское – 10–15 фунтов стерлингов5. Более высокая цена шведского черного металла объяснялась также более высокой себестоимостью и более высоким качеством некоторых сортов полосного железа. Цена на железо варьировалась в зависимости от его сорта, но сохранилось слишком мало сведений в русских и шведских источниках, чтобы составить полное представление о разнице в ценах. Самым лучшим и, следовательно, самым дорогим в Швеции было эрегрюндское железо, которое выплавля- лось в окрестностях Даннемуры. Железная руда из Даннемуры отличалась необычно низким содержанием фосфора, что являлось показателем ее чистоты, и включала в себя марганец, который придавал готовому продукту повышенную жесткость. Именно этот сорт закупался Англией для сталелитейного производства в Шеффилде и Бирмингеме. Цены на такое железо, изготовленное, например, в Люфсте, могли быть в два раза выше, чем на обычное. Но данный сорт железа составлял меньшую долю шведского экспорта, около 10 % [15: 7]. Остальное железо различалось своим качеством и, соответственно, ценой. Уральское железо получали из руды, которая содержала примесь меди. В результате железо получалось «мягким», отличалось хорошей ковкостью. Когда для дальнейшей переработки не требовалась особая жесткость железа, предпочтение часто отдавалось русскому металлу.
Уральское железо с доставкой в центр оказывалось очень дешевым. Накануне Северной войны, когда металл еще не стал дефицитом, казна платила заводчикам за пуд полосового железа 60 копеек, рыночная цена шведского железа составляла тогда 90 копеек. Н. Демидов с 1702 года стал поставлять в казну железо с Урала по цене с доставкой 42–45 копеек. В 1714 году пуд казенного уральского железа обходился с доставкой в Москву и Санкт-Петербург в 20 копеек, где продавался уже по цене от 90 копеек до 1 рубля. В казну в это время демидовское железо сдавалось по 45 копеек [6: 185].
Растущие продажи черного металла из России за границу не сразу вызвали изменения политики правительства в отношении как производства, так и внешней торговли. В 1720 году на Урал был отправлен В. Н. Татищев. Берг-мануфактур-коллегия, не имея прямого указания от Петра или Сената об увеличении производства железа, ставила в 1720–1721 годах перед Татищевым ограниченную задачу – развивать главным образом медеплавильную промышленность [11: 138]. В. Н. Татищев, понимая важность увеличения производства меди, в то же время считал, что расширение объемов выплавки железа позволит быстрее принести прибыль казне. По его расчетам, которые впоследствии оказались совершенно верными, стоимость пуда железа могла обойтись казне в 15–20 копеек, местная же цена составляла 40 копеек. В Санкт-Петербурге железо можно было продать по традиционной цене – 60–65 копеек за пуд, а доставка его в столицу обходилась в 15–16 копеек. Несмотря на обещание государственной выгоды, решение Берг-мануфактур-коллегии от 18 марта 1721 года на предложение В. Н. Татищева было негативным:
«Железных заводов вновь до указу строить не велеть, а производить те, кои до сего времяни только были, а паче ж производить ныне и стараться всеми мерами серебряныя, и медныя, и серныя и квасцовыя заводы, которых заводов в России нет, а железных везде довольно, также опасно в том месте железные заводы заводить, чтоб медных заводов дровами не оскудить»6.
Но уже 29 апреля 1722 года в инструкции В. И. Геннину, отправленному на Урал, говорилось о необходимости расширить не только медеплавильное производство, но и железоделатель-ное7. В ноябре 1723 года Берг-коллегия приняла решение: на «сибирских государевых заводах всякого железа... велеть как возможно заготавливать пред прежними годами со умножением». Коллегия выражала надежду, что с течением времени российское железо завоюет «добрую славу», а его экспорт будет приносить большую прибыль казне [11: 138]. В 1719–1723 годах железо стали покупать англичане и итальянцы, торгующие в Санкт-Петербурге, вначале небольшими партиями, осторожно, так как не имели представления о качестве товара. В 1719 году 10 тыс. пудов купил итальянец Д. Мариотти, в 1723-м – 3 тыс. пудов приобрели Д. Мариотти и Д. Бюстелли, столько же – Я. Смалл. Англичанин Г. Эванс закупил в 1722 году 40 тыс. пудов и дожидался поставок с уральских заводов в течение двух лет [4: 264].
18 апреля 1724 года был издан сенатский указ, в котором предписывалось увеличить производство на сибирских казенных заводах железа для отправки на экспорт по образцам, присланным голландским торговым агентом И. П. Любсом (Яном Люпсом), чтобы получить возможность вывозить не только в голландские, но и в другие иностранные порты. И. П. Любс становился откупщиком с правом продажи казенного железа на экспорт. Также Берг-коллегии поручалось заключить договор с Никитой Демидовым, чтобы он «со своих заводов сколько он может поставить железа к отпуску заморскому, то все ставил бы в Санкт-Петербург»8. В соответствии с указом последовала новая инструкция В. И. Генину от 14 июня 1725 года, где среди его обязанностей числилось «для продажи и казенного отпуска за моря железо умножать и сколько возможно тщишься, чтоб делать по образцам Ивана Любса»9.
В 1721–1725 годах себестоимость казенного полосового уральского железа составляла от 13 до 17 копеек. С провозом в Москву и Санкт-Петербург оно стоило 22 копеек за пуд. Продавалось полосовое железо в столицах по 70 копеек, казна принимала железо от Демидова по 60 копеек. По расчетам администрации Демидова, пуд его железа с доставкой в Москву обходился в 25 копеек. Таким образом, торговля железом приносила прибыль как казне, так и частному владельцу [6: 185–186].
Расширение производства железа и увеличение количества заводов поставили вопрос о надзоре за качеством товара. Вполне возможно, что наблюдение за деятельностью шведской Берг-коллегии и информация о клеймении шведского металла также повлияли на появление указа Петра I от 6 апреля 1722 года «О пробе железа, о клеймении оного и о не продаже без клейма»10. Указ сразу же был разослан по заводам. В нем устанавливались следующие виды проб и клейм:
«Первая проба: вкопать круглые столбы толщиной в диаметре по шести вершков в землю так далеко, чтоб оное неподвижно было, и выдолбить в них диры величиною против полос, и в тое диру то железо просунуть, и обвесть кругом того столба трижды, потом назад его от столба отвесть, и ежели не переломится, и знаку переломного не будет, то на нем сверх заводского клейма наклеймить № 1.
Вторая проба: взяв железные полосы бить о наковальню трижды, потом другим концом обратя такожды трижды от всей силы ударить, и которое выдержит, и знаку к перелому не будет, то каждое сверх заводского клейма заклеймить его № 2.
На последнее, которое тех проб не выдержит, ставить сверх заводских клейм № 3. А без клейм полосного железа отнюдь чтоб не продавали».
Таким образом, вводилось три сорта полосового железа. Клеймение железа после проверки его качества, несомненно, должно было оказать влияние на рыночную цену товара и со временем на уровень спроса иностранных покупателей и их отношение к российскому товару. На развитие экспорта железа также был ориентирован Таможенный тариф 1724 года: чугун отпускался с 3 % пошлиной с цены, а прутовое железо, пользовавшееся спросом как внутри страны, так и за ее пределами, облагалось умеренной пошлиной 15 копеек с берковца11.
Существенную проблему для экспорта в 1720-х годах представляла доставка уральского железа к Балтике [10: 104–105]. Товар отправляли весной, когда реки были полноводны, от пристани Чусовой на небольших судах караванами по Каме, Волге и Вышневолоцкому каналу в Санкт-Петербург. Путь занимал 13–18 месяцев и действовал только в период навигации. Крушения судов, которые периодически случались, осложняли и еще больше задерживали доставку железа в столицу. С 1722 года Архангельск перестал участвовать в экспорте железа, так как по распоряжению Петра I торговля беломорского порта ограничивалась товарами из районов, прилегающих к бассейну Северной Двины, при этом особо оговаривались поставки железа только к
Санкт-Петербургу12, что ограничивало развитие внешнеторговых связей России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение истории экспорта российского железа в период правления Петра I показывает, что его организация складывалась постепенно, специально не разрабатывалась и не включалась в число обсуждаемых органами власти вопросов государственной политики. Начало торговли за границу черным металлом было положено голландскими предпринимателями. Голландцы, имевшие большой опыт в продаже российских товаров в Европе, осуществили первые поставки железа из Архангельска в Англию. Благодаря иностранцам как торговым агентам происходило приспособление российского экспорта под запросы иностранных покупателей, совершались экс- портные операции из Санкт-Петербурга. Введение контроля качества товара и распределения железа по сортам появилось в результате царского указа, а не инициативы Берг-коллегии, так как объемы производства железа в то время еще не были столь значительны, чтобы Берг-коллегия самостоятельно обратила внимание на меры, направленные на увеличение сбыта. Данное нововведение можно рассматривать как следование европейским традициям организации металлургического производства. Мониторинг цен европейского рынка и выяснение потребностей заграничных потребителей, ценовая политика в отношении железа и протекционистские таможенные пошлины стали в конце правления Петра I основными проявлениями государственной политики, связанной с организацией экспорта российского железа, доказавшими впоследствии свою эффективность.
Список литературы Организация экспорта железа в России в эпоху Петра I
- Велувенкамп Я. В. Архангельск: нидерландские предприниматели в России, 1550-1785. М.: Росспэн, 2006. 311 с.
- Демкин А. В. Британское купечество в России XVIII века. М.: ИРИ, 1998. 249 с.
- Запарий В. В. Петровская модернизация и металлургия Урала (1700-1725) // Историко-экономические исследования. 2016. № 1. Т. 17. С. 95-140.
- Захаров В. Н. Западноевропейские купцы в России. Эпоха Петра I. М.: Росспэн, 1996. 346 с.
- Козинцева Р. И. Участие казны во внешней торговле России в первой четверти XVIII в. // Исторические записки. Т. 91. М.: Наука, 1973. С. 267-337.