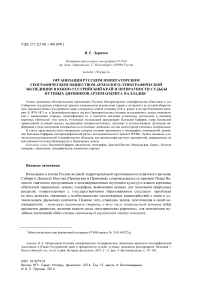Организация Русским Императорским географическим обществом археолого-этнографической экспедиции в Южно-Уссурийский край и превратности судьбы путевых дневников архимандрита Палладия
Автор: Ларичев Виталий Епифанович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обстоятельствам организации Русским Императорским географическим обществом и его Сибирским отделением в Иркутске проекта ознакомления руководства страны с историей и культурой аборигенного населения Южно-Уссурийского края, который во второй половине XIX в. вошел в состав Российской империи. В 1870-1871 гг. в Заханкайском округе (на юге Приморья) велись полевые исследования с целью ознакомления с памятниками старины, идентификации их в контексте сведений летописных источников и описания коренных обитателей этих земель. Руководил экспедицией архимандрит Палладий Кафаров, глава Пекинской православной духовной миссии, выдающийся историк-востоковед, дипломат и путешественник. Детальная информация о ходе экспедиции содержалась в егополевыхдневниках, но они долгое времясчитались потерянными. В статье представлена часть материалов, которые составят приложение к монографии, посвященной дневникам Палладия Кафарова (историографический раздел исследовательского проекта РГНФ). Особое внимание уделяется роли руководителей Географического общества, как организатора научных предприятий, направленных на всестороннее изучение ПриамурскихиПриморских земель.
Палладий кафаров, археология, этнография, дальний восток, маньчжурия, корея, "золотая империя", чжурчжэни, эпиграфические памятники старины
Короткий адрес: https://sciup.org/147219083
IDR: 147219083 | УДК: 271.2(510)
Текст научной статьи Организация Русским Императорским географическим обществом археолого-этнографической экспедиции в Южно-Уссурийский край и превратности судьбы путевых дневников архимандрита Палладия
Вначале экспедиции организовывала Академия наук, а в XIX в. к исследованиям такого направления подключились две кадрово-сильные научные организации, которым покровительствовали самолично высшего ранга правящие персоны государства, что призвано было подчеркнуть исключительную важность их для интересов Отечества – Русское географическое и Русское археологическое общества, нареченные императорскими.
Из периферийных подразделений Русского географического общества главенствующей организационной и научной деятельностью действительных членов отличался Сибирский отдел, учрежденный в Иркутске (городе генерал-губернатора, всесильного правителя восточных земель империи, соседствующих со степными кочевниками Монголии, родовыми владениями цинских правителей Поднебесной – Маньчжурией, а также с Кореей и Японией).
Близость регионального отдела структурам государственного управления краем создавала благоприятную обстановку для научной деятельности не только действительных членов его, но и тех «просвещенных горожан», кто проявлял склонность к исполнению исследовательских программ. А они отличались редкостной для провинции многоплановостью и комплексностью, отчего, видимо, как полтора века назад, так и теперь, в Иркутске в отличие от других сибирских городов престижно быть причастным к исследованиям, тематика которых объединяет словосочетание «Географическое общество», нéкогда не менее значимое, чем «Академия наук». Во второй половине XIX в. ученое сообщество страны не единожды впечатлялось результатами геологических, палеонтологических, биологических, этнологических, историко-культурных и археологических экспедиций, организованных руководством отдела [Черский, 1872] (подробнее см.: [Ларичев, 1969; 2003; Медведев и др., 1997]).
Мысль о столь раннем формировании в Сибири на базе кадров Географического общества первого научного центра, организующего разного рода исследовательские проекты, подтверждает внимание губернаторов, служб внешних сношений администрации края к проблемам, связанным с взаимоотношениями с государствами Востока. Управленцы Восточной Сибири высшего звена были осведомлены в общем плане об историческом прошлом Центральной и Восточной Азии. Сведения они черпали, прежде всего, в работах членов Пекинской Православной миссии, которым вменялись в обязанность изучение китайского и маньчжурского языков и переводы источников [Бичурин, 1828а, 1828б; 1829; 1833; 1840; 1842; 1848; 1851; Горский, 1852а, 1852б; Кафаров, 1866а, 1866б; Храповицкий, 1857]. В стенах «Подворья» миссии осваивал древнекитайский язык и знакомился с историческими источниками империи В. П. Васильев, в последующем первый китаевед в статусе действительного члена Академии наук. В начале второй половины XIX в. он опубликовал несколько сочинений обзорного характера, посвященных истории народов Дальнего Востока, Монголии и Китая [Васильев, 1857а, 1857б; 1859]. Его хорошо знали в Иркутске, и потому не случайно председатель Главного управления Восточной Сибири Н. П. Игнатьев отправил в 1868 г. в Санкт-Петербургский университет М. Н. Суровцева, выпускника Иркутской классической гимназии (см.: [Пиков, 2002; 2007]). Руководителем его на факультете восточных языков «по маньчжурско-китайскому разряду» стал В. П. Васильев, а результатом учебы – блестящий диплом, который теперь мог бы, пожалуй, защищаться как диссертация истинно докторского статуса [Суровцев, 2007], не сравнимая с образцами «докторских» поделок затейников перестройки России. М. Н. Суровцев продолжил исследования Н. Я. Бичурина 1, Г. М. Розова 2, П. И. Каменского 3 и А. П. Владыкина 4 по истории национальных государственных образований на восточной, северной и западной окраинах Поднебесной (т. е. вне исторических границ ее).
Обстоятельства включения в план научных исследований Русского географического общества проекта изучения истории и народонаселения
Южно-Уссурийского края
Вхождение в пределы России юго-восточных земель Дальнего Востока сопровождалось энергичными мерами и по переселению крестьян из европейских губерний страны. Край был почти безлюдным и выглядел заброшенным то ли из-за трудностей обитания в нем, то ли кем-то целенаправленно опустошенным в былые времена. Поэтому освоение его проходило без конфликтных осложнений, обычных для таких процессов.
Тогда же регион стал местом приложения знаний и сил топографов, геологов и географов, которые первопроходчески знакомились с природой края и его ресурсами; чиновников-администраторов; военных, призванных обустраивать гарнизонные городки и границы с Китаем и Кореей; дипломатов, политиков, общественных деятелей и путешественников. Среди тех, кто осваивал новообретенный край или посещал его на короткое время, с самого начала оказались любители древностей. Они первыми обнаружили и, как могли, оценили памятники старины, неведомые ранее европейской науке. Но возникали вопросы: кто прежде обитал в крае; когда и почему он обезлюдел; от кого намеревались защищаться строители крепостей и прикрывающих границы стен?
Знакомство с памятниками древности и освещение их в печати восходят к рубежу 1850– 1860-х гг. Они отличались, большей частью, поверхностным описательством, а также скудностью и неопределенностью привязки к известным эпохам и народам. Чтобы убедиться в том, представим ниже три характерных текста.
Так, Н. М. Пржевальский, совершивший поездку по Приамурью и Приморью в 18671869 гг., свидетельствовал: « Вблизи деревни Никольской находятся замечательные остатки двух старинных земляных укреплений… Первое из этих укреплений лежит верстах в трех от деревни и представляет правильный четырехугольник, бока которого расположены по странам света. Каждый из боков имеет около версты длины и состоит из земляного вала, сажени две с половиной вышины со рвом впереди… Сверх того, в саженях пятидесяти впереди южного бока устроен небольшой квадрат для боковой обороны. Другое укрепление лежит в полуверсте от деревни. Внутри его находится много небольших возвышенностей, вроде курганов, на которых иногда лежат остатки кирпичей, а в одном месте стоят две каменные плиты с несколькими проделанными в них отверстиями. В самой деревне стоят найденные в лесу два каменных грубых изображения каких-то животных, величиной с большую собаку...» [1937. С. 67].
А вот текст И. А. Лопатина (посетил край в начале 1860-х гг.): « Северо-Западный конец описываемого мною края огибается р. Суйфуном… В этом месте… можно встретить остатки старинных земляных укреплений, которые тянутся на несколько верст сряду. Укрепления эти состоят из валов… окруженных рвами. <…> На небольшом кургано-подобном бугре, вероятно могильной насыпи, лежит высеченное из камня изображение черепахи... Щиты черепахи и голова ясно сохранились. Невдалеке от этого изваяния лежит продолговатая каменная плита, на которой высечено что-то вроде щита, поддерживаемого двумя зверями. <…> Все эти остатки древности доказывают существование некогда в этом крае населения довольно значительного» [1864. С. 182–184].
Еще один исследователь, М. И. Венюков, путешествовал по краю в 1857–1859 гг. Он писал: « От устья Добиху к юго-востоку мы вступили в страну, по которой изредка виднеются следы высшей образованности и большой населенности края. Я говорю здесь о развалинах старинных городов и укреплений, которые встречаются местами по Уссури между 44º и 45º широты. Эти < балапти-хотон > (старые города), вероятно, принадлежат к первым временам династии Гинь (Цзинь, Золотая империя. - В . Л .) или Нючжэнь (чжурчжени. - В . Л .), т. е. к XII столетию... Быть может, что династия Гиней опасалась здесь соседства приамурских мэнгу, вероятных предков нынешних мангун… Во всяком случае, несомненно, что под защитою земляных укреплений существовали обширные города…» [1970. С. 117].
Все эти историко-культурные факты постепенно накапливались с началом второй половины XIX в. и не могли оставаться вне внимания не только Географического и Археологического обществ столицы, но и высших государственных структур, в первую очередь Азиатского департамента МИДа. Если научное сообщество беспокоила сохранность обнаруженных памятников древности в связи с расширением хозяйственной деятельности, а также их квалифицированное описание и оценка исторической значимости, то дипломатические ведомства волновало иное. Переговоры посреднической делегации России во главе с Е. В. Путятиным и представителями правительства империи Цин, с одной стороны, и делегациями Англии и Франции, одержимыми агрессивной воинственностью в отношении Китая, – с другой, обозначили сложности решения вопроса о прохождении российской границы в Заханкайском округе Южно-Уссурийского края. К неприятному обороту дел в переговорах с правителями Цин следовало готовиться загодя, что поставило на очередь дня проведение на юге приморских земель экспедиционных исследований историков и этнографов.
Выбор и назначение руководителя экспедиции,меры содействия успешному ее проведению
Практическое решение задачи по организации экспедиции обязано энергичным усилиям барона Федора Романовича Остен-Сакена, видного государственного деятеля, склонного к занятиям наукой. Он многие годы состоял на службе в Азиатском департаменте МИД, был членом посольства Е. В. Путятина в 1857–1858 гг. и участвовал в нелегких переговорах с цинскими и западноевропейскими дипломатами. В 1865 г. ему доверили должность секретаря Географического общества, что превратило в реальность проект финансирования и осуществления первой дальневосточной экспедиции по изучению истории Южно-Уссурийского края. Идея о том была близка интересам Ф. Р. Остен-Сакена как государственника. Он, видимо, обсуждал детали проведения ее и программу работ с близкими руководству членами общества М. И. Венюковым и П. А. Гельмерсеном, которые неоднократно путешествовали по Приамурью и Приморью, а быть может, советовался о том же с Н. М. Пржевальским и В. П. Васильевым.
Не удивительно, что вопрос о руководителе проекта решился на первом же заседании Совета, когда в повестку дня включили вопрос об организации экспедиции – помимо Палладия Кафарова не было иной идеально подходящей кандидатуры. Его Ф. Р. Остен-Сакен знал лично как безупречной репутации деятеля государственных структур, от которых зависело одобрение плана организации поездки в Южно-Уссурийский край с научной целью – Министерства иностранных дел, Священного синода и губернских учреждений Иркутска, откуда осуществлялось управление Восточной Сибирью и Дальним Востоком [Крыжановский, 1914; Ларичев, 1973; Тагаров, 1970]. П. А. Гельмерсен, как и М. И. Венюков, контактировал с П. Кафаровым при поездках на Восток в 1865 и 1869 гг. и отзывался о нем как о человеке «очень просвещенном и дельном» 5. Значителен был авторитет его в Священном синоде как высокого класса духовника, талантливого организатора многосторонней (в том числе научной) деятельности членов Пекинской миссии «для службы правительству», выдающегося знатока Китая и просто как безукоризненных нравственных качеств человека, что подтверждало включение его в состав миссии 1840–1849 гг., а затем руководство ею в течение более двух десятилетий (1850–1859 и 1864–1878 гг.). Он плодотворно взаимодействовал в качестве консультанта и переводчика с посланниками России в Китае А. Г. Влагали и Е. К. Бюцовым, с консулом К. А. Скачковым в Тяньцзине и Шанхае, а во время переговоров с правительством Цин по вопросам пограничного размежевания в Приамурско-Приморском регионе – с Е. В. Путятиным в 1858 г. и Н. П. Игнатьевым в 1860 г., когда заключались благоприятные для России Айгунский и Пекинский договоры.
П. Кафарову предложили возглавить экспедицию с учетом еще одного важного обстоятельства: в 1865 г. он стал по представлению Ф. Р. Остен-Сакена членом-корреспондентом
Географического общества, а диплом о том ему вручили в Иркутске руководители Сибирского отдела. Весьма ценимое в научных кругах России ученое звание архимандрит получил и как удачливо-терпеливый путешественник (тысячекилометровые, полные трудностей проезды из Петербурга в Пекин через Монголию в 1839, 1840, 1864, 1865 гг. и обратно через Монголию в 1847, 1859 гг.), и как автор опубликованных позже «Дорожных заметок на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг.», которые содержали уникальной ценности сведения по истории, географии и этнографии восточных областей Центральной Азии [Кафаров, 1892], и как создатель фундаментальных трудов по истории Монголии и Китая [Кафаров, 1866а; 1866б; 1867; 1872].
Получив от П. Кафарова согласие возглавить экспедицию, Ф. Р. Остен-Сакен направил письмо в Священный синод, которому архимандрит подчинялся по службе, с ходатайством позволить ему выехать на год в Заханкайский округ для проведения археологоэтнографических исследований. В обращении подчеркивалось, что именно он, как никто другой, может обеспечить «обильные результаты» задуманного Советом научного предприятия. Синод не возражал и, в свою очередь, запросил Министерство иностранных дел о возможности разрешить П. Кафарову оставить служебный пост на столь долгий срок. Положительный ответ незамедлительно последовал и сопровождался лестной характеристикой главы Пекинской миссии как усердного исполнителя сложных дипломатических заданий Азиатского департамента на протяжении десятилетий. Тогда же посланник Е. К. Бюцов отправил в Иркутск письмо генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову с просьбой откомандировать в Пекин топографа Гавриила Нахвальных с заданием передать в Пекине П. Ка-фарову часть денег, выделенных Советом Географического общества на нужды экспедиции (2 000 руб. золотом), и сопровождать его в пути на территории Китая, Монголии и далее по землям Приамурья и Южно-Уссурийского края, где предполагалось проведение стационарных археолого-этнографических изысканий.
Чтобы архимандрит смог быстрее войти в курс проблем, которые предстояло решать при путешествии, Совет Географического общества рекомендовал Восточно-Сибирскому отделу отправить ему литературу с полезными сведениями. Помимо того, В. П. Васильев, П. И. Гельмерсен и Н. И. Захаров выслали «письма-инструкции», в которых содержались советы по организации работ экспедиции в поле и возможностей увязывания результатов их с письменными источниками соответствующих эпох истории Кореи и Китая. В части западноевропейской литературы предлагалось обратиться к библиотеке консула К. А. Скачкова, усердного собирателя европейских и местных изданий по исторической тематике. У него могли быть тома книги иезуита Ж. Б. дю Гальда «Описание Китая и китайской Татарии» с картой Маньчжурии Ж. Б. д’Анвиля, составленной на основании сочинения «Шуй дао тиган», посвященного Уссури; тома сочинения Н. Витсена, изданного в Амстердаме в 1692 г. (см. перевод: [Витсен, 2010]), сведения которого использовал в свое время и Н. Г. Спафарий.
Согласование маршрута экспедиции,публикация предварительных итогов исследований
К весне 1870 г. все организационные формальности были завершены, и Совет Географического общества обратился к М. С. Корсакову с просьбой о содействии восточносибирских и дальневосточных властей в проезде экспедиции по Приамурью и Приморью. 30 апреля три телеги экспедиции выехали из Пекина и направились в сторону Мукдена, чтобы следовать далее по маршруту Гирин – Цицикар – Мэргэнь – Айхун к участку правобережья Амура, ближайшему к Благовещенску [Кафаров, 1871].
П. Кафаров скрупулезно выполнил главное условие Совета Географического общества – оперативно, посредством писем, информировать ученое сообщество о результатах путешествия. В периодическом издании «Известия Русского Императорского Географического общества» регулярно публиковались сообщения о работе экспедиции. В последнем письме, написанном 13 октября 1872 г., П. Кафаров сообщал Географическому обществу, что занят проверкой и пояснением вывозимых из путешествия данных с помощью источников и пособий, чтобы затем привести в порядок собранные сведения. В том же письме он сообщал, что дневник («журнал») от Благовещенска до Владивостока будет представлять собой историческую часть отчета.
Памятники истории долины Амура и Южно-Уссурийского края, которые привлекли его внимание и были кратко оценены, заслуживают подробного описания в другой публикации в свете результатов исследования их в XX в. Географическое общество высоко оценило результаты экспедиции П. Кафарова. По представлению М. И. Венюкова ему присудили Малую золотую медаль. Смерть, внезапно случившаяся при возвращении в Россию морем, исключила написание задуманного П. Кафаровым труда. Географическое общество не получило также «Записок» с разъясненными впечатлениями и сведениями, собранными во время путешествия по Амуру и Уссури. Создавалось впечатление, что он не переслал дневники в Географическое общество. Вскоре распространился, а затем стал господствующим слух, что «Дневники», как и остальные материалы, потерялись. В. П. Панов, редактор газеты «Дальний Восток», высказывая досаду, что П. Кафаров не успел завершить задуманное, высоко оценивал значение его исследований в Приморье: «Богатство сведений и подготовка покойного синолога по письменным источникам были так велики, что даже эти обрывки трудов для каждого изучающего историю могут служить как первоисточники…» [1898].
«Дневники» Палладия Кафарова –потерянные и вновь обретенные
На протяжении более полувека археологи России сожалели об утрате бесценного источника, связанного с историей изучения прошлого Приморья. В середине XX в. сложилась благоприятная обстановка для продолжения исследований, начатых почти столетие назад по инициативе Географического общества. Они стали программными в изысканиях Дальневосточной археологической экспедиции АН СССР, своего рода наследницы Южно-Уссурийской экспедиции архимандрита Палладия как в части решения проблем историко-культурных, так и далеких от задач науки – политических, связанных с отношениями с Китаем, Кореей и Японией после окончания Второй мировой войны.
Полевые работы, в орбиту планов которых входило продолжение изучения памятников, обследованных П. Кафаровым, сопровождались поисками в книжных, газетных и архивных хранилищах Ленинграда, Хабаровска и Владивостока с целью отыскания документов, связанных с его экспедицией. Они приводили порой к неожиданным удачам. Наиболее значительным стало обнаружение потерянных дневников и установление обстоятельств, связанных с попытками ввести их в научный оборот. Выяснилось, что П. Кафаров, преодолевая недомогание, исполнил свой долг: в 1873 г. выслал в Географическое общество переработанный вариант дневника, а черновик его нашел в архиве «Подворья» миссии иеромонах Николай (Адоратский), историограф Пекинской миссии, переписал и в 1886 г. передал Географическому обществу. Далее последовала череда досадных недоразумений, связанных с неточностями документирования и неоднократными попытками опубликовать дневники (подробнее см.: [Ларичев, 1966; 1973]).
Подведение итогов
Близится полуторавековой юбилей путешествия Палладия Кафарова в Заханкайский округ Южно-Уссурийского края. Экспедиция его воспринимается теперь знаковым событием . Именно она положила начало становлению новой отрасли истории русского Дальнего Востока – археологического востоковедения, требующего профессионализма в знании письменных источников стран зарубежного Востока и умения изучать (раскапывать) памятники материальной культуры. Архимандрит Палладий дал первый мастер-класс действий на столь нелегкой стезе своим нынешним последователям. Им же предстоит в ближайшие годы ввести в научный оборот не фрагменты «Дорожных записок» (см.: [Панов, 1898; Ларичев, 1973; Хохлов, 1979а; 1979б]), а представить их в полном, без каких-либо изъятий объеме.
Список литературы Организация Русским Императорским географическим обществом археолого-этнографической экспедиции в Южно-Уссурийский край и превратности судьбы путевых дневников архимандрита Палладия
- Записки о Монголии, сочиненные монахом Иакинфом. СПб.: Тип. Карла Крайя, 1828а. Т. 1. 230 с.; Т. 2. 339 с.
- Описание Тибета в его нынешнем состоянии/Пер. с кит. СПб.: Тип. Имп. воспитательного дома, 1828б. 223 с.
- История первых четырех ханов из дома Чингисова/Пер. с кит. монахом Иакинфом. СПб.: Тип. Карла Крайя, 1829. 440 с.
- История Тибета и Хухунора с 2282 года до Р.Х. по 1227 год по Р. Х./Пер. с кит. монахом Иакинфом Бичуриным. СПб.: Тип. Имп. АН, 1833. Ч. 1. 289 с.; Ч. 2. 268 с.
- Китай, его жители, нравы, обычаи, просвещение: Соч. монаха Иакинфа. СПб.: Тип. Имп. АН, 1840. 442 с.
- Статистическое описание Китайской империи в двух частях. СПб.: Тип. Эдуарда Праца, 1842. Ч. 1-2. 278 и 339 с.
- Китай в гражданском и нравственном состоянии: Соч. монаха Иакинфа: В 4 ч. СПб.: Тип. военно-учеб. заведений, 1848. 600 с.
- Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена в трех частях: Соч. монаха Иакинфа. СПб.: Тип. военно-учеб. заведений, 1851. Ч. 1. 484 с.; Ч. 2. 179 с.; Ч. 3. 273 с.
- Васильев В. П. История и древности восточной части Средней Азии от X до XIII века, с приложением перевода китайских известий о киданях, чжурчженях и монголо-татарах. СПб.: Тип. Имп. АН, 1857а. 234 с.
- Васильев В. П. Описание Маньчжурии//Зап. Имп. Рус. геогр. об-ва. СПб., 1857б. Кн. 12. С. 1-78.
- Васильев В. П. Сведения о маньчжурах во времена китайских династий Юань и Мин. СПб.: [Б. и.], 1859. С. 83-157. (Отд. оттиск из: Годичного акта Санкт-Петербургского университета за 1858 г. СПб., 1859).
- Венюков М. И. Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии. Хабаровск: Кн. изд-во, 1970. 236 с.
- Витсен Н. Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии: В 3 т./Пер. с гол. В. Г. Трисман; ред. Н. П. Копанева, Б. Наарден. Амстердам: Pegasus, 2010. Т. 1.
- Витсен Н. Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии: В 3 т./Пер. с гол. В. Г. Трисман; ред. Н. П. Копанева, Б. Наарден. Амстердам: Pegasus, 2010. Т. 2. 1225 с.
- Витсен Н. Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии: В 3 т./Пер. с гол. В. Г. Трисман; ред. Н. П. Копанева, Б. Наарден. Амстердам: Pegasus, 2010. Т. 3. 579 c.
- Горский В. Начало и первые дела Маньчжурского дома//Тр. членов Рос. духовной миссии в Пекине. СПб., 1852а. Т. 1. С. 1-187.
- Горский В. О происхождении родоначальника ныне царствующей в Китае династии Цин и имени народа маньчжу//Тр. членов Рос. духовной миссии в Пекине. СПб., 1852б. Т. 1. С. 189-244.
- Старинное Монгольское сказание о Чингис-хане/Пер. с кит., с примеч. архимандрита Палладия//Тр. членов Рос. духовной миссии в Пекине. СПб., 1866а. Т. 4. С. 1-258.
- Описание путешествия даосского монаха Чан-чуня на Запад (Си-ю-цзи, или Описание путешествия на запад)/Пер. с кит., с примеч. архимандрита Палладия//Тр. членов Рос. духовной миссии в Пекине. СПб., 1866б. Т. 4. С. 259-434.
- Путевые записки китайца Джан-дэ-хой во время путешествия его в Монголию в первой половине XIII столетия/О. Палладий//Зап. Сиб. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва. 1867. Кн. IX-X. С. 582-591.
- Дорожные заметки на пути от Пекина до Благовещенска через Маньчжурию в 1870 г./Архимандрита Палладия//Зап. Имп. Рус. геогр. об-ва: по общ. геогр. 1871. Т. 4. С. 329-463.
- Старинное китайское сказание о Чингис-хане Шэн-ву-цин-чжен-лу. Описание личных походов священно-воинственного/Пер. с предисл. и примеч. архим. Палладия//Вост. сб. 1872. Т. 1, вып. 1. С. 149-202.
- Дорожные заметки на пути по Монголии в 1847 и 1859 гг. архимандрита Палладия, с введением доктора Э. В. Бретшнейдера и замечаниями проф. чл.-сотр. А. М. Позднеева//Зап. Имп. Рус. геогр. об-ва по общ. геогр. СПб., 1892. Т. 22, вып. 1. 238 с.
- Крыжановский В. Переписка начальника Пекинской духовной миссии архимандрита Палладия Кафарова с генерал-губернатором Восточной Сибири графом Н. Н. МуравьевымАмурским//Рус. архив. 1914. № 8. С. 492-512; № 9. С. 5-32; № 10. С. 155-206.
- Ларичев В. Е. Потерянные дневники Палладии Кафарова (новые материалы к истории археологии русского Дальнего Востока)//Изв. СО АН СССР. Серия обществен. наук. 1966. № 1, вып. 1. С. 114-122.
- Ларичев В. Е. Тайна каменной черепахи. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968. 251 с.
- Ларичев В. Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Новосибирск: Наука, 1969. Ч. 1. 388 с.
- Ларичев В. Е. Путешествие в страну восточных иноземцев. Новосибирск: Наука, 1973. 339 с.
- Ларичев В. Е. От редактора//История Золотой империи/Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 1998. С. 5-9.
- Ларичев В. Е. «Преждевременное открытие» (к юбилею начала изучения древнекаменного века Сибири)//Древние культуры Северо-Восточной Азии: Астроархеология. Палеоинформатика. Новосибирск, 2003. С. 162-187.
- Ларичев В. Е. Цинский проект: краткий обзор летописных источников по средневековой Маньчжурии и ранний этап их изучения//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2009. Т. 8, вып. 4: Востоковедение. С. 59-66.
- Ларичев В. Е., Пиков Г. Г., Тюрюмина Л. В. Киданьский проект//Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Филология. 2002. № 4. С. 102-106.
- Ларичев В. Е., Пиков Г. Г., Тюрюмина Л. В. Архимандрит Петр (Каменский) как один из пионеров монголоведения//Сибирь на перекрестье мировых религий: Материалы III Межрегион. конф. Новосибирск, 2006. С. 281-292.
- Лопатин И. Обзор южной части Приморской области Восточной Сибири за рекой Суйфуном//Зап. Сиб. отд-ние Имп. Рус. геогр. об-ва, 1864. Т. 7. С. 166-206.
- Медведев Г. И., Генералов А. Г., Семин М. Ю., Ребриков П. Н., Заграфский С. И. Палеолитическое местонахождение Военный госпиталь в Иркутске: былые заслуги -новые проблемы//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 1997. Т. 3. С. 114-116.
- Мясников В. С. Русский маньчжуровед Г. М. Розов//История Золотой империи/Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 1998. С. 28-33.
- Панов В. Материалы к древней истории Приамурского края: археологические изыскания архимандрита Палладия 1870-1871 гг.//Дальний Восток (г. Владивосток). 1898. № 3 и 4.
- Пиков Г. Г. Историологические взгляды М. Н. Суровцева//История и культура Востока Азии: Материалы Междунар. конф. Новосибирск, 2002. Т. 1. С. 52-60.
- Пиков Г. Г. Храповицкий М. Д. и Суровцев М. Н.: страницы биографии//История Железной империи/Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 2007. С. 178-194.
- Пржевальский Н. М. Путешествие в Уссурийском крае, 1867-1869. М.: Соцэкгиз, 1937. 319 с.
- Розов Г. М. История дома Цзинь, царствовавшего с 1114 по 1233 годы//История Золотой империи/Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 1998. С. 88-284.
- Суровцев М. Н. О владычестве киданей в Средней Азии: историко-политический обзор деятельности киданей от начальных известий о появлении народа и основания ими династии Ляо -до падения сей последней на Западе//История Железной империи/Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 2007. С. 195-310.
- Тагаров З. Три письма П. И. Кафарова (Палладия)//Тр. Бурят. ин-та обществен. наук БФ СО РАН СССР. Серия: Востоковедение. 1970. Вып. 12. С. 134-137.
- Хохлов А. Н. П. И. Каменский и его труды по истории Китая//Конф. аспирантов и молодых науч. сотр. Ин-та востоковедения АН СССР. М., 1970. С. 139-140.
- Хохлов А. Н. Новые материалы о путешествии П. И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870-1871 гг.//П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. М., 1979а. Ч. 3. С. 101-111.
- Хохлов А. Н. Из журнала путешествия П. И. Кафарова (июнь 1870 -май 1871)//П. И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. М., 1979б. Ч. 3. С. 112-128.
- Храповицкий М. Д. События в Пекине при падении Минской династии//Тр. членов Рос. духовной миссии в Пекине. СПб., 1857. Т. 3. С. 1-102.
- Черский И. Д. Несколько слов о вырытых в Иркутске изделиях каменного периода//Изв. Сиб. отд. Имп. Рус. геогр. об-ва, 1872. Т. 3. С. 167-172.