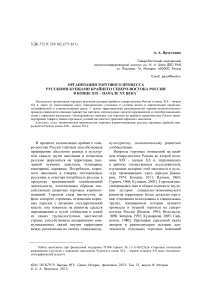Организация торгового процесса русскими купцами крайнего северо-востока России в конце XIX – начале XX века
Автор: Ярзуткина Анастасия Алексеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Исследуется организация торговли русскими купцами крайнего северо-востока России в конце XIX – начале XX в. через их повседневный опыт, поведенческие установки и условия жизни в определенной природно-географической и социокультурной среде. С целью характеристики разновидностей торгово-технологического процесса приводится описание маршрутов торговли, используемых средств передвижения и способов взаимодействия с коренным населением. Подчеркивается значение для торговли на крайнем северовостоке России транспортировки товара и знания торговцем условий местности и традиций коренного населения.
Экономическая антропология, торговые взаимоотношения, русские торговцы, крайний северо-восток России, конец xix - начало xx в.
Короткий адрес: https://sciup.org/147218917
IDR: 147218917 | УДК: 572.9:
Текст научной статьи Организация торгового процесса русскими купцами крайнего северо-востока России в конце XIX – начале XX века
В процессе колонизации крайнего северо-востока России торговля способствовала примирению абсолютно разных в культурном смысле групп населения и позволила русским закрепиться на территории, заселенной чукчами, ламутами, чуванцами, юкагирами, коряками. Потребность коренного населения в товарах, поставляемых русскими, и ответная потребность русских в продуктах традиционной хозяйственной деятельности, естественным образом способствовали развитию торговых взаимоотношений. Торговля стала институтом, на фоне которого строились отношения коренных народов с органами государственной власти, она повлияла на развитие средств передвижения и путей сообщения в одной из самых труднодоступных местностей страны, способствовала налаживанию коммуникативных связей внутри территории между различными по своему социальному, культурному, экономическому развитию сообществами.
Вопросы торговых отношений на крайнем северо-востоке России во второй половине XIX – начале XX в. затрагивались в работах отечественных исследователей, изучавших историю этой местности и культуру проживающих здесь народов [Башарин, 1974; Богораз, 2011; Вдовин, 1965; Гурвич, 1966; Куликов, 2002]. Торговля рассматривалась ими в общем контексте изучения истории социально-экономического развития территории. Более детально торговые отношения исследованы в специальных трудах, посвященных истории пушного промысла и пушной торговли на северо-востоке России [Исаков, 1994; Иохельсон, 1898; Захаров, 1995; Кушнарева, 2005; Сафронов, 1980]. Признавая серьезный вклад авторов в реконструкцию истории деятельности отдельных торговых компаний и крупных купцов, специфики обменных операций, структуры спроса и предложения, цен на пушнину и промышленные товары, оценку объемов приобретаемой пушнины и эквивалентности обменов, а также в разработку вопросов нормативно-правового регулирования пушной торговли, необходимо отметить, что используемые ими подходы не позволили рассмотреть процесс организации торговли как экономической системы, имевшей географическое выражение и социокультурные особенности.
В этой связи исследование параметров торговых взаимоотношений, развивавшихся в наиболее отдаленной части России между различными группами населения в конце XIX – начале XX в., с учетом пространственных вариаций и особенностей коммуникации является, на наш взгляд, актуальным.
В данной статье мы изучим процесс организации торговли как социокультурный феномен, сложившийся в конкретных условиях и у конкретной группы населения. Основные сведения, используемые в работе, были получены из отчетов, воспоминаний, путевых записок российских чиновников, ссыльных и путешественников, посетивших либо некоторое время проживавших на крайнем северо-востоке России во второй половине XIX – начале XX в. и имевших возможность непосредственно наблюдать за торговыми операциями или даже принимать в них участие. Репрезентативность указанных источников обеспечивалась их сравнительным анализом, а также сопоставлением со сведениями, содержащимися в архивных документах (РГИА, фонд 23 – Министерство торговли, промышленности и др.) и специальных работах по истории и этнографии северо-востока России. Особый антропологический ракурс предлагаемого исследования позволил рассматривать описания современников в качестве этнографического источника, полученного методом включенного или непосредственного наблюдения.
Территория исследования ограничивается крайним северо-востоком России. Так как для процесса организации торговли в этом регионе условия местности имели серьезное значение, кратко обозначим границы, в рамках которых происходили торговые взаимоотношения. Это Анадырский и Гижигин-ский уезды (округа) Приморской области Приамурского генерал-губернаторства в ад- министративных границах с 1884 по 1909 г. (т. е. вся территория Чукотки и часть Камчатки); Верхоянский и Колымский округа Якутской области Иркутского генерал-губернаторства в административных границах с 1887 по 1917 г. (т. е. северо-восток Якутии). Данная территория, лежащая в треугольнике Среднеколымск – Гижигинск – Марково, по мнению авторов монографии «Русские старожилы Сибири», представляла в прошлом единство. Между разными точками этой местности существовали устойчивые связи [Вахтин и др., 2004. С. 28–32]. Границей избранной территории на северо-востоке до конца XIX в. была р. Анадырь, на юго-западе – р. Пенжина, на западе – реки Гижига, Омолон и Колыма [Там же. С. 29].
Исследуемый в настоящей работе микросоциум, выделенный нами по общности рода занятий и этнокультурным стереотипам, был обозначен как «русские купцы» или «русские торговцы». Термин «русские» для крайнего северо-востока России являлся весьма условным. «Русские» здесь представляли собой местнорусских, смешанные группы между пришедшими сюда русскими и коренным населением. Важнейшими факторами идентификации этих «русских» была местность, где они проживали, и целая серия культурных маркеров. Для жителей Марково, Гижигинска, Нижнеколымска и Среднеколымска этноразличительным признаком была территория [Там же. С. 154– 155], а потому в источниках русское старожильческое население этих поселений именуется «марковцами», «гижигинцами», «анадырцами», «колымчанами». Подобная поселенческая идентичность перенеслась и на социально-профессиональные группы.
Разделение русских торговцев крайнего северо-востока России на «марковских», «гижигинских», «колымских», «якутских» купцов указывало не только на принадлежность к определенному поселению или местности, но и на соотнесенность с определенной локальной культурой того или иного поселения. Также территориальная идентичность торговца указывала на возможности применения форм торговли, территорию охвата потребителей, используемые средства передвижения, путь и время торговых сообщений.
Для большинства русских, проживавших здесь, торговля с коренным населением бы- ла дополнительным источником дохода. Именно поэтому достаточно сложно четко обозначить границы исследуемого микросоциума. Посредническая торговля на крайнем северо-востоке имела самые различные вариации. В источниках, в отношении к торгующим, кроме соционима «купец», употреблялись также: «приказчик», «агент», «скупщик», «доверенный», «кулак», «подводчик», «кладьевщик». Количество разновидностей торгующего населения, а также различие в терминологии не позволяют свести в систему все упоминаемые категории торговцев. Мы отнесли к сообществу торговцев и купцов 1 лиц, регулярно занимавшихся торговлей, имевших мотив – получение прибыли и для этого установивших контакт с коренным населением, а также связанных с территорией – отправной точкой развозного торга. Характеризуя процесс организации торговли, мы учитывали, что он во многом зависел от индивидуальных особенностей торговца.
Крупные торговые фирмы на северо-востоке России в конце XIX – начале XX в. базировались в Якутске, Казачьем, Булуне 2, Гижигинске [Кеннан, 1896. С. 311; Олсуфьев, 1896. С. 150]. В других населенных пунктах интересующей нас территории действовали самостоятельные торговцы, получавшие товар либо напрямую у торговых фирм, либо через посредничество других торговцев. Организация торговли последних представляла собой комплексный процесс приобретения, доставки, хранения и обмена товара, имела территориальную специфику и зависела в каждом отдельном случае от ряда факторов (отдаленности мест получения товара, наличия средств передвижения).
В рыночной экономике из процесса организации коммерческой деятельности выделяют функции торгового (закупка, продажа, перепродажа) и технологического (поставка, доставка, хранение) характера. Первые связаны с осуществлением процесса купли-продажи, вторые – с движением то- вара и продолжением процесса производства в сфере обращения [Денисова, 2011. С. 21–22]. На крайнем северо-востоке России процесс организации торговли усложнялся меновым характером торговых операций. Другими словами, торговцам необходимо было после реализации товара реализовать еще и продукт, полученный в результате обмена.
Промышленные товары, такие как железные и медные котлы, фаянсовая посуда, холст, ситцевые платки, инструменты, оружие, а также продукты питания – чай, сахар, мука, табак, на территорию крайнего северо-востока России попадали из центральных районов страны. Они завозились в доступные в транспортном отношении населенные пункты торговыми фирмами, располагающими для этого капиталом [Исаков, 1994; Захаров, 1995; Кушнарева, 2005]. Далее товар развозился торговцами по другим поселениям, а уже оттуда попадал в стойбища коренных жителей. Например, в Гижигинск, снабжавший часть Анадырского уезда, промышленные товары доставлялись в период навигации морским путем на пароходах, зафрахтованных правительством 3 и торговыми компаниями 4. Товар доставлялся из Америки и Владивостока. В 1895 г. в устье Пенжины к с. Каменское стала приходить паровая шхуна «Сибирь», принадлежащая владивостокскому купцу [Слюнин, 1900. С. 667]. В год пребывания в Гижигинске Г. Кеннана (1867 г.), туда для отгрузки товара прибыл торговый бриг «Hallie Jakcson», принадлежащий В. Б. Бордмэну из Бостона [Кеннан, 1896. С. 321].
В Якутск и Булун – основные точки снабжения Колымского и Верхоянского округов, товар поступал в июне, проделав до этого путь в 6–7 месяцев из Москвы, вначале по Сибирской железной дороге на перевалочные станции Тулун, Куйтун, Ты-реть, Залари, Иркутск, далее по санному пути в порты Лены (Усть-Кут, Жигалово, Качуг), на которых товары дожидались навигации, и затем в мае сплавлялись в населенные пункты северо-востока [Захаров, 1995. С. 59; Кушнарева, 2005. С. 94].
Таким образом, важными этапами в процессе организации торговли были получение купцом промышленного товара у посредника и его доставка для последующего обмена. Марковские торговцы ездили за товаром в Гижигинск и с. Каменское в устье Пенжины в начале октября и марте на 3–7 дней [Майдель, 1894. С. 222; Олсуфьев, 1896. С. 153]. По сведению А. В. Олсуфьева, в 1894 г. из Марково в Гижигинск с 11 марта по 24 апреля ездили 8 собачьих нарт за товаром, с 11 октября по 14 декабря – 30 нарт [1896. С. 156]. Одновременно в Ги-жигинск увозились продукты промысла, обмененные ранее на товар у коренных жителей.
Колымские торговцы ожидали привоза товара в Верхоянск и Колымск якутскими купцами из Якутска или Булуна по санному пути и отоваривались у них. В Нижнеко-лымск товар привозился в октябре-ноябре торговцами из Среднеколымска, весной – приезжавшими на Анюйскую ярмарку якутскими и булунскими купцами [Майдель, 1894. С. 385–386; Дионео, 1895. С. 99].
Отдельные торговцы осуществляли попытки доставки товара в Среднеколымск из Гижигинска [Иохельсон, 1898. С. 129; Зонов, 1931. С. 79] и в Марково с поста Ново-Мариинского [Олсуфьев, 1896. С. 163; Широков, 1968. С. 18]. С 1911 г. стали осуществляться ежегодные рейсы Добровольного флота из Владивостока к устью Колымы, и соответственно появился дополнительный и более выгодный путь поступления промышленного товара в Колымский округ [Бянкин, 1978].
Важность обеспечения отдельных населенных пунктов промышленными товарами и посещения их купцами определялась также тем, что туда ежегодно съезжались коренные жители для совершения обмена. Например, к с. Марково в середине декабря прикочевывали чукчи-оленеводы и в течение двух недель вели там активную меновую торговлю [Гондатти, 1893. С. 151; Олсуфьев, 1896. С. 150]. С середины 1890-х гг. местом, куда ежегодно стали приезжать прибрежные чукчи и эскимосы для обмена, стал пост Ново-Мариинский [Олсуфьев, 1896. С. 172; Широков, 1968. С. 19]. К Сред-неколымску ежегодно прикочевывали чукчи со стадами оленей. «Как только получится известие, что дикари прибыли, из Средне-колымска в лагерь устремляются в запуски все местные кулаки…» [Дионео, 1895. С. 65]. По сведению В. И. Иохельсона, во время проезда купцов на Анюйскую ярмарку к устью Омолона прикочевывали эвены и юкагиры и привозили для обмена песцов и лисиц [1898. С. 136].
Состоятельность торговца влияла на процесс организации им торговли. При наличии у него капитала, средств передвижения и склада основой деятельности торговца были доставка промышленных товаров и продуктов питания из мест их ежегодной выгрузки (Гижигинск, Якутск) в другие населенные пункты и обмен этих товаров на пушнину, собранную более мелкими торговцами. Кроме того, его торговый календарь включал поездки на ярмарки и стационарную торговлю со склада. В отличие от менее обеспеченных торговцев такие купцы реже занимались развозной торговлей по стойбищам коренных жителей.
В Марково, по сведениям А. В. Олсуфьева, в 1890-х гг. проживало четыре купца, имевших лавки-склады, по две нарты собак и лодки грузоподъемностью 25–50 пудов [1896. С. 36, 39, 43, 45, 151]. Основные занятия этих купцов – организация доставки промышленного товара и продуктов питания до склада в Марково, предоставление этого товара в кредит разъездным торговцам, поездки на Анюйскую и Еропольскую ярмарки, стационарная торговля с приезжавшими в Марково коренными жителями, предоставление марковцам товаров в обмен на мелкие бытовые услуги и, в редких случаях, разъездная торговля по стойбищам.
Несколько по-иному, чем у марковцев, был организован торгово-технологический процесс у якутских и булунских купцов. В Якутск товар доставлялся в течение всего лета до сентября, отсюда он также вывозился пароходами в Булун. Всю осень якутские и булунские купцы «распаковывают и сортируют привезенные товары, приготовляя их к отправке в тундру» [Зензинов, 1916. С. 31]. В октябре-ноябре купцы начинали разъезды по окрестной тундре, причем путь прокладывался таким образом, чтобы к весне попасть на Анюйскую ярмарку. «В начале ноября, как только замерзнут болота, – из Якутска отправляются вьючным порядком [на лошадях] транспорты купеческой клади… В марте кладь прибывает в Ко-лымск. Часть ее продается тут же, но большая часть на собаках отправляется на Анюй, на чукотскую ярмарку. Она происходит в Анюйской “крепости”, в 250 верстах на восток от Нижне-Колымска… В начале мая купцы отправляются из Средне-Колымска в Якутск с грузом пушнины и клыков…» [Дионео, 1895. С. 7]. Путь от Якутска до Среднеколымска занимал от 50 до 120 дней. На одну-две недели купцы останавливались в Среднеколымске и Нижнеколымске, посещали Анюйскую ярмарку и, возвращаясь в июне – начале июля в Якутск, совершали по пути торговлю с коренным населением. «Из двенадцати месяцев года, эти люди бывают дома только около двух» [Майдель, 1894. С. 395].
В целом, система организации торговли якутских и булунских торговцев отличалась от таковой марковских, колымских и усть-янских торговцев. Якутские купцы вели торговлю на станциях по трассе от Якутска до Нижнеколымска и по пути своего следования. При этом специальных разъездов по стойбищам они не совершали. Обычно коренные жители, промышлявшие пушнину, сами приезжали на станции или встречали торговцев по пути их следования для предложения к обмену продуктов промысла [Там же. С. 388–389].
Подобная организация торговли на крайнем северо-востоке определила серьезную роль процесса передвижения торговца и транспортировки груза. Как отмечал К. По-ланьи, торговые пути, равно как и средства транспортировки, могут иметь ничуть не меньшее значение для институциональных форм торговли, чем типы перевозимых товаров [Поланьи, 2010. С. 71]. Особенности ландшафта различных территорий деятельности купцов крайнего северо-востока России влияли на выбор ими средств передвижения.
Путь от Якутска до Колымы, активно используемый якутскими, булунскими и усть-янскими купцами, был приспособлен для путешествия на лошадях и оленях. А. Аргентов писал, что из Якутска на Колыму имелось три тракта: через Омёкон (приток верховьев Индигирки), через Верхоянск и через Булун на Устьянск и Русское Устье [1886. С. 15]. Верхоянский тракт подразделялся на казенный и купеческий [Врангель, 2011. С. 439].
Купцы, доставлявшие товар из Якутска на восток через Верхоянск и Алдан до Среднеколымска, использовали караваны вьючных лошадей. На одну лошадь могли нагрузить до 95 кг. Вдоль купеческих путей располагались станции для корма и перемены лошадей. Многие купцы брали с собой в дорогу палатки и железные печки, чтобы пережидать непогоду [Ногин, 1919. С. 38]. Хорошая лошадь, приученная к перевозке клади и выдерживающая тяжелый путь от Якутска до Колымского округа, очень ценилась. Лошадей и станции по всему пути следования от Якутска до Среднеколымска обычно содержали якуты. Они же нанимались для сопровождения торговых караванов [Врангель, 2011. С. 139, 155; Ногин, 1919. С. 30–37].
Ф. П. Врангель, оказавшись свидетелем приезда 20 якутских купцов в Нижнеко-лымск в феврале 1821 г., писал, что каждый из них имел от 10 до 40 навьюченных товарами лошадей. В Нижнеколымске, по его сведению, они сбыли часть своих товаров окрестным жителям и нижнеколымским торговцам в обмен на пушнину, а с оставшимся товаром направились на ярмарку в Островное [2011. С. 197].
В зимний период и когда на станциях от Якутска до Среднеколымска кончалось сено, для передвижения по всему пути или северо-восточной его части использовали оленьи упряжки. «В случае езды на сменных оленях… например, между Якутском и Среднеколымском, средняя скорость на перегонах, не превышающих два дня езды, – 100 верст (около 106 км. – А. Я. ) в сутки… При этом на нарту, запряженную двумя оленями, кладут не более 6 пудов груза (около 100 кг. – А. Я. ), считая в том числе и вожатого, который вообще при езде на оленях бывает по одному на каждые 4–6 нарт» [Олсуфьев, 1896. С. 148]. Обычными для провоза товара были караваны из оленьих нарт. Нарты связывали между собой ремнями, и передняя нарта оленей заставляла бежать всех остальных. На каждую связку из семи-восьми нарт брали запасных оленей. Оленей также меняли на станциях у якутов. Современники свидетельствовали, что на нарту, в которой размещался купец, устанавливали верх, обтянутый парусиной или сукном, а иногда обшитый оленьим мехом. Некоторые помещали в такую повозку для обогрева маленькую железную печку [Ногин, 1919. С. 183–184].
По тракту из Якутска до колымских поселений через Булун, Устьянск и Русское
Устье купцы использовали комбинированный транспорт: осенью до рекостава из Якутска в Булун доезжали на лодках, далее до Русского Устья ехали на оленьих упряжках, от Русского Устья до Колымы перемещались на собачьих нартах. Подобный путь передвижения позволял купцам заниматься развозным торгом.
Булунские торговцы развозили товары по безлесной западной тундре, в связи с чем в качестве средств передвижения ими использовались специальные торговые повозки. По описанию В. М. Зензинова, эти изготавливаемые самими торговцами повозки представляли собой «нечто в роде маленького домика на полозьях». В повозке, вмещавшей 3–4 человека, имелась миниатюрная железная печка, отапливаемая дровами. Это средство передвижения позволяло булунским купцам брать с собой в торговые разъезды семьи. В такие повозки были впряжены 3–4 оленя [1916. С. 13].
Устьянские торговцы использовали для разъездов открытые нарты, запряженные парой оленей. Эти нарты они называли «олох», вероятно, от якутского «сиденье». Иногда на станциях в такие нарты запрягали лошадей [Ногин, 1919. С. 189]. Судя по фотографии этих нарт, размещенной в книге В. М. Зензинова, они были заимствованы русскими торговцами у якутов-оленеводов и представляли собой тунгусо-якутский тип оленных нарт с перекидным креплением тяжа, конец которого продевался в дугу, называемую «бараном». Передняя горизонтальная дуга, связанная с загнутыми концами полозьев и прикрепленная также к передней паре копыльев, являлась постоянной конструктивной частью такой нарты [Антропова, 1952; Ермолова, 1995].
Подобные способы упряжки и конструкция оленных нарт использовались советскими торговыми агентами в 20–30-х гг. XX в. для снабжения населения по рекам Колыма и Омолон. Якутский тип грузовой нарты, по мнению современников, был более пригоден для колымской и омолонской тундры, чем чукотский, как раз из-за наличия передней дуги – «барана», принимающей удары о различные препятствия: стволы деревьев, кочки [Зонов, 1931. С. 83]. По мнению этнографа Г. М. Василевич, подобная дуга на парной оленьей упряжке была изобретением эвенков, приспособив- ших заимствованную нарту самоедского типа к условиям тайги [1969].
Колымские, марковские, гижигинские и русскоустьинские купцы для разъездной торговли по санному пути использовали собачьи упряжки. Подобный выбор также был обусловлен особенностями маршрута разъездов, характеризуемого отсутствием зимних дорог и глубоким снегом. При хорошей погоде за пять-шесть дней на собачьей упряжке торговцы проделывали путь более чем в 500 км [Гондатти, 1893. С. 157].
Согласно описаниям современников [Майдель, 1894. С. 475; Амундсен, 1929. С. 258, 262; Гондатти, 1893. С. 159], колымские и марковские торговцы использовали для перевозки грузов собачью упряжку восточносибирского типа, характерного для русских старожилов Чукотки, Камчатки и Охотского побережья. Этот тип упряжки представлял собой нарту с прямыми копыльями, загнутыми только кпереди, с передней горизонтальной и вертикальной дугой. Собаки в упряжке прикреплялись к среднему ремню попарно. Для этого типа была характерна дорзальная сбруя, представляющая собой петлю-лямку с поперечиной на середине. При этом типе сбруи собака тянула грудью [Левин, 1946]. В упряжку впрягалось обычно от 10 до 14 собак. «На нарту, запрягаемую обыкновенно 12 собаками (реже 10 или 14), считают по 1–1,5 пуда (16–25 кг. – А. Я. ) груза на собаку, но здесь надо выключить корм собакам, составляющий около 30 фунтов (около 12 кг. – А. Я. ) на каждый день езды» [Олсуфьев, 1896. С. 147].
И. В. Шкловский описал случай, когда он встретил торговца, везущего товар для обмена с чукчами из Среднеколымска через поселение Сухарное. Обоз состоял из четырех собачьих нарт. Три первые нарты были нагружены кладью, накрыты сшитыми вместе ровдугами и крепко увязаны моржовыми ремнями. На четвертой нарте размещались немного клади и купец. Каждую упряжку торгового обоза сопровождал каюр, нанятый торговцем [Дионео, 1895. С. 130–131].
И. С. Гарусов, ссылаясь на архивный материал, писал, что в 1917 г. богатому оленеводу-коряку Этеку его «хороший друг», гижигинский торговец Брагин, на трех собачьих упряжках привез для обмена на пушнину, меховую обувь и одежду – чай, сахар, сухари, табак и другие товары, всего приблизительно 45 пудов (около 737 кг. – А. Я.) [Гарусов, 1967. С. 56–57].
Летом между поселениями торговцы передвигались по Колыме и Анадырю на лодках-«карбасах» грузоподъемностью от половины тонны [Дионео, 1895. С. 68; Олсуфьев, 1896. С. 151]. Лошадей в летнее время использовали для разъездов только зажиточные торговцы [Гондатти, 1893. С. 157].
Транспортные средства занимали серьезное место в жизни разъездных торговцев. Они были символами мужественности их владельцев и должны были соответствовать экстремальным условиям работы коммивояжеров [Podruchny, 2006. Р. 11]. Скорость передвижения и хорошие собаки являлись показателями престижа русских торговцев. Так, зажиточный купец Барамыгин, специализировавшийся на провозе товара из Якутска в Нижнеколымск и ежегодно приезжавший туда для посещения Анюйской ярмарки, «желал, как прилично богатому купцу, иметь самую лучшую нарту и ездить быстрее всех других. Поэтому он сделал предложение одному из жителей Нижнеко-лымска, чтобы тот приобрел на его, Бара-мыгина, деньги нарту и забирал бы на его счет круглый год корм для собак; но за то, Барамыгин имел право безвозмездно пользоваться нартой во время своего пребывания в Нижнеколымске… Барамыгин ездил между Нижнеколымском и Анюем с быстротой молнии» [Майдель, 1894. С. 479–480]. Г. Майдель также оказался свидетелем того, как казак Котельников, содержавший собачьи упряжки для извоза и торговли, чуть не избил своего сына дубинкой, за то, что тот доставил чиновника из Каретово в Нижне-колымск на несколько минут позже назначенного времени [Там же. С. 478–479]. В локально-территориальных обществах русских старожилов крайнего северо-востока России количеством собак, прокорм которых в течение года обходился достаточно дорого, измерялось благосостояние семьи [Олсуфьев, 1896. С. 56].
Собачьи и оленьи упряжки были, по выражению американского антрополога К. Подручной, «живой частью торговли» [Pod-ruchny, 2006. Р. 10] и занимали центральное место в жизни разъездного торговца. Хорошо обученные собаки и олени, от которых нередко зависела жизнь торговца, были дефицитом. Начинающий торговец мог торго- вать только при условии, что у него имеется транспортное средство, а в условиях крайнего северо-востока России это означало, что он должен был вначале вырастить и обучить собак и стать хорошим каюром. Технология изготовления нарт для собачьих упряжек была скопирована торговцами у коренных жителей, однако они совершенствовались и модифицировались под нужды торговли и приспосабливались к условиям длительных разъездов.
Одним из аспектов организационных мероприятий русских торговцев крайнего северо-востока было обеспечение различных этапов торгового процесса дополнительным персоналом для помощи в осуществлении торговых операций и доставке товара. Обычно торговцы, занимавшиеся развозной торговлей, нанимали извозчиков, проводников и переводчиков.
Марковские, гижигинские и колымские купцы использовали как собственные собачьи упряжки, так и наемные. В Марково в 1894 г., по подсчету А. В. Олсуфьева, в провозе купеческой клади по найму участвовало 16 чел., имевших собачьи упряжки. В целом около четверти всех жителей Марково занимались «извозом купеческой клади» [1896. С. 56, 65]. Якутские купцы, чтобы попасть на Анюйскую ярмарку, нанимали нижнеколымских жителей для перевозки их туда с товаром на собачьих упряжках. По свидетельству очевидцев, в это время невозможно было достать собак, так как все они были наняты торговцами. В Анадырском округе спрос на транспортные услуги также превышал предложение [Гондатти, 1893. С. 147, 160]. Торговые отношения во второй половине XIX – начале XX в. оказали серьезное влияние на развитие частного извозного промысла среди населения крайнего северо-востока России.
Договорные отношения торговца и каюра строились следующим образом: устанавливалась цена за единицу веса, предполагаемую к провозу, в соответствии с которой торговец рассчитывался с каюром в товарном эквиваленте. Все сопутствующие расходы, главными из которых был прокорм собак на всем протяжении пути, каюр брал на себя. По подсчетам А. В. Олсуфьева, в среднем марковскому перевозчику приходилось отдавать около половины полученного в качестве провозной платы товара в обмен за корм собакам [1896. С. 65, 154].
Содержание собственных ездовых оленей торговцами было редкостью. Большинство использовали для разъездной торговли по тундре наемных животных [Зензинов, 1916. С. 95]. Предоставлением в наем оленьих упряжек или просто ездовых оленей обычно занимались инородцы, имевшие много своих оленей или бравшие их в аренду на зиму у других владельцев. Наем оленей и упряжек у эвенов и чукчей был непростой задачей для купца. В. М. Зензинов объяснял подобное явление «малой предприимчивостью кочевников». Для того чтобы получить для перевозки достаточное количество оленей, купцу необходимо было иметь хорошие связи в инородческой среде. Обычно торговцы заранее – за год договаривались с извозчиками, потому как «часто даже по повышенной расценке не удается найти нужных возчиков» [1916. С. 95].
Наиболее предприимчивыми в плане предоставления услуг по извозу были якуты, которые селились по купеческим маршрутам, специально содержали лошадей и оленей для смены их на станциях и нанимались к торговцам проводниками. Однако даже их заинтересованность не всегда ограничивалась обещанием платы за услуги [Седов, 1917. С. 18]. В связи с тем что нашей целью не является изучение трудового поведения коренных жителей (см.: [Подойни-цына, 1995] и др.), ограничимся только комментариями, имеющими отношение к характеристике взаимоотношений между торговцами и инородцами в плане участия последних в организации торгового процесса.
При установлении договорных отношений с коренным жителем, купец должен был понимать, что рациональность не является нормой для инородца, а материальная прибыльность не всегда служит стимулом для принятия предложения торговца. В. М. Зен-зинов приводил типичный случай, свидетельствовавший о приоритете для коренных жителей личных взаимоотношений над выгодой: новый купец предложил тунгусу-извозчику в тайне от остальных купцов за провоз товара «сверх установленной платы по 10 копеек с пуда “на водку”. Тунгус, смущенный такой сложной наценкой, предложенной ему незнакомым человеком, пришел за советом к конкуренту нового купца, с которым в течение ряда лет имел дела по доставке его клади…» [1916. С. 32] – сделка не состоялась. Успешность торговли зависела от установленных торговцем личных связей с коренным населением и жителями населенных пунктов, через которые проходил торговый путь.
Кроме извозчиков, торговцы, не владевшие языком своих покупателей-инородцев, нанимали переводчиков. К марковским, ги-жигинским и колымским купцам переводчиками нанимались обычно чуванцы, знавшие чукотский язык. Были случаи найма купцами писарей, которые участвовали в разъездной торговле и записывали взятые в долг товары; женщин для пошива одежды и выпечки хлеба на подарки инородцам [Там же. С. 31, 77]; людей, для оказания отдельных разовых услуг, например, по вылову осенью рыбы для заготовки торговцем впрок и последующей ее перепродажи [Дионео, 1895. С. 97].
Одним из важнейших аспектов, на котором основывался процесс организации торговли русскими купцами, был коммуникативный. Как справедливо отмечали американские антропологи А. Рэй и Дж. Фримен, в исследовании практики обменов и мотивации к ним, кроме пространственных вариаций торговли необходимо учитывать и понимать смысл времени и места [Ray, Freeman, 1978. P. XV]. Для русских купцов крайнего северо-востока России время и место торговых контактов было определено торговым календарем, специфическим для каждой местности.
Торговый календарь марковских, гижи-гинских, колымских и якутских купцов зависел от начала и окончания промысловых сезонов, перекочевок коренного населения, возможностей использования средств передвижения, времени и места организации ярмарок и завоза промышленных товаров. В соответствии с торговым календарем купец выполнял ряд функций, направленных на соединение потребностей в промышленных товарах и продуктах, отдаленных как в пространственном, так и в культурном плане людей. Функционально большинство торговцев совмещали работу по доставке товара и его непосредственной продажи, при этом транспортировка занимала на крайнем северо-востоке России основное время торговца.
При организации торгового процесса купец должен был владеть определенными торговыми навыками, сформированными так- же в зависимости от территории его торговой деятельности и круга клиентов. Торговцу необходимо было правильно спланировать товарный ассортимент и объем необходимого для обмена промышленного товара, исходя из особенностей спроса коренного населения и имевшихся средств и путей передвижения. Кроме того, для успешного совершения торговой сделки он должен был знать традиции коренных жителей, их привычки и потребности, организацию хозяйства и систему их счета.
Формы, приемы, методы и способы торговли, которые использовали торговцы крайнего северо-востока России, были результатом их приспособления к местным условиям. Взаимоотношения русских купцов с коренным населением представляли сложный комплекс коммуникаций, затрагивающий различные области жизнедеятельности тех и других. В основном эти взаимоотношения касались всего комплекса торгового процесса от доставки товара до его непосредственного обмена.
TRADE MANAGEMENT OF FAR NORTH-EAST RUSSIAN MERCHANTS IN THE END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURY
Список литературы Организация торгового процесса русскими купцами крайнего северо-востока России в конце XIX – начале XX века
- Амундсен Р. На корабле «Мод». Экспедиция вдоль северного побережья Азии. М.; Л., 1929. 310 с.
- Антропова В. В. Из истории транспорта у народов Сибири // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. М., 1952. Вып. 15. С. 23-26.
- Аргентов А. Восточная Сибирь. Путевые записки. Н. Новгород, 1886. 48 с.
- Башарин Г. П. Социально-экономические отношения в Якутии второй половины XIX - начала XX в. Якутск, 1974. 216 с.
- Богораз В. Г. Чукчи: социальная организация. М., 2011. 216 с.
- Бянкин В. П. Русское торговое мореплавание на Дальнем Востоке в эпоху капитализма и первые годы советской власти (1860-1925 гг.): Дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 1978. 225 с.
- Василевич Г. М. Эвенки: историко-этнографические очерки (XVIII - начало XX в.). Л., 1969. 304 с.
- Вахтин Н. Б., Головко Е. В., Швайтцер П. Русские старожилы Сибири: социальные и символические аспекты самосознания. М., 2004. 292 с.
- Вдовин И. С. Очерки истории и этнографии чукчей. М.; Л., 1965. 404 с.
- Врангель Ф. П. Путешествие по Сибири и Ледовитому морю. М., 2011. 480 с.
- Гарусов И. С. О социальной принадлежности крупного оленевода Северо-Востока накануне коллективизации // Записки Чукотского краеведческого музея. Магадан, 1967. Вып. 4. С. 52-68.
- Гондатти Н. Л. Сведения о поселениях по Анадырю // Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества. Хабаровск, 1893. Т. 3, вып. 1. С. 71-178.
- Гурвич И. С. Этническая история северо-востока Сибири. М., 1966. 275 с.
- Денисова Н. И. Коммерческая деятельность предприятий торговли. М., 2011. 480 с.
- Дионео (Шкловский И. В.). На крайнем северо-востоке Сибири. СПб., 1895. 282 с.
- Ермолова Н. В. Традиционные средства передвижения у народов северной Сибири. Оленный транспорт и упряжное собаководство // Экология этнических культур Сибири накануне XXI в. СПб., 1995. С. 166-196.
- Захаров В. П. Пушной промысел и торговля в Якутии (конец XIX - начало XX в.). Новосибирск, 1995. 136 с.
- Зензинов В. В гостях у юкагиров // Этнографическое обозрение. 1914. Кн. 101-102. № 1-12. С. 106-126.
- Зензинов В. М. Очерки торговли на севере Якутской области. М., 1916. 97 с.
- Зонов Б. В. Описание бассейна реки Омолона. Иркутск, 1931. 161 с.
- Исаков А. Н. История торговли на северо-востоке России (XVII-XX вв.). Магадан, 1994. 260 с.
- Иохельсон В. И. Очерк зверопромышленности и торговли мехами в Колымском округе. СПб., 1898. 167 с.
- Кеннан Г. Кочевая жизнь в Сибири: приключения среди коряков и других инородцев. СПб., 1896. 384 с.
- Куликов М. И. Чукотка. Зигзаги истории малых народов Севера. Великий Новгород, 2002. 496 с.
- Кушнарева М. Д. Пушная торговля как фактор организации пушного промысла коренного населения СевероВосточной Сибири во 2-й половине XIX - начале XX в.: Дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2005. 257 с.
- Левин М. Г. О происхождении и типах упряжного собаководства // Советская этнография. 1946. № 4. С. 75-108.
- Майдель Г. Путешествие по северо-восточной части Якут ской области в 1868-1870 гг. СПб., 1894. 599 с.
- Ногин В. На полюсе холода. М., 1919. 196 с.
- Олсуфьев А. В. Общий очерк Анадырской округи, ея экономическое состояние и быта населения. СПб., 1896. 245 с.
- Подойницына И. И. Этнокультурные стереотипы трудового поведения в сфере производства на примере республика Саха (Якутия). Новосибирск, 1995. 144 с.
- Поланьи К. Избранные работы. М., 2010. 200 с.
- Сафронов Ф. Г. Русские промыслы и торги на северовостоке Азии в XVII - середине XIX в. М., 1980. 145 с.
- Седов Г. Я. Путешествие в Колыму и на Новую Землю в 1909-1910 гг. Пг., 1917. 64 с.
- Слюнин Н. В. Охотско-Камчатский край. Естественно-историческое описание. СПб., 1900. Т. 1. 684 с.
- Широков Ю. А. К истории города Анадыря // Записки Чукотского краеведческого музея. Магадан, 1968. Вып. 5. С. 14-26.
- Podruchny C. Travelers and Traders in the North American Fur Trade. Lincoln, 2006. 414 p.
- Ray A. J., Freeman D. B. «Give Us Good Measure»: An Economic Analysis of Relations between the Indians and the Hudson's Bay Company Before 1763. Toronto, 1978. 298 р.