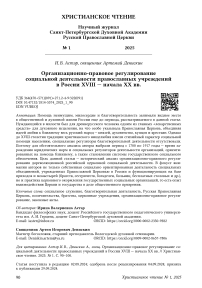Организационно-правовое регулирование социальной деятельности православных учреждений в России XVIII — начала XX вв.
Автор: Астэр И.В., Денискин А.И.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Практическая теология
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
Помощь неимущим, милосердие и благотворительность занимали видное место в общественной и духовной жизни России еще до периода, рассматриваемого в данной статье. Нуждающийся в милости был для древнерусского человека одним из главных «лекарственных средств» для духовного исцеления, на что особо указывала Православная Церковь, объединяя идеей любви к ближнему весь русский народ - князей, духовенство, купцов и крестьян. Однако до XVIII столетия традиции христианского нищелюбия имели стихийный характер социальной помощи населению, специальные регуляторы благотворительной деятельности отсутствовали. Поэтому для обстоятельного анализа авторы выбрали период с 1700 по 1917 годы - время зарождения юридических норм и социальных регуляторов деятельности организаций, ориентированных на помощь ближнему, а также становления системы государственного социального обеспечения. Цель данной статьи - исторический анализ организационно-правового регулирования дореволюционной российской церковной социальной деятельности. В фокусе внимания авторов не только собственная социально ориентированная деятельность специальных объединений, учрежденных Православной Церковью в России и функционирующих на базе приходов и монастырей (братств, сестричеств, богаделен, больниц, бесплатных столовых и др.), но и практика церковного окормления государственных социальных организаций, то есть опыт взаимодействия Церкви и государства в деле общественного призрения.
Социальное служение, благотворительная деятельность, русская православная церковь, попечительства, братства, церковные учреждения, организационно-правовое регулирование, законные акты
Короткий адрес: https://sciup.org/140309287
IDR: 140309287 | УДК: 364(470+571)(091)+271.2-4-9:322(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_90
Текст научной статьи Организационно-правовое регулирование социальной деятельности православных учреждений в России XVIII — начала XX вв.
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the A. I. Herzen State Pedagogical University of Russia, Associate Professor at the St. Petersburg Theological Academy.
E-mail: ORCID:
Priest Artyom Igorevich Deniskin
Master of Theology, Senior Lecturer at the Vologda Theological Seminary.
E-mail: ORCID:
Фактически с самого появления на Руси христианской системы ценностей духовно-нравственное воспитание народа в любви к ближнему своему — важная составляющая деятельности Православной Церкви. В русском обществе из поколения в поколение передавались традиции нищелюбия. Накормить голодного, обогреть сироту, приютить странника было делом каждого, чему также способствовало отсутствие до ХVIII в. благотворительности в сфере государственной ответственности. Всю общественную благотворительность окормляла Церковь — как словом, так и делом. Именно в монастырях и приходах появились первые бесплатные больницы и приюты для всех нуждающихся. Однако начиная с XVI в. (со времен Стоглавого Собора) русские общественные деятели утвердились в понимании необходимости пересмотра сложившейся системы благотворительности, стало ясно, что простая раздача милостыни чаще всего лишь усугубляет тяжелую социальную ситуацию нуждающихся и приумножает бедность. Впрочем, прошло 150 лет, прежде чем в 1700 г. Петр I издал указ об устройстве богаделен во всех губерниях России. С правления Петра I начинается период становления системы общественного призрения и, по сути, формируется профессиональное отношение к делам милосердия.
Поэтому мы и выбрали для исследования период XVIII — нач. ХХ вв.: как время становления государственного социального обеспечения и зарождения профессиональной социальной деятельности в организациях — субъектах системы общественного призрения. Изучение документов данного исторического периода позволяет с уверенностью сказать, что в современной России, в общих чертах, функционирует та же система социальной поддержки населения, что была заложена Петром I и развита последующими русскими правителями (особо отметим роль Екатерины II в создании структуры системы общественного призрения).
К тому же социально-правовая основа деятельности общественных организаций разного типа является закономерным следствием исторического развития. Регулирование деятельности церковных учреждений (в первую очередь нас будут интересовать социально ориентированные объединения) не является исключением. Безусловно, в современных российских условиях совершенно иная законодательная база и церковно-политическая ситуация, поэтому изучение опыта дореволюционного социально-правового регулирования нам представляется важным не ради прямого заимствования (что просто невозможно), но в рамках ознакомления с успешным опытом реализации церковных социальных проектов в истории Русской Православной Церкви.
Итак, в период значительных реформ, 8 июня 1701 г., был издан указ, который стал основой для создания различных социальных церковных учреждений в новых организационно-правовых рамках. В указе предписывалось: «в домовых Святейшего Патриарха богадельнях нищим быть, больным и престарелым, которые не могут ходить для собирания милостыни, а для десяти человек больных быть в богадельне одному человеку здравому, который бы за теми ходил и всякое им вспоможение чинил. А больных в богадельнях велеть лечить, и для того учинить особых лекарей и давать тем лекарям кормовые деньги и покупать лекарства из Патриаршей домовой казны» (Указ именной, 1701, 168). Как видим, документ, подготовленный по велению императора Петра I, накладывает определенные обязательства на церковные богадельни, структурируя работу в них.
С упразднением института патриаршества и учреждением Святейшего Правительствующего Синода 25 января 1721 г. появилась нужда в новых уставных документах. Таким актом стал «Духовный регламент», составленный в том же 1721 г. вице-президентом, а затем первенствующим членом Св. Синода Феофаном (Прокоповичем), архиепископом Псковским.
Согласно указанному документу в сферу церковной опеки входит не только духовенство, но также преподаватели и воспитанники училищных домов [Феофан Прокопович, 1721]. В том же документе при перечислении обязанностей епископов, в частности в п. 9, указывается следующее: «9) Вельми ко исправлению церкви полезно есть сие, чтоб всяк Епископ имел в доме, или при доме своем школу для детей священнических, или и прочих, в надежду священства определенных. А в школе той был учитель умный и честный, который бы детей учил не только чисто, ясно и точно в книгах честь (что хотя нужно, обаче еще недовольное дело), но учил бы честь и разуметь. И если мощно и наизусть читать две вышеупомянутыя книжицы: одну о дог-матех веры; а другую о должностях всяких чинов, когда таковыя книжицы изданы будут» [Феофан Прокопович, 1721].
Приведенный фрагмент свидетельствует об общей тенденции рассматриваемой эпохи, выразившейся в принципе обязательства по отношению к социальной деятельности Церкви. Образовательная сфера стала одним из официально утвержденных направлений церковного служения. В дальнейшем патронат государства над церковной деятельностью только усиливался, что выразилось, в частности, в учреждении в 1721г. на основе бывшего Монастырского приказа особого отдела по делам общественного призрения, который непосредственно подчинялся Св. Синоду. Возглавил данное учреждение бывший московский вице-губернатор В. С. Ершов. В компетенции указанного органа входили обязанности по распределению отставных солдат и офицеров, нуждающихся в опеке, и психически нездоровых людей по монастырям; определение нищих и больных по богадельням, выплата военным пособий по инвалидности. Согласно изданному в январе 1724 г. указу Петра I «О звании монашеском, об определении в монастыри отставных солдат и об учреждении семинарии и госпиталей», монастыри должны были содержать больницы для «солдат отставных, которые трудиться не могут и прочих прямых нищих», а женские монастыри дополнительно должны были принимать «сирот обоего пола» [Законодательство Петра I, 2014, 428–429]. В целом до правления императрицы Екатерины II государство стремилось вменить монастырям функцию попечения о больных, инвалидах и сиротах. Однако только богатые монастыри могли самостоятельно собрать необходимые средства на создание крупных больниц и других общественных учреждений.
После провозглашения Екатериной II Манифеста от 26 февраля 1764 г. о переходе церковных владений в государственную собственность монастыри, лишенные своего земельного ресурса, начали массово закрываться. Большую часть монастырей закрыл Св. Синод, основываясь на Манифесте, разделившем все монастыри на штатные, заштатные и не вошедшие в эти две категории. Как итог, из 954 монастырей, зарегистрированных в Российской империи на 1 января 1762 г., к 1765 г. осталось только 387 (226 штатных и 161 заштатный) (см.: [Зверинский, 1887, 6–7]). Штатные монастыри получали от государства денежные средства на содержание монахов и небольшое количество земельных угодий (6–9 десятин) (см.: [Милютин, 1862, 567]), которые должны были обрабатывать самостоятельно, заштатные существовали главным образом за счет дохода, получаемого от паломников. Дополнительно (указом Св. Синода от 17 мая 1793 г.) государство оплачивало содержание в первоклассных монастырях больниц на 5 человек, а в тех епархиях, где таковых монастырей не было, повелевало «учредить, на тех же основаниях... по одной больнице, в способных к тому, по усмотрению епархиальных архиереев, штатных мужских монастырях, или при архиерейских домах» [Беликов, 1875, 751]. Также предписывалось при архиерейских домах в 26 епархиях открывать богадельни для лиц обоего пола с жалованием на каждого постояльца в 5 руб. в год. Количество в богадельнях «всяких разночинцев самых увечных и пропитания никакого не достать, а при том и родственников никого» могло составлять от 25 до 50 человек в соответствии со штатным регламентом архиерейских домов (Полное собрание постановлений и распоряжений: №167 , 1910, 192).
После правления Екатерины II, в 1-й пол. ХIХ в., монастыри увеличили свои земельные ресурсы (уже в период царствования Павла I в соответствии с указом от 18 декабря 1797 г. монастырям полагалось по 30 десятин выгодной земли, архиерейским домам — по 60 десятин) (ПСЗРИ 24, № 18273), что способствовало укреплению материально-технической базы обителей и благоприятным образом отражалось на монастырской благотворительной деятельности.
В 70-е гг. XIX в., в соответствии с рядом правительственных указов, вновь создаваемые монастыри стали обязаны на своих территориях открывать учреждения благотворительного и воспитательного характера. При этом особое внимание Св. Синода было обращено к женским обителям. Так, циркулярным указом от 28 января 1870 г. было определено «епархиальным начальствам усугубить свои попечения как о поддержании и развитии существующих при женских обителях школ, богаделен или больниц, так и об устройстве таковых там, где будет представляться к тому возможность» (Циркулярные указы, 1901, 95). И уже в своем отчете за 1870 г. обер-прокурор Св. Синода Д. Толстой отмечает, что в короткий срок «те из женских обителей, которые и прежде имели в своих стенах воспитательные учреждения, усилили свою попечительность о них, что выражалось или увеличением числа воспитываемых в них детей, или расширением их учебной программы. Другие поспешили вновь открыть воспитательноблаготворительные заведения, преимущественно для детей духовенства» (школы открыли в Харьковском Хорошевском, Пензенском Троицком монастырях, Нижне-ломовской общине) (Извлечение, 1872, 168–170).
Еще одним заметным социальным учреждением России стали женские общины — сообщества не постриженных в монашество, но живущих по монастырскому уставу девушек и женщин. Возникновение их происходило стихийно, «снизу», а своим появлением общинное движение обязано секуляризации церковных земель. Женщины нашли оригинальное решение в сложившейся ситуации и тем самым представили альтернативу привычным монастырям. В кон. XVIII в., благодаря усилиям наиболее активных монахинь, изгоняемых после закрытия их обителей, начали формироваться первые неформальные православные общины, которые напоминали монастыри, но были нацелены на активную жизнь в обществе. Монашеский пример в создании таких общин поддержали и мирянки, получая ресурсы от соседних городов и деревень, которые искали духовной и социальной помощи. Эти общины редчайше отклонялись от общежительного устава и располагали лишь ограниченными средствами. Обычно их доход формировался от продажи собственных изделий. Совместная молитва постепенно стала основой для полноценного монастырского богослужения, а священники из близлежащих приходов служили Божественную литургию (см. об этом: [Астэр, 2009, 103]). Государство, не отягощенное финансовой поддержкой женских общин, приветствовало их становление. Уже по указу императрицы Екатерины II от 22 июля 1765 г. посвятившим себя уединенной жизни монахиням и белицам позволено было жить в упраздненном Болховском Рождественском монастыре «до их смерти, без казенного содержания» (Полное собрание постановлений и распоряжений: № 250 , 1910, 293). Немаловажную роль в развитии женских общин сыграла даже не столько их социальная направленность (прежде чем вновь открыть монастырь, необходимо было организовать богадельню или странноприимный дом, только после расширения их деятельности сестры вводили устав и в дальнейшем могли получить право на открытие монастыря), сколько миссионерская и духовнонравственная значимость в жизни общества1.
В 1864 г., во время царствования императора Александра II, появилась новая форма церковного участия в социальной деятельности — возможность учреждения относительно автономных организаций локального уровня: приходских попечительств. Как представляется, в этот период государство было обеспокоено крайне низким уровнем активности в сфере общественного призрения (что, впрочем, явилось закономерным следствием многолетней политики ограничения деятельности Церкви как регулятора благотворительной деятельности). Сокращение финансирования и социального обеспечения церковных организаций, с одной стороны, и формирование системы государственной социальной поддержки — с другой стороны, стагнировали вовлеченность населения в дело общественного призрения. Духовенство, чье служение было поставлено в жесткие материально-административные рамки, зачастую не имело ресурсов для организации каких-либо церковных учреждений общественного призрения. Согласно «Положению о приходских попечительствах при православных церквах, Высочайше утвержденному 2 августа 1864 года»2, в ведении таких учреждений, помимо обеспечения причта, находилась обязанность поиска средств для учреждения и содержания при приходе «школы, больницы, богадельни, приюта и других благотворительных заведений^» [Волчков, 1880, 196]. Указанные меры «Положения…» должны были способствовать увеличению активности как духовенства, так и его паствы в деле социального служения Церкви.
Помимо финансирования, попечительство должно было заботиться «вообще об оказании бедным людям прихода, в необходимых случаях, возможных пособий, также о погребении неимущих умерших и о содержании в порядке кладбищ» [Волчков, 1880, 196]. Однако непосредственная помощь на практике зачастую оказывалась нерегулярно и в исключительных случаях. Попечительства, как правило, оказывали поддержку социальным заведениям, предоставляя им деньги, необходимый инвентарь, топливо, продовольствие и пр. Несмотря на существующие сложности в организации и работе попечительств, их число увеличивалось сообразно с запросами общества. Так, по состоянию на 1907 г. по всей империи насчитывалось 20 045 попечительств, а общая сумма денежных пожертвований, собранных ими, составила 4 288 104 руб. 78 коп. (Всеподданнейший отчет, 1910, 108).
Правление попечительств вело определенного рода отчетную документацию и предоставляло ежегодные рапорты о своей работе епархиальному руководству — в духовные консистории на рассмотрение епархиальному архиерею. Источниками финансирования попечительств служили добровольные пожертвования прихожан, а также частных лиц через кружечные, тарелочные сборы, а также сборы по подписным листам и посредством выдаваемых правящим архиереем сборных книг. В основном, все взносы имели следующие назначения: 1) на содержание храма; 2) на содержание причта; 3) на обеспечение приходской школы и благотворительных заведений (богаделен, приютов и т.п.) (см.: [Волчков, 1880, 196]). Подобное положение свидетельствует о многогранности подхода к финансированию тех или иных церковноблаготворительных инициатив. Распределение материальных средств объясняется субъективным фактором: каким образом воспринимали свою деятельность участники того и иного попечительства.
В 1894 г., при содействии Министерства финансов, на территории Российской империи была организована сеть специальных учреждений, известных как «Попечительства о народной трезвости», которые входили в состав губернских и уездных комитетов и находились под контролем дворян и высшего духовенства. С введением 20 декабря 1894 г. винной монополии «Правила функционирования Попечительств о народной трезвости», утвердившиеся 19 апреля 1895 г., предоставили этим организациям значительные полномочия. Создавались курсы профессиональной подготовки, воскресные школы, «приюты для опьяневших», ночлежки и юридические консультации, открывались социальные столовые, чайные, библиотеки, организовывались творческие вечера, благотворительные концерты. Первые такие организации в сотрудничестве с различными медицинскими учреждениями занимались пропагандой трезвого образа жизни, издавая специальные просветительские материалы (листки, брошюры, книги, плакаты). Деятельность попечительств охватывала широкий спектр социальных инициатив, направленных на профилактику алкоголизма и реабилитацию лиц, страдающих алкогольной зависимостью. С целью контроля средств, поступающих на благотворительность, попечительства выпускали боны — талоны, квитанции или чеки для обмена на продукты питания или услуги в определенных лавках, чайных и магазинах, с владельцами которых достигалась договоренность в данном вопросе. Но действовало ограничение: на боны невозможно было приобрести спиртные напитки.
Однако, по сути, приходские попечительства — это фонды по управлению денежными средствами, посреднические структуры, которые не занимались предоставлением непосредственной помощи нуждающимся. Как правило, данная прерогатива делегировалась ими церковным братствам, сестричествам и другим социальным учреждениям.
Рассмотрим церковные братства, деятельность которых регулировалась законом № 40863 от 8 мая 1864 г. «О правилах для учреждения Православных церковных братств». Согласно данному законодательному акту, «православными церковными братствами именуются общества, состоящие из Православных лиц разного звания и состояния, для служения нуждам и пользам Православной церкви, для противодействия посягательствам на ее права, со стороны иноверцев и раскольников, для созидания и украшения православных храмов, для дел Христианской благотворительности и для распространения и утверждения духовного просвещения» (ПСЗРИ 49, 1864). Итак, братства имели широкий круг функций — внутренняя и внешняя миссия, социальное служение, катехизация и просвещение. Братства издавали специальную литературу, переводили богослужебные тексты и пособия на языки малых коренных народов, организовывали собрания, музыкальные вечера, образовательные чтения, кружки по интересам и пр. К примеру, деятельность Серафимо-Завьяловского братства Томской губернии была направлена на борьбу с алкоголизмом и сквернословием, а спецификой Стефано-Прокопиевского братства из Великого Устюга была сугубая миссионерская направленность (братство занималось миссией среди автохтонного населения Яренского и Усть-Сысольского уездов — зырян).
Внутренняя и внешняя миссия братств опиралась главным образом на документы, принятые на трех Всероссийских миссионерских съездах, инициированных Православной Церковью в период с 1887 по 1897 г. По итогам первого съезда 25 мая 1888 г. Св. Синод утвердил «Правила об устройстве миссий и о способе действий миссионеров и пастырей Церкви по отношению к раскольникам и сектантам». Целью миссии являлась не только религиозная социализация паствы, включающая укрепление веры и формирование соответствующих поведенческих паттернов, но и объединение народов, инкорпорированных в состав Российской империи на рубеже XIX–XX вв. в процессе инкультурации и создания сплоченных территориальных общин вокруг православия. Для реализации данной цели приходские священники должны были демонстрировать «нравственнопопечительское и всегда участливое отношение... к пастве, внимательно относиться к нравственным и духовным проблемам людей и поддерживать богослужебную дисциплину на своем приходе» (Правила об устройстве миссий, 1904, 630).
Немного ранее начался процесс привлечения православного духовенства и мирян, состоящих в различных братствах, в сферу образования и просвещения, поскольку в соответствии с «Положением о начальных народных училищах» от 14 июля 1864 г. все школы (как системы народного просвещения, так и духовного ведомства) поступали под пастырскую опеку духовенства. Епархиальным архиереям предписывалось принять непосредственное участие в деятельности начальных учебных заведений — войти в состав училищных советов. На священников, в свою очередь, ложилась обязанность контроля воспитательного процесса и приобщение учащихся к традициям православия (см. об этом: [Иванов, Монякова, 2011, 73]). Также духовенство должно было создавать «в местах, зараженных расколом и где развивается сектантство, церковноприходские школы и школы грамоты, распространяя в народе грамотность, делая обучающихся в них детей более способными к усвоению духа Православной церкви и к сознательному участию в церковном богослужении» (Правила об устройстве миссий, 1904, 631).
Регламентация социальной деятельности церковных учреждений велась не только со стороны государства, отдельные распоряжения издавались также епархиальным руководством. Они публиковались в официальном печатном органе, существовавшем в каждой епархии России кон. XIX в., — «Епархиальных ведомостях». Локальные акты исходили со стороны правящего архиерея, который принимал решения по тем или иным вопросам в результате рассмотрения представлений со стороны духовной консистории, благочинных и настоятелей приходов.
По благословению правящих архиереев, в частности, во 2-й пол. ХIХ в. создавались многочисленные общества трезвости. Первое общество трезвости в России — «Воздержанность», возникло в конце 1858 г. в Ковенской губернии [Русский вестник, 1859, 235]. В 1859 г. общества трезвости формируются при церковных приходах и в формате частных собраний в Орловской губернии. В 1874 г. аналогичная инициатива была реализована в селе Дейкаловка Полтавской губернии. Через несколько десятилетий, к 1900 г., общее количество обществ трезвости достигло 461, а уже к 1910 г. возросло до 1767 и вскоре превысило 2000, причем из них лишь около 100 были светскими организациями, остальные — православными [Афанасьев].
Другой формой церковного общественного служения стали дома трудолюбия. Первый из них по инициативе св. прав. Иоанна Кронштадтского появился еще в 1882 г. и существенно отличался от других типов приютов и богаделен, поскольку функционировал на принципе найма и не являлся карательным учреждением, как работные дома, создававшиеся еще в период правления Екатерины II по всей России3. Нуждающимся людям предоставлялась оплачиваемая работа, а также проживание, питание, медицинское обслуживание. Для неимущих детей и взрослых открывалась возможность получения профессионального образования. Святой праведный Иоанн Кронштадтский прекрасно обустроил четырехэтажное здание, в котором размещались сироты и пожилые инвалиды, бездомные и женщины в кризисной ситуации. Здесь трудились до 25 тыс. человек ежегодно, а получить начальное образование могли 300 детей.
Вскоре примеру батюшки Иоанна Кронштадтского последовали многие общины. Организации домов трудолюбия способствовало и созданное в 1895 г. императрицей Александрой Федоровной Попечительство о домах трудолюбия и работных домах (в дальнейшем — Попечительство о трудовой помощи), разработавшее устав для своих последователей и всесторонне поддерживавшее их инициативы. В результате в 1911 г. в России было уже 253 подобных благотворительных организаций, а число опекаемых ими людей составляло более 20 тысяч человек. Организации содержали «110 домов трудолюбия, 26 школ, 46 Ольгинских приютов, 38 богаделен, 181 учебную мастерскую, 7 дешевых и даровых квартир, 34 дневных убежищ для детей, 67 приютов для детей, 22 детских яслей, 3 магазина, 40 ночлежных домов, 3 пекарни, 52 дешевых и бесплатных столовых-чайных, 13 амбулаторий и санаторий, 11 библиотек-читален, 20 контор для указания работы и т. п. учреждений, 2 временных убежища для ищущих труда, 3 трудовых артели, 3 типографии, 8 трудовых пунктов, 2 детские колонии сельскохозяйственной трудовой колонии, кассы трудовой помощи, бюро газетных вырезок, конторы для раздачи женщинам работ на дом, 2 детских сада, 2 патроната и 2 прачечные» (Указатель учреждений трудовой помощи, 1913, 13).
Далее, помимо собственной социально ориентированной деятельности некоторые церковные учреждения активно взаимодействовали с государством в деле общественного призрения, чему способствовали и принимаемые законодательные меры. Так, после утверждения императором Александром II земской реформы (1 января 1864 г.) в «Положении о земских учреждениях» в гл. 1, подп. IV указывается, что в ведение земств входит «заведывание земскими благотворительными заведениями и прочие меры призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построении церквей» (Положение, 1864), что на практике означало сотрудничество с церковными структурами.
Несмотря на достаточно пространную формулировку, благодаря наличию указанного документа у Церкви появлялись возможности к более продуктивной социальной деятельности за счет различных дотаций, причем не только финансовых. Региональные меры поддержки церковных инициатив в социальной сфере приобретали важное значение, поскольку церковные приходы и монастыри на протяжении XIX — нач. XX в. имели множество финансовых обязательств, де-факто — налогов, которые выполнялись за счет различных сборов. Средства изыскивались на различные нужды, в зависимости от той или иной ситуации. Всего во 2-й пол. 1890-х гг. насчитывалось более 50 различных сборов, как общецерковных, так и региональных (см. подр.: [Беглов, 2014, 58-59]). Очевидно, что при такой налоговой нагрузке на приход социальные инициативы становились попросту невозможны. К тому же начиная с 1808 г. у приходских общин был изъят едва ли не основной источник доходов — свечной сбор. Вся выручка от продажи восковых свечей направлялась в духовные консистории, которые, в свою очередь, перечисляли их в Комиссию духовных училищ. Конечно, большая финансовая обязанность приходов и духовенства в целом тормозила процесс внедрения различных социальных проектов.
Наравне с новыми формами церковных благотворительных учреждений продолжали функционировать приюты, богадельни, ночлежные дома при приходах и монастырях. Посмотрим статистику за 1905-1907 гг. 1905 г.: приходских больниц — 62, богаделен — 879; 1906 г. — 58 больниц и 883 богадельни; 1907 г. — 64 больницы и 853 богадельни (Всеподданнейший отчет, 1910, 99). Приведенные цифры свидетельствует об относительном постоянстве общего количества приходских социальных учреждений. Причем уже в 1909–1911 гг. можно наблюдать рост приходских богаделен: 1909 г.: 58 больниц и 933 богадельни (Всеподданнейший отчет, 1911, 102); 1911г.: 64 больницы и 948 богаделен. Добавим к этому 238 монастырских больниц и 162 монастырские богадельни (Всеподданнейший отчет, 1913, 36). Большинство заштатных монастырей не имело возможности содержать собственные социальные учреждения, и основная социальная нагрузка ложилась на приходы и сестричества. И дело здесь не только в больших финансовых возможностях последних, а в выбранной направленности их деятельности.
С началом Первой мировой войны активизировалась деятельность Православной Церкви в сфере общественного патриотического просвещения и помощи пострадавшим в результате боевых действий. Определением Священного Синода от 03.09.1914 г. епархиальным преосвященным было предписано «...призвать вверенное им духовенство к оказанию в возможно-широких размерах помощи раненым воинам во время следования их с места военных действий <…> присылкою белья и других предметов, для раздачи раненым, и вообще материальною помощью» (Всеподданнейший отчет, 1916, 19). Распространялись печатные материалы: Евангелие на русском языке в небольшом формате, «Собрание молитв для употребления воинами во время похода и в больницах», «Краткий молитвенник для православных воинов», «Молитвенная памятка воину, идущему на поле брани», «Молитвослов для мирян», «Краткий молитвослов», «Сборник молитв на всякий час потребных», акафисты, жития святых и пр. богослужебная и духовно-нравственная литература (Всеподданнейший отчет, 1916, 19–20).
Помимо сбора денежных средств и предметов индивидуального пользования, осуществлялась непосредственная помощь воинам. Так, в Петрограде был организован Алексеевский синодальный лазарет на 100 койко-мест в здании, которое принадлежало ведомству Православного исповедания. Содержание осуществлялось из средств жалованья, получаемого членами Св. Синода и работниками центрального аппарата ведомства, которые перечисляли 2% от своего месячного содержания (Всеподданнейший отчет, 1916, 21–22). На местах не только активно шла работа по изысканию денежных средств, но добровольно мобилизовались лица из числа монашествующих для помощи в проведении различных сельскохозяйственных работ. К примеру, в Вологодской епархии в августе 1914 г. от женского Крестовоздвиженского монастыря Яренского уезда 9 послушниц были отправлены для помощи в уборочной кампании семьям солдат (Вологодские епархиальные ведомости, 1914).
Подводя итог обозрению истории организационно-правового регулирования деятельности церковных социальных учреждений в XVIII — нач. XX вв., отметим, что появление новых форм церковных учреждений и направлений церковной социальной помощи преимущественно происходило в условиях протектората светской власти. Такое положение дел имело как положительное, так и негативное влияние на характер реализации церковных благотворительных проектов. С одной стороны, в распоряжении Церкви имелся ряд возможностей, предоставляемых статусом православия как государственного исповедания Российской империи. С другой стороны, развитие социальной церковной инфраструктуры стагнировалось применением доминирующего административно-командного принципа, что означало наличие целого ряда запретов и излишнюю бюрократизацию, существенно замедляющую появление церковных инициатив в сфере социального служения населению. Отметим, правда, увеличение в период Первой мировой войны государственной поддержки церковных инициатив по обеспечению фронта и тыла необходимыми ресурсами и кадрами. Однако данные действия уже не могли всерьез повлиять на сложившуюся систему социально-правового регулирования благотворительной деятельности церковных учреждений. И после Февральской и Октябрьской революций 1917 г. советское государство одним из первых актов упразднило общественные добровольческие объединения христианского характера и все церковные социально ориентированные учреждения.