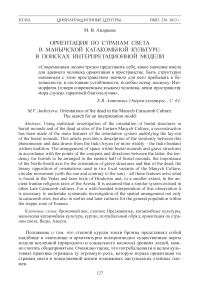Ориентация по странам света в манычской катакомбной культуре: в поисках интерпретационной модели
Автор: Андреева М.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия
Статья в выпуске: 230, 2013 года.
Бесплатный доступ
Используя статистическое исследование ориентации курганных структур в курганах и мертвых на участках Восточной Манычской культуры, была сделана реконструкция основных особенностей системы ориентации, лежащей в основе кладки курганов. В этой статье дается описание сходства между этим феноменом и данными, полученными из индоарийской (или более широко - индоиранской) письменной традиции. Расположение пространства в курганах и надгробных сооружениях в соответствии с точками компаса и направлениями между ними, десятью погрешностями для захоронений, которые должны быть расположены в восточной половине курганов, важность оси Север-Юг для ориентации из могильных структур и мертвых, двоякое противостояние ориентаций, используемых в двух локальных вариантах Маничской культуры, круговое движение (с солнцем и вопреки солнцу) - все эти черты эха, найденные в Ведах, а затем тексты индуизма и, в меньшей степени, в иранских религиозных текстах Авесты. Предполагается, что подобная система существовала и в поздних катакомбных культурах. Для обоснованной интерпретации этого наблюдения необходимо провести систематическое исследование пространственного расположения не только в местах катакомб, но и в более ранних и поздних культурах для общей популяции с степной зоной Евразии.
Бронзовый век, степное предкавказье, катакомбные культуры, манычская катакомбная культура, курган, погребальный обряд, ориентация по стра-нам света, веды, авеста
Короткий адрес: https://sciup.org/14328543
IDR: 14328543
Текст научной статьи Ориентация по странам света в манычской катакомбной культуре: в поисках интерпретационной модели
Положение о том, что степной курган эпохи бронзы представлял собой кладбище и святилище и архитектурно воспроизводил существенные черты модели вселенной (природного и социального космоса) древних людей, можно считать общепринятым. Очевидно также, что погребальная (и в целом культовая) практика отражала ту огромную роль, которую играла ориентация по странам света в повседневной жизни подвижных пастушеских степных племен.
В общем виде, в бронзовом веке расположение комплексов в кургане определялось создателями этих погребальных памятников (как и сегодня определяется их исследователями) в системе прямоугольных координат, ориентированной по странам света, с началом в центре, отмеченным могильной конструкцией основного погребения1. Иногда, в монокультурных курганах, планиграфические решения очевидны: впускные погребения располагаются по окружности (дуге) вокруг основного, реже – выстраиваются с ним в один ряд. Чаще ситуация выглядит более запутанной: курган содержит погребения нескольких сменявших друг друга на данной территории культур, по одному-два однокультурных комплекса, и уловить систему расположения для каждого пласта становится затруднительным. Бывают и более сложные случаи, связанные с неоднократным смещением центра кургана, и совсем простые ситуации «свернутой» планиграфии, когда в кургане имеется только одно основное погребение (или так называемый кенотаф). Но ведущий принцип формирования курганного пространства – ориентирование объектов с учетом стран света и в соотнесенности с центром – можно считать неизменным.
В полевых отчетах стандартно фиксируются ориентировки погребенного и могильного сооружения, а также место последнего в кургане (направление от условного репера на вершине насыпи и/или (редко) направление от центра основного погребения). В исследовательских работах прошлых десятилетий главное внимание уделялось, как правило, суммарным характеристикам только первых двух видов ориентировок (погребенного и могильного сооружения), поскольку они входят в число диагностических признаков, позволяющих решать первоочередные систематизаторские задачи выделения периодов и культур. Объектом изучения в первую очередь становились массивы так называемых закрытых комплексов; курганной планиграфии (не говоря уже о планиграфии могильников, чаще всего раскапываемых не полностью в рамках «спасательных», или «охранных», полевых работ) уделялось существенно меньше места. При этом никто из археологов не сомневается в том, что именно изучение ориентировок погребенного, могильного сооружения (и его частей) и направления от центра кургана к этому сооружению в их взаимосвязи должно лежать в основе реконструкции систем ориентации в разных культурах.
Цель приводимого ниже текста – кратко обосновать перспективность изучения могильной и курганной планиграфии памятников эпохи бронзы, опираясь, главным образом, на материалы изучаемой автором восточноманычской катакомбной культуры – точнее, восточного варианта манычской катакомбной культуры, занимавшего степи восточного Предкавказья во третьей четверти
III тыс до н. э., согласно принятой на сегодняшний день системе калиброванных радиоуглеродных дат. Сначала необходимо кратко повторить результаты изучения ориентационной практики у носителей восточноманычского погребального обряда ( Андреева , 2008а; 2008б; 2009; 2010б), чтобы далее перейти к вопросу о возможной интерпретации этих данных. Изучались материалы БД, включавшей описания 486 индивидуальных погребений из 249 курганов 28 памятников.
Наиболее точно ориентировки задавались носителями обряда для небольших и геометрически правильных объектов, каковыми являются могильные сооружения . В нашем случае это прямоугольные и квадратные могильные ямы и входные шахты катакомб (321 конструкция в материке2; число катакомб вдвое превосходит число ям). Среди катакомб около 80% представляли собой Н-кон-струкции (оси входной шахты и камеры параллельны), остальные – Т-кон-струкции (оси перпендикулярны). Оказалось, ориентировки в обоих массивах – входных шахт и могильных ям – распадаются по 4 (а не 8, как было заложено изначально) направлениям, а именно – по странам света (С–Ю и В–З) и диагональным (промежуточным) направлениям (СВ–ЮЗ и ЮВ–СЗ). Обращает на себя внимание очень близкое сходство распределения ориентировок шахт и ям: абсолютно доминируют основные направления (75%), а среди них меридиональное преобладает над широтным (в соотношении 2:1); диагональное направление ЮВ–СЗ встречается в 1,8 раза чаще, чем перпендикулярное ему.
Традиционно погребенные по обряду трупоположения (захоронения экс-карнированных костей составляют всего около 3% массива) укладывались в стандартной позе – на левый бок, скорченно, чаще всего в бедрах под прямым, в коленях под острым углом, тяготея к «идеальной схеме»: берцовые кости параллельны бедренным, стопы у таза (чего невозможно, видимо, было достичь без подрезания сухожилий и связывания), руки вытянуты к коленям. Такая поза предполагает, что умершего ориентировали именно головой и/или лицом, а не ногами. В могильных конструкциях тело помещалось вдоль оси могильной ямы, а в камерах катакомб – параллельно входному отверстию, лицом к входу (т. е. параллельно или, существенно реже, перпендикулярно оси входной шахты). Это позволяет скорректировать незначительные отклонения расположения останков от оси камеры и сводить ориентацию головы (и лица) к 8 направлениям. Три четверти погребенных ориентированы головой в основных направлениях в следующей пропорции: юг – 59%, восток – 30%, север – 7%, запад – 4%. Оставшаяся четверть лежала головой в промежуточных направлениях в соотношении: ЮВ – 45%, ЮЗ – 27%, СВ – 16%, СЗ – 12%. Очевидно, что основная масса умерших укладывалась головой на юг (или ориентирована головой в южную половину), т. е. лицом на запад (в западную половину). За ней следует группа, ориентированная головой на восток (или в восточную половину), соответственно лицом на юг (или южную половину). Ориентировки головой на север и запад (лицом на восток и север) явно представляют собой особые случаи переворачивания.
Что касается размещения комплексов в курганах , то оно также подчинялось определенной системе, которая реализовалась в каждом отдельном кургане лишь частично из-за низкой плотности3. Погребения преимущественно сосредотачивались в восточной половине кургана (по секторам: СВ – 25%, В – 16%, ЮВ – 21%), редко появлялись в меридиональных секторах (С – 6%, Ю – 8%), в западной половине сильнее нагружен СЗ сектор (ЮЗ – 8%, З – 8%, СЗ - 12%), так что можно отметить еще и несколько большую нагрузку северной части насыпи по сравнению с южной4. Могильные конструкции, ориентированные по основным направлениям, больше концентрировались в диагональных секторах, а из основных – в восточном, в то время как конструкции, развернутые в промежуточных направлениях, сосредотачивались исключительно в диагональных секторах и преимущественно ориентировались перпендикулярно радиусу кургана. Соответственно, учитывая позу на левом боку, погребенных укладывали в восточной половине кургана «посолонь», а в западной - «противосолонь» (в последнем случае сохраняя ориентировку головы преимущественно в южном, а лица – в западном направлениях; катакомбы здесь разворачивались камерами к центру кургана, в то время как в основной массе катакомб, находившихся в восточной половине, камера выводилась в направлении от центра). Связь ориентировок погребенных с движением солнца позволяет предполагать, что таким образом в обряде передавалось направление движения усопшего в «страну мертвых», располагавшуюся на юге. Идея пути воплощалась и в помещении в могилы повозок и их частей, и в символическом уподоблении шахт и ям повозкам ( Андреева , 1996; 2008б. С. 20; о традиции помещения повозок в погребения раннего и среднего бронзового века см.: Избицер , 1993; Гей , 1999).
Таким образом, отчетливо проступает система размещения, построенная на двух взаимосвязанных пространственных принципах (кодах): астрономическом (ориентация по странам света и выбор направления внутри оппозиций «основное – диагональное», «меридиональное – широтное», «южное – северное», «восточное – западное», а также «посолонь – противосолонь») и антропоморфном (структурирование пространства с помощью оппозиций
«левый – правый», «передний – задний», «верхний – нижний»). Все эти оппозиции, безусловно, использовались для организации курганного пространства и раньше – и в раннекатакомбный, и в докатакомбный периоды бронзового века, представленные сериями ямных, северокавказских, ямно-катакомб-ных и северокавказско-катакомбных погребений, происходящих не только с этой же территории, но и зачастую из тех же могильников и курганов, что и манычские комплексы. Сущность инновации состояла в появлении системы, которая: 1) очевидным образом связывала между собой три вида ориентировок (погребенного, могильного сооружения, направления от центра кургана): 2) упорядочивая, соединяла ряды оппозиций астрономического и антропоморфного кодов; 3) делала упор на важности южного и западного направления в ориентировке погребенных (головой и лицом), меридионального направления в ориентировке могильных конструкций, а также на желательности размещения могил в восточной половине кургана5. Ничего подобного в материалах предшествующих пластов мы не наблюдаем (характеристику этих материалов см.: Державин , 1991; Шишлина , 2007).
Надо сказать, что от раннекатакомбной культуры восточноманычскую традицию отличает еще целый ряд признаков: поза погребенного, форма и пропорции катакомб и ям, преимущественно «орудийный» характер погребального инвентаря и редкость личных украшений, как правило невыразительных. С другой стороны, очевидна и преемственность: это и сама традиция хоронить в катакомбах, и сохранение категориального набора вещей, сложившегося еще в эпоху ранней бронзы в памятниках майкопской культуры, и приверженность восточноманычцев к старым курганным могильникам (подробнее см.: Андреева , 2009). Учитывая быструю смену обрядовых стереотипов (число комплексов, сочетающих раннекатакомбные и восточноманычские черты, очень невелико), можно предположить проведение организованной реформы культа (явление для поздней первобытности редкое, но не невозможное).
Не надо, однако, забывать, что рассмотренные нами восточноманычские древности являются частью манычской катакомбной культуры (иногда говорят о манычском круге), занимающей также западные области степного Предкавказья. Памятники манычской культуры объединяет сходство могильных сооружений (преимущественно Н- и реже Т-катакомбы) и могильного инвентаря (включая специфические виды посуды – реповидные и чугунковидные горшки, курильницы, наборы бронзовых и каменных орудий, изредка – повозки). Приблизительная граница между территориями вариантов проходит по меридиональному течению р. Калаус и р. Джурак-Сал.
В обоих вариантах – восточно- и западноманычском – погребения сосредотачиваются в восточной поле кургана, однако погребенные имеют противоположные доминирующие ориентировки (в западном варианте – головой на С и З), а погребенные при сходной позе (скорченно на боку, параллельно входу, лицом к нему) укладывались на разные стороны (в западном варианте – на правый бок).
В результате погребенные в обоих культурных вариантах оказываются повернутыми лицом на З и Ю.
Эти наблюдения были сделаны достаточно давно ( Кияшко , 2002) 6 и недавно более детально подтверждены статистически Н.М. Власкиным, отметившим также, что, «по-видимому, в развитое и позднекатакомбное время... размещение конструкции в кургане подчиняется новой системе» ( Власкин , 2010. С. 12). К сожалению, детальную характеристику «новой системы» автор не дал. Отметим, что сопоставить выявленную на восточноманычском материале систему ориентации с западноманычской сегодня мешают разные методики выделения и подсчета признаков. Это относится и к материалам других позднекатакомбных культур, прежде всего соседних - интенсивно изучаемой среднедонской (последний подробный историографический обзор см.: Федосов , 2012), доно-волжской, батуринской; об отсутствии единой исследовательской стратегии как тормозящем факторе при изучении катакомбной КИО см.: Гей , 2011.
В посткатакомбное время погребальные традиции катакомбных культур уходят в прошлое, постепенно исчезают сами катакомбы и распадается описанная выше система размещения. На раннем этапе этого процесса любопытен демонстративный отказ от прежних норм: в лолинской культуре, сменяющей восточ-номанычскую, погребенные сохраняют общую позу на левом боку, но разворачиваются головой в северных направлениях (погребенные смотрят на восток) ( Мимоход , 2007; 2013).
Несколько десятилетий назад известный английский ученый, социальный антрополог Э. Лич, особо подчеркнул фундаментальный характер пространственного моделирования для человеческой культуры в целом, отметив, что «чем однообразнее контекст реального территориального пространства, тем более жесткой и искусственной оказывается модель» ( Лич , 2001. С. 66). Тем не менее, выявленная система размещения погребений в кургане, характерная для манычской катакомбной культуры, удивляет и настораживает археолога именно своей продуманной схематичностью. Ссылки на организацию регламентированного по странам света пространства современной монгольской юрты или ненецкого чума ( Андреева , 2008б. С. 110)
6 В своей книге А.В. Кияшко сделал ряд наблюдений, важных, в частности, и для рассматриваемой нами темы: о существовании «сквозных», идущих от эпохи ранней бронзы и живущих на протяжении всего катакомбного (среднебронзового) периода традиций укладывания умершего «на спину с разворотом направо» или на правый бок с ориентацией (головой или лицом) на З в Доно-Донецком регионе, и «на спину с разворотом налево» или на левый бок с ориентацией (головой или лицом) на В – в Волго-Манычском; о «едином механизме изменения ориентировок (от широтных к меридиональным), отчасти поз (со спины – на бок) при переходе к катакомбному обряду» и о существенной трансформации катакомбного обряда при переходе к позднекатакомбному этапу на всей территории Доно-Волжского междуречья. Некоторые из этих синхронных изменений отразились (хоть и в незначительной степени) в погребальных традициях населения Волго-Уралья. Это привело исследователя к констатации существования единства общих принципов пространственной регламентации («системность погребального обряда») на территории от Приазовья до Приуралья ( Кияшко , 2002. С. 71-78).
не проясняют ситуацию, когда речь идет о глубокой древности. Вероятно, больше может помочь обращение к данным древнейших письменных источников.
Сделать первый шаг в этом направлении помогает обстоятельная монография А.В. Подосинова (1999), подводящая итог более чем столетнему изучению проблемы. Книга состоит из двух частей. В первой рассматривается огромный материал по ориентационным системам древних культур (разделы: Китай, Индия, Иран, Месопотамия, Египет, Иудея, Греция, Этрурия и Рим, манихеи и мандеи, народы северной Евразии - кельты, германцы, славяне, финно-угры, тюрки, монголы и другие народы Сибири (сибирское шаманство), великие мировые религии – буддизм, христианство и ислам). Вторая часть – аналитическая. Здесь можно найти такие сюжеты, как символы и модели сакрального пространства, страны света в системе символических классификаций, храм как модель космоса, сакральная ориентация «светских» объектов, ориентации погребений и погребенных, картографическая ориентация.
Опираясь на это исследование, можно кратко (насколько допускает объем статьи) сопоставить наши наблюдения над археологическими материалами с данными индоиранской традиции, запечатленными в Ведах и проникнувшими впоследствии в индуизм. Обращение в первую очередь к ведийской культуре не случайно. С одной стороны, уже приходилось отмечать, что «вывод о присутствии (прото)индоиранцев в южном, степном регионе Евразии по крайней мере начиная с III тыс. до н. э., полученный на основе изучения главным образом лингвистических данных, за прошедшие десятилетия обрел статус рабочей гипотезы» ( Андреева , 2013), и более того, в целом ряде работ Л.С. Клейн представил аргументацию индоарийской принадлежности катакомбных памятников ( Клейн , 1980; 2007; Klejn , 1984). С другой стороны, ведийские источники выделяются среди общего индоевропейского наследия своей древностью7, а также количеством и ярким своеобразием интересующей нас информации. Фрагментированные данные древнеиранской традиции, сохранившиеся в Авесте, могут быть рассмотрены и поняты только в связи с Ведами8.
Я позволю себе привести краткую характеристику основных черт ориентационной системы древней Индии, опираясь, главным образом, на прямые цитаты из исследования А.В. Подосинова, изредка отсылая читателя к другим известным работам (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983; Кейпер, 1986; Пандей, 1990).
Как подчеркивает А.В. Подосинов, «вся жизнь древних индийцев, обставленная многочисленными обрядами и ритуалами, регулировалась строгими ориентационными правилами», более того, «из всех индоевропейских народов индийцы сохранили (или развили), пожалуй, одну из самых последовательных ориентационных систем, которая, кажется, пронизывала все стороны жизни». Речь идет именно об ориентации по странам света, с которой соотносились практически все действия не только в рамках ритуалов, но и в быту («даже чистить зубы или справлять нужду предписывалось в определенном направлении по странам света»). «Основные публичные церемонии ведической Индии – жертвоприношение Агни и жертвоприношение Сомы – представляют собой грандиозное многодневное действо, в котором каждое движение участников церемонии в подробностях расписано и при этом обязательно указывается ориентация этого движения (или взгляда, или тела, или расположения различных аксессуаров церемонии)». Столь же большую роль играла ориентация по странам света в многочисленных домашних обрядах ( Подосинов , 1999. С. 92, 120, 93).
Вторая важная особенность системы состояла в том, что обожествлялись не только основные страны света, но и промежуточные: «каждая основная страна света и четыре промежуточные имели своих богов-хранителей. Они назывались “локапалами”… В число божественных патронов стран света входили боги Индра, Ваю, Яма, Агни, Сома, Варуна, Рудра, Кубера, Адитья и др. Так, например, в “Законах Ману” (III, 87) рассказывается об обряде жертвоприношения, который следовало совершать богам “по всем направлениям слева направо”, начиная с востока, – Индре (иногда здесь появляется Кубера, Агни или Солнце) на востоке, Яме на юге, Варуне на западе (эти два божества ни с кем не делят своей власти над югом и западом) и Соме на севере. Наряду с Сомой севером мог “заведовать” Индра или Кубера… Четырьмя промежуточными странами света управляли Ишана-Шива (северо-восток), Агни (юго-восток), Найратрья или Вирупакша или Сурья (юго-запад) и Вайю (северо-запад)» ( Подосинов , 1999. С. 90)9.
Основными небесными светилами, с особым положением которых связывались страны света практически у всех народов северной Евразии, были солнце (точки восхода и захода солнца в дни равноденствия отмечают восток и запад, зенит (полдень) – юг) и Полярная звезда, точнее, поляриссима – видимая звезда, находившаяся примерно на оси вращения Земли10. Индийский эпос («Махабха- рата» и «Рамаяна»), драма и ритуальные священные книги индуизма сообщают также о важнейшем мифологическом географическом ориентире - возвышающейся на севере горе (горах) Меру, месте обитания богов. Что касается промежуточных направлений, то они предстают на первый взгляд чисто ментальными конструкциями, маркирующими «зоны перехода» между основными направлениями.
Наконец, в-третьих, необходимо сказать о специфических свойствах ведийской «розы ветров», в которой двум странам света - северу и восто-ку– были присущи «положительные» коннотации, а двум оставшимся – югу и западу – «отрицательные». «Обычно считается, что восток был главной, сакральной стороной, игравшей важную роль в культе брахманов», отмечает А.В. Подосинов, оговариваясь, впрочем, далее, что «все-таки ориентационная практика у индийцев, как и у других народов, оказывается далеко не однозначной (восточной), но многослойной и разнообразной… Во многих обрядах источники упоминают жертвы, которые должны были приноситься с обращением ко всем сторонам горизонта». Тем не менее, восточная (солярная) ориентация имела очень большое значение «в обрядах, церемониях и культе индийцев»: «о востоке как сакральной стороне при жертвоприношениях не раз упоминается в ведической литературе» (Подосинов, 1999. С. 93–95). Северное направление, как и восточное, было сугубо сакральным. «Тексты, описывающие жертвоприношение Агни и Сомы, показывают северную ориентацию главных культовых действий с вкраплениями восточноориентированных элементов при жертвенных возлияниях». «Двунаправленность главной ориентации проявляется также и в том, что алтари, которые были обращены к востоку, строились так, что жрец, их сооружающий, должен был сам смотреть на север». В многочисленных домашних «обрядах перехода» (санска-рах) одновременно могли учитываться «две благоприятные “киблические” стороны света - восток и север». В целом, «северо-восточная четверть горизонта воспринималась как резиденция богов и людей, направление к солнцу, где находятся врата небес». «Южная страна света была твердо связана… с царством мертвых. Его владыкой был бог Яма». «По представлениям древних индийцев, Яма умер первым, чтобы показать людям путь на тот свет после смерти… Многие ритуалы, связанные с погребением, имеют своим направлением именно юг» (Там же. С. 95, 96, 100). Для нашего сюжета особенно важно, что умирающего укладывали головой к югу, так же располагали тело умершего на погребальных носилках; «во время похорон покойника клали головой на юг, когда он лежал на погребальном костре и душа его была на пути в обитель Ямы» (Пандей, 1990. С. 195, 196; 65). Вместе с тем, во многих памятниках древнеиндийской мысли (в Упанишадах, Бхагаватгите) зафиксировано представление о «двух путях» в посмертии: «путь к предкам» (питрияна) - на юг, во тьму, в ночь, в зиму, в царство мертвых - это, по-види-мому, путь обычного смертного, не отличившегося особыми духовными подвигами. Умершему таким образом предстоит перерождение (сансара) и обратный путь на землю. «Путь к богам» (дэваяна) – на север, к свету, в день, в лето и, вероятно, в бессмертие – таков путь избранных, не подлежащих сансаре» (Подосинов, 1999. С. 102). Наконец, «западная сторона не несет, как кажется, особых ритуальных функций. Однако вместе с южной стороной она занимает нижнюю, неблагоприятную часть мира» (Подосинов, 1999. С. 97). «В сознании людей восток ассоциировался со светом и теплом, жизнью, счастьем и славой, запад – с темнотой и холодом, смертью и закатом» (Пандей, 1990. С. 65). Кроме того, как отмечает Ф.Б.Я. Кейпер, «в системе классификации, которая организует явления в соответствии с направлением стран света, верхний мир представлен севером и востоком, а нижний - западом и югом» (Кейпер, 1986. С. 42). Согласно лингвистическим данным, восток ассоциировался у древних индийцев с передней стороной, юг – с правой, север – с левой, запад – с задней (Подосинов, 1999. С. 94).
Как известно, «в большинстве архаических культур мира царство мертвых находится на западе и (или) под землей... даже если царство мертвых находилось под землей, то вход в него часто локализовался где-то на западе... На западе, кроме греков, помещали страну мертвых этруски и римляне, египтяне и народы Передней Азии, кельты и некоторые народы Сибири. Этнография находит такое же западное расположение загробного царства у многих так называемых примитивных народов Старого и Нового света» (Там же. С. 577). Реже загробный мир оказывался на темном и холодном севере (большинство народов Северной Евразии и Китай).
«На фоне других древних культур Евразии понятна сакральная ориентация на восток и признание “задней” западной стороны неблагоприятной. Но почему север и юг полностью поменялись своими функциями, эта загадка вызывает много предположений и дискуссий… Почему царство Ямы имеет южную, а не западную или северную ориентацию?.. Почему северная сторона, обычно считавшаяся темной, холодной и неблагоприятной, обрела у индийцев такое большое положительное значение, прямо ассоциируясь с солнцем, с его движением?.. Связь сакральности севера с движением солнца, зафиксированная у индийцев, представляется на первый взгляд абсурдной: любая из трех других стран света имеет больше оснований ассоциироваться с различными моментами прохождения солнца по горизонту (восход, зенит, заход), чем север. А ведь участники похоронного обряда, возвращаясь в обычную жизнь, проходят по борозде к северу, представляя это “цедилкой Савитара” – бога солнца, и считая, что они идут “вверх, к солнцу”. Думается, что основой такой сакрализации севера было не ежедневное движение солнца по горизонту, а годичное странствие его из южного полушария в северное и наоборот. Ведь именно движение солнца на север с момента зимнего солнцестояния ассоциировалось с началом новой жизни, приближением тепла, света, весны и прочих благ, сущностно необходимых для жизни человека. Существуют многочисленные тексты, в которых “северный путь солнца” при различных обрядах связывается с началом, рождением, утром, в то время как “южный путь солнца” – с гибелью, вечером, концом (Пандей, 254)» (Там же. С. 120–121).
Точка зрения А.В. Подосинова, которая кажется весьма правдоподобной, нуждается в одном важном дополнении. Очевидно, что наблюдения над «годичным странствием солнца» должны были совершаться гораздо севернее Индии, в частности Пенджаба, куда прибыли древние арии и где отклонения солнца от линии В–З в дни зимнего и летнего солнцестояний крайне незначительны (меньше 10º). В эти дни солнце отмечает своим восходом и заходом промежуточные направления – СВ и СЗ летом и ЮВ и ЮЗ зимой – далеко на севере, на широте около 55º. Тем не менее, именно северо-восточное направление индоарии считали направлением к солнцу и «вратами небес». Это заставляет вспомнить о явном (но с трудом поддающемся интерпретации) «северном следе» в древнеиндийских источниках: знакомстве с такими явлениями, как полярные день и ночь, длящиеся по полгода («сутки богов»), «плененные воды» замерзшего «молочного» (ледяного) океана, стояние высоко в небе Полярной звезды и Большой Медведицы11 (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 4–7). Более или менее очевидно, что и сама ведийская ориентационная система, и традиция использования ее в качестве универсального культурного кода сложились, во-первых, раньше появления ариев на исторической арене и, во-вторых, в областях севернее Индии.
Общим для народов Евразии в целом и для индоевропейских народов в частности, прекрасно представленным в древнеиндийской культуре является ритуальное движение по кругу : в благоприятном направлении – по солнцу (вед. «пра-дакшина», лат. dextratio, посолонь, слева направо), в неблагоприятном – против движения солнца (вед. «прасавьям», лат. sinistratio, противосолонь, справа налево). «Прадакшина в микро- и мезокосме отражала макрокосмическую пра-дакшину – видимое движение светил вокруг полюса, который локализовался на горе Меру. При совершении ритуалов прадакшина чаще всего начинала совершаться с востока». Обход «прасавьям» совершался, «в частности, при похоронном обряде ( шраддха ) и в действиях вредоносной магии, где предполагалось, что все происходит наоборот по сравнению с нормальным, земным миром» ( По-досинов , 1999. С. 98).
И, наконец, последнее, на что хотелось бы обратить внимание: «возникновение северной сакральной ориентации у индийцев стоит в резком контрасте с системой понятий, связанных с правой и левой стороной и унаследованных индийцами скорее всего от древних индоевропейских предков… Ведь “правое” – благоприятное, сильное, упорядоченное, светлое, разумное, – оказывается еще и южным, имеющим прямо противоположную характеристику!.. По всей видимости, благоприятное значение правой стороны… превалировало над представлением о неблагоприятности южной стороны и составляло не пересекающуюся с ним систему пространственных ориентиров» (Подосинов, 1999. С. 121). Эту «сложносоставность» системы, состоящей из астрономического и антропоморфного ориентационных кодов, следует иметь в виду и при рассмотрении наших археологических материалов.
Наши знания об ориентационной системе (системах) древних иранцев отрывочны. «Древнеиранские мифология, религия и эпос известны нам не так хорошо, как у других народов… Северно-причерноморские и среднеазиатские иранцы были бесписьменными народами, древнейшие иранские религиозные тексты (например, “Авеста”, имевшая для иранцев то же значение, что “Веды” для индийцев, сохранились в неполном виде)». Ситуация осложняется тем, что, по мнению А.В. Подосинова, «у иранцев существовали различные ориентационные системы, обусловленные наложением друг на друга различных по генезису религиозных верований, – наиболее древняя (индоиранская) и зоро-астрийская». Восстанавливаются лишь некоторые важные фрагменты систем, в частности, что «наиболее древняя (индоиранская) признавала сакральный север с горой высокая Хара (Меру), вторая (зороастрийская) считала север средоточием зла». «Во второй главе “Вендидада” рассказывается о “блаженной обители”, которую, по предложению Ахура-Мазды, создал недалеко от высокой Хары древнеиранский герой Йима (родственный индийскому Яме). Описание обители показывает, что речь идет о рае, где избранные люди ведут прекрасную жизнь среди великолепной природы, без болезней и забот». «Если учесть, что в Индии Яма был богом царства мертвых (предков), расположенного на юге, то его иранский “коллега” предстает также в роли правителя потустороннего мира, но в его райской северной ипостаси… Напомню, что в Индии наряду с представлением о “пути к предкам” (в южное царство Ямы) существовало и другое – о пути к “богам” для особо отличившихся благочестием; этот путь в бессмертие, по-видимому, географически вел к северной горе Меру» (Там же. С. 124, 146, 130, 128, 129). Можно обратить внимание на то, что приведенное выше наблюдение демонстрирует переворачивание бинарной оппозиции С–Ю, внешне сходное с феноменом западно- и восточноманычских «антиподов».
Возвращаясь к степным курганным могильникам Предкавказья, констатируем, что выстраивание пространства кургана и могильного сооружения с помощью ориентации по странам света и промежуточным направлениям, тяготение погребений к одной – восточной – половине кургана, доминирование оси С–Ю в ориентировании могильных конструкций и погребенных, бинарная оппозиция и, в то же время, единство ориентировок в двух локальных вариантах манычс-кой культуры (головой на Ю или С, но в обоих случаях – лицом на З), отсылка к круговому движению (посолонь/противосолонь), связанному с антропоморфным ориентационным кодом (правый – левый), – все эти особенности находят соответствие в Ведах и связанных с ними более поздних памятниках индуизма. Естественно поставить вопрос, не наблюдаем ли мы в рассмотренных археологических материалах эпохи средней бронзы из Предкавказья очень древние корни ориентационной системы, полнее всего сохраненной в ведийских и индуистских текстах и ритуалах? Как широко была распространена подобная система
(системы)12 в культурах степной и лесостепной зон Евразии? Для решения этих вопросов необходимо систематическое исследование организации пространства не только в катакомбных (в том числе и манычских), но и в более ранних и поздних рядовых (именно массовых, а не только выдающихся) памятниках (погребальных и поселенческих) всей этой полосы. Работа, которая, в сущности, только начинается.
Список литературы Ориентация по странам света в манычской катакомбной культуре: в поисках интерпретационной модели
- Авилова Л.И., 2008. Металл Ближнего Востока: модели производства в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. М.: Памятники исторической мысли. 227 с.
- Авилова Л.И., 2011. О символике металлических реплик орудий труда (по материалам Ближнего Востока эпохи бронзы)//Вестник Московского государственного областного университета. Сер. История и политические науки. № 1. С. 87-95.
- Андреева М.В., 1996. К вопросу о роли повозки в погребальном обряде восточноманычской катакомбной культуры//Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа (XIX Крупновские чтения): Тез. докл. конф. (Москва, апрель 1996)/Отв. ред. Г.Е. Афанасьев. М.: ИА РАН. С. 13-16.
- Андреева М.В., 2008а. Восточноманычская катакомбная культура (анализ погребальных памятников): Автореф. дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06 «Археология». М. 27 с.
- Андреева М.В., 2008б. Восточноманычская катакомбная культура (анализ погребальных памятников): Дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06 «Археология». М. 435 с.
- Андреева М.В., 2009. Традиции и новации в погребальном обряде катакомбных племен Северо-Восточного Предкавказья//КСИА. Вып. 223. С. 101-115.
- Андреева М.В., 2010а. Бронзовые орудия из катакомбных погребений Предкавказья: культовая и социально-знаковая функции//Человек и древности: Памяти Александра Александровича Формозова (1928-2009): Сб./Ред. И.С. Каменецкий, А.Н. Сорокин. М.: Гриф и К. C. 426-457.
- Андреева М.В., 2010б. Особенности организации курганного пространства в погребальном обряде восточноманычской катакомбной культуры//КСИА. Вып. 224. С. 171-185.
- Андреева М.В., 2013. «Выжатые капли»: к вопросу о поисках ранних следов индоиранского культа Сомы/Хаомы в археологических источниках//КСИА. Вып. 229. С.105-120.
- Антонова. Е.В., 1984. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии: Опыт реконструкции мировосприятия. М.: Наука. 262 с.
- Ардзинба В.Г., 1982. Ритуалы и мифы древней Анатолии. М.: Наука. 252 с.
- Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 1983. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль. 206 с.
- Власкин Н.М., 2010. Сравнительная характеристика катакомбных культур манычского типа: Автореф. дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06 «Археология». СПб. 24 с.
- Гей А.Н., 1999. О некоторых символических моментах погребальной обрядности степных скотоводов Предкавказья в эпоху бронзы//Погребальный обряд: Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений: Сб. ст./Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: Восточная литература. С. 78-113.
- Гей А.Н., 2000. Новотиторовская культура. М.: Старый сад. 223 с.
- Гей А.Н., 2011. Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности//КСИА. Вып. 225. С. 3-10.
- Державин В.Л., 1991. Степное Ставрополье в эпоху ранней и средней бронзы. М.: ИА РАН. 186 с.
- Избицер Е.В., 1993. Погребения с повозками степной полосы Восточной Европы и Кавказа III-II тыс.до н. э.: Автореф. дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06 «Археология». СПб. 26 с.
- Кейпер Ф.Б.Я., 1986. Труды по ведийской мифологии. М.: Наука. 196 с.
- Кияшко А.В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. 268 с.
- Клейн Л.С., 1980. Откуда арии пришли в Индию?//Вестник Ленинградского университета. № 20. С. 35-39.
- Клейн Л.С., 2007. Древние миграции и происхождение индоевропейских народов. (Рукопись).
- URL:http://rutracker.org
- Клейн Л.С., 2010. Время кентавров: Степная прародина греков и ариев. СПб.: Евразия. 496 с.
- Лич Э.Р., 2001. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов: К использованию структурного анализа в социальной антропологии. М.: Восточная литература. 142 с.
- Мимоход Р.А., 2007. Лолинская культура финала средней бронзы Северо-западного Прикаспия//РА. № 4. С. 143-154.
- Мимоход Р.А., 2013. Лолинская культура. Северо-западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века: Автореф. дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06. М. 28 с.
- Пандей Р.Б., 1990. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи). 2-е изд. М.: Высшая школа. 319 с.
- Подосинов А.В., 1999. Ex Oriente Lux! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М.: Языки русской культуры. 720 с.
- Федосов М.Ю., 2012. Катакомбные культуры Донецкого-Доно-Волжского региона (по материалам погребальных памятников): Автореф. дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06 «Археология». СПб. 22 с.
- Шишлина Н.И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тысячелетия до н. э.). М.: ГИМ. (Тр. ГИМ. Вып. 165.) 398 с.
- Klejn L.S., 1984. The coming of Aryans: who and whence?//Bulletin of the Deccan College Research Institute (Pune). Vol. 43. P. 57-72.