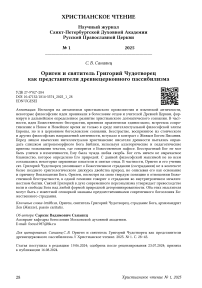Ориген и святитель Григорий Чудотворец как представители древнецерковного пассивизма
Автор: Санаянц С.В.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
Несмотря на антагонизм христианского провозвестия и языческой античности, некоторые философские идеи проникали в богословие отцов и учителей Древней Церкви, формируя в дальнейшем определенное развитие христианского догматического сознания. В частности, идея Божественного бесстрастия, принятая практически единогласно, встретила сопротивление в Новое и Новейшее время не только в среде интеллектуальной философской элиты Европы, но и в церковном богословском сознании. Бесстрастие, воспринятое из стоического и других философских направлений античности, вступало в контраст с Живым Богом Писания. Перед лицом языческих интеллектуалов христианские писатели древности пытались оправдать слишком антропоморфного Бога Библии, используя аллегорические и педагогические приемы толкования текстов, где говорится о Божественном пафосе. Бесстрастный Бог не мог быть уличен в изменчивости, Ему была чужда любая скорбь. Бог есть ничем не омрачаемое блаженство, которое определено Его природой. С данной философской максимой не во всем соглашались некоторые церковные писатели и святые отцы. В частности, Ориген и его ученик свт. Григорий Чудотворец упоминают о Божественном страдании (сострадании) не в контексте более позднего христологического дискурса двойства природ, но описывая его как основание и причину Воплощения Бога. Ориген, несмотря на свою твердую позицию в отношении Божественной бесстрастности, в одной гомилии говорит о страдании во внутритроичном межличностном бытии. Святой Григорий в духе современного персонализма утверждает превосходство воли и свободы Бога над любой формой природной детерминированности. Оба этих мыслителя могут быть с известной оговоркой названы предшественниками современного богословия Божественного страдания.
Ориген, святитель григорий чудотворец, страдание бога, архимандрит лев (жилле)
Короткий адрес: https://sciup.org/140309279
IDR: 140309279 | УДК: 27-9"02"-284 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_28
Текст научной статьи Ориген и святитель Григорий Чудотворец как представители древнецерковного пассивизма
Введение. Антагонизм истории и современности
Ярослав Пеликан подчеркивает, что учение о Божественном бесстрастии1 отмечено значительным влиянием греческой античной мысли. В этой связи богословы Церкви стояли перед сложной дилеммой: с одной стороны, Бог показан в Писании как независимый и трансцендентный Источник всего сущего, с другой — Он же связан со Своим народом, испытывает эмоции, гнев и печаль, радость и раскаяние. Как примирить обе эти позиции, при этом используя ставшее традиционным для христианской эллинистической мысли учение о Божественной ἀπάθεια (см.: [Пеликан, 2007, 50])? Это учение подразумевало два вывода: свободу Бога от страданий и любой изменчивости, а также безразличие Бога по отношению к страданиям людей, некий образ стоической безмятежности. И свв. отцы, следуя традиционному античному взгляду на природу Бога как неизменного и бесстрастного, принимали это учение как аксиоматическое. Аргументация свт. Григория Чудотворца, которая будет упомянута ниже, станет традиционной для данной проблематики. Даже такой противник использования философии в богословии, как Тертуллиан, в своих богословских спорах ссылается на учение об apatheia как на библейское, хотя Библия не дает оснований уверенно заключить, что Бог абсолютно апатичен в Своей самодостаточности по отношению к миру (см. подр.: [Пеликан, 2007, 51]). Святитель Афанасий Великий, Дидим Слепец, Феодор Мопсуестийский, свт. Кирилл Александрийский, свт. Григорий Нисский и другие мыслители Церкви принимали философское положение о самодостаточности и бесстрастии Бога, поскольку Он совершенен и прост, а мир — тварен и сложен. Даже намек на страсть в Боге рассматривался как богохульство (см. подр.: [Пеликан, 2007, 51]).
Конец XIX и нач. XX в. ознаменованы переходом от понимания бесстрастности Бога к пониманию Его пассиологичности2, т. е. сострадания миру, в том числе и страстности Его природы. Как говорит Р. Бохем, доктрина страдающего Бога становится все более популярна в западном богословии с кон. XIX столетия. Как заметил М. Релтон еще в 1917 г., «учение о страдающем Боге будет играть очень важную роль в теологии века, в котором мы живем» (цит. по.: [Bauckham, 1984, 6]). Пророческие слова Релтона сбываются в том, что страдающий ХХ в. переполнен злом, и учение о бесстрастии божества, свойственное традиционной христианской мысли, изменилось на представление об участии Бога в страдании мира. Владимир Немыченков, цитируя одного западного богослова, подчеркивает особенность современного взгляда на Божественное участие в судьбах мира как одно из решений проблемы теодицеи: «единственное заслуживающее доверия богословие для Освенцима то, которое делает Бога заключенным в этом лагере»3. Следовательно, пережив 1-ю пол. ХХ в., многие богословы отказались от традиционного богословского осмысления Божественной природы как apatheia и стали именоваться «богословами страдающего Бога». Как в среде протестантских богословов, так и в среде католических известных мыслителей, таких как Г. У. Бальтазар, данный подход является во многом необходимым для решения проблемы зла, особенно во времена войн, Холокоста и прочих ужасных событий XX в. Отказом от бесстрастия божества обосновывается «нравственное требование солидарности Бога со страждущим человечеством и всем тварным миром» [Немычен-ков, 2016, 170], где страстность Бога выводится из страданий Христовых в Его земной жизни, в том числе сострадательности Ему Отца и Духа, Которые вместе с Сыном со-страждут всему творению (см.: [Немыченков, 2016, 170–171]).
В этом отношении представляют интерес некоторые отрывки из гомилий Оригена и трактат свт. Григория Чудотворца, специально посвященный проблеме разрешения антиномии страсти (страдания) Бога, отраженной в Священном Писании, и античной максимы божественного бесстрастия, которая была принята Древней Церковью в полемике с языческой философией.
Ориген и apatheia
О том, что Бог бесстрастен, говорили уже мужи апостольские. Апологеты подчеркивали бесстрастность Логоса и Бога в пику греческим богам, проявлявшим страстность. Сын, по св. Иустину, сначала явил Себя страстным, а после, в парусии, уже будет бесстрастен, явит Себя в славе. В данном случае играет роль не только полемика с языческим пониманием страстных богов, но и спор с гностиками, в частности с Феодотом, который говорил о страстности Софии, из-за чего началось движение в плероме. Феодот при этом заявлял, что Верховный Бог сострадателен. Святитель Климент Александрийский считает это утверждение непочтительным, поскольку наличие сострадания во Всемогущем Боге признает Его страстность, «потому что сострадание — это страсть одного к страсти другого» (Clemens. Excerpta ex Ueodoto, 30, 2; цит. по: [Eyzaguirre, 2006, 136]). Пресвитер Климент Александрийский, верный стоической традиции и находящийся в оппозиции к языческой религии, настаивает на Божественной бесстрастности. Противоречие между страстностью Бога Библии и бесстрастностью философского понимания Бога для Климента являет лишь семантическую проблему: это не говорит о Боге в Себе, но мы должны довольствоваться тем, что можем говорить о Нем исходя из своей немощи. Таким образом, Божественные страсти, показанные в Священном Писании, необходимо понимать аллегорически. По мнению Тертуллиана и Псевдо-Ипполита, признание в Боге страстности равносильно богохульству. Таким образом, до Оригена страстность в Боге рассматривалась как богохульство, и о ней упоминают только гностик Феодот, а также монар-хиане, чтобы подчеркнуть единство Отца и Сына, пострадавшего во Христе (Clemens. Excerpta ex Theodoto, 30, 2. Цит. по: [Eyzaguirre, 2006, 137]).
Ориген использует классическое философское описание Божественного существа: «Бог бесстрастен, неизменен и нетварен» (Ὁ Θεὸς ἀπαθής ἐστιν, ὡς καὶ ἄτρεπτος, καὶ aKTicTog (Origen. Selecta in Ezechielem. Cap. XVI // PG. T. 13. Col. 809, l. 43)). Он следует за греческой онтологией, восходящей в том числе к Платону и Аристотелю. Бог, как говорит Ориген в «О Началах», есть абсолютная монада, которая не допускает в Себе каких-либо изменений. В комментарии на Евангелие от Иоанна Ориген утверждает, что Бог бесстрастен, поскольку неизменен. В гомилии на книгу Чисел, в которой говорится, что Бог не подобен человеку в Своих действиях и мыслях (Числ 23:19), Ориген говорит о том, что отличие Бога от человека в том, что первый абсолютно бесстрастен (см.: [Grant, 1966, 29]). Также многие другие его тексты говорят о том, что Логос по Своей Божественной природе бесстрастен, но в силу воплощения приобщился немощи человеческого восприятия. Выражения о страстях Бога надо понимать исключительно аллегорически (см.: [Eyzaguirre, 2006, 141]).
Согласно канонам греческой классической метафизики Бог должен мыслиться как не имеющий аффекта в своей сущности, ἀπαθής. Когда в Писании идет речь об эмоциях Бога, здесь используется антропоморфный язык, на котором Писание обращается к человеку. Ориген полемизирует против Маркиона, защищая бесстрастность Бога в ветхозаветных текстах. Если отвергать Ветхий Завет из-за эмоций, которые текст приписывает Богу, то, как подчеркивает Ориген, тогда мы должны отвергнуть и Новый Завет, поскольку в нем Бог также изображается аффективным, гневным, что и дало повод Маркиону вычеркнуть часть текста из Евангелий (см.: [Brill, 1992, 329]). Места, в которых говорится об эмоциях в Боге, необходимо понимать аллегорически (tropice), как это делали философы, раздумывая над текстами мифов. Бог по природе не испытывает ни чувств, ни эмоций, не волнуется и всегда остается неподвижен, «пребывая на вершине блаженства» (см.: [Grant, 1966, 29]): «Божественная природа далека от всякого чувства, эмоции и изменения; она всегда остается неподвижной и невозмутимой, на вершине блаженства» (Origen. Num. hom. XXIII, 2. 6; цит. по: [Scheck, Hall, 2009, 141]). Слова о радости и печали, по Оригену, относятся к самому примитивному способу прочтения текста, к плоти Писания, которая обращена к οχλος. При этом в некоторых местах гомилии Оригена можно заподозрить в том, что он приписывает Богу эмоциональную жизнь, чувства и зависимость Его блаженства от моральной жизни людей. Например, чуть ранее в гомилии на Числа, XXIII, 2.4, Ориген говорит о том, что наши поступки могут огорчить Самого Бога, ведь «наш порочный образ жизни вызывает плач и печаль не только на земле, но и на небесах... человеческие грехи огорчают самого Бога. голос Того, Кто скорбит, когда говорит: „Мне жаль, что я создал человека на земле“» (Origen. Num. hom. XXIII, 2. 6; цит. по: [Scheck, Hall, 2009, 140]). При этом Богу свойственна не только скорбь о живущих порочно, но и радость о добротельных: «Несомненно, что там, где радость празднуется во имя добра, будут скорбеть о тех, кто находится в противоположном положении» (Origen. Num. hom. XXIII, 2. 6; цит. по: [Scheck, Hall, 2009, 141]).
Можно ли говорить, что Ориген противоречит сам себе? В этом отрывке, по мнению Джона Мозли, со всей очевидностью можно видеть, как сталкиваются два описания Бога, синтез которых — необходимость совместить библейское описание Бога с философской доктриной Его неизменности, простоты, бесстрастности, независимости от внешних факторов — непросто давался богословам Ранней Церкви. С одной стороны, Бог скорбит о человеке, о его падении, с другой — Бог совершенен, не может стать лучше или хуже, поскольку Его природа есть полнота. Даже намек на наличие какой-либо «страстности» в Боге говорил бы против совершенства Его природы: она была бы определяема чем-то извне, изменчива (чувства, которые возникают и проходят), двигалась бы от лучшего к худшему или наоборот (см.: [Mozley, 1926, 62]). Мозли подчеркивает, что такие аффекты, как радость и печаль, не обязательно говорят об изменчивости самой Божественной природы, о ее несовершенстве. Но данная антиномия не могла вместиться в сознание античного образованного человека, каковыми были отцы и учителя Церкви. Ориген, основываясь на тексте Священного Писания, замечает, что эмоции и чувства в Боге допустимы, хотя бы и как символы, аллегории. Притом за этими символами стоит какая-то особая реальность, представление о небезразличном Боге, промышляющем о мире. Но, как подчеркивает Мозли, Ориген отказывается от того, чтобы соединить эти два положения о Боге: блаженный в Своей неизменной природе Бог и затронутый миром Творец и Промыслитель. Второе описание (описание взаимодействия) реально тогда, когда Бог эмоционально вовлечен в ситуацию мира, что противоречит первому положению. И если чувства в Боге не такие же, как у людей, это не дает нам право говорить, что они вовсе не присущи Ему, хотя и в возвышенной форме (см.: [Mozley, 1926, 62]). Впоследствии Ориген резюмирует данную позицию так: в библейском тексте «все, что движимо Божественной силой, изображено человеческим языком или передано хорошо известными обычными человеческими чувствами. Именно в этом смысле говорится, что Бог гневается, слушает или говорит». Ориген был апологетом христианского взгляда на Божественное совершенство в споре с языческой философией, которая видела в Боге, изображенном в Священном Писании, мифологический образ. Таким образом, великий апологет вставал на защиту высоких представлений о бесстрастии Божественного существа (см.: [Eyzaguirre, 2006, 138]).
Несмотря на констатацию Божественной бесстрастности, благодаря которой Ориген защищает христианское богословие от обвинений в чрезмерно антропоморфном изображении Бога в Священном Писании, великий дидаскал настаивает на главном атрибуте Бога — любви. Все действия Бога в Ветхом Завете являются педагогикой, через которую Бог в любви к людям ведет их к спасению. Даже очевидно жестокие описания событий должны рассматриваться как аллегории Божественной педагогики, отражающей истину о природе Божественной любви: видимость жестокости и гнева помогает людям через страх оставить свои греховные пути. Жан Даниелу резюмирует: «Бог Оригена — это чистая любовь, а Его гнев — всего лишь видимость гнева» [Danielou, 1955, 281]. Таким образом, для Оригена главным мотивом действий Бога по отношению к миру являлась любовь, как в воплощении, так и до него.
Иез 16:5: «παθείν τι έπί σοί»
В поздней гомилии на книгу прор. Иезекииля Ориген меняет свой взгляд на проблему аффектов, используя библейский нарратив для описания характера Бога как жалостливого и горюющего над нашими пороками. Бог в нижеприведенном отрывке не рассматривается как Абсолют, изолированный от проблем мира. В отличие от философского Абсолюта Бог Писания — страдающий Бог (см.: [Grant, 1966, 30]). Он сострадает Израилю, брошенному всеми народами. Ориген, толкуя отрывок из Книги прор. Иезекииля, приводит в пример человека, который может сострадать другому человеку, только если сам способен на некую форму такого же страдания, рождающего милосердие. И в Боге, как говорит Ориген, прежде страдания в Воплощении присутствовало сострадание:
Если бы Он не страдал, Он не пришел бы разделить нашу человеческую жизнь. Сначала Он страдал, а затем спустился и открыл Себя (primum passus est, deinde descendit et visus est). Итак, что же это была за страсть, которую Он испытывал ради нас? (Quae est ista, quam pro nobis passus est, passio?) Это страсть (страдание) любви (Caritatis est passio). <...> Ибо Сам Отец, Бог вселенной, Который великодушен, полон милосердия и сострадания (Пс 102:8), разве Он тоже не страдает каким-то образом? Неужели вы игнорируете то, что, когда Он управляет человеческой реальностью, Он страдает от человеческих страстей? Воистину, Господь, ваш Бог, принял ваш образ поведения (mores), как человек принял бы своего сына. Итак, Бог принимает наш образ действия, как Сын Божий несет наши страсти. Сам Отец не бесстрастен (Ipse Pater non est impassibilis). и ради нас Он переносит человеческие страсти (et propter nos humanas sustinet passiones) (Origen. In Ezechielem Homilia. VI, 6; цит. по: [GCS, 1925, 384–385]).
Библейские ссылки на страсти Бога рассматривались как антропоморфные выражения, которые должны были быть истолкованы в метафорическом смысле. Ориген долгое время придерживается этого типа интерпретации, но в гомилии на прор. Иезекииля он прямо говорит о Божией passio caritatis, что, кажется, приводит к противоречию между Божественной бесстрастностью и страстью. Ориген решает эту проблему, утверждая, что «страсть милосердия», или «филантропия», должна принадлежать предсуществующему Логосу. На самом деле именно она и является причиной воплощения (см.: [Eyzaguirre, 2006, 135]). Предварительным условием воплощения была passio caritatis, страсть милосердия, или страсть (страдание) любви. Движение милосердия, подразумевающее дальнейшее схождение Бога в мир, является аналогом человеческой страсти жертвенной любви, которая, судя по Оригену, предсуществует в Боге. Милость есть не следствие, но причина воплощения (см.: [Eyzaguirre, 2006, 142]). Данный текст противоречит другим местам, в которых Ориген полемизирует с аффективностью богов языческих мифов, однако он представляет большой интерес для сторонников Божественного пассибилизма. Здесь, как замечает один западный исследователь, Ориген борется с самим собой, когда, с одной стороны, подчеркивает антропоморфизм текстов Писания, где говорится о Божественных эмоциях, с другой — столь же явно подчеркивает аффект сострадания в Боге (см.: [Witham, 2010, 25]).
Есть исследователи, которые говорят, что здесь мы имеем ярко выраженную форму оригеновской педагогики. В подобной манере до Оригена писал Филон
Александрийский, подчеркивая, что «антропоморфные» места Писания служат наставлением для читающих. Роберт Грант пытается увидеть в такой радикальной перемене Оригена влияние сщмч. Игнатия Богоносца, который говорил о страдающем Боге4, а также Татиана или же других авторов, но все они употребляли теопасхистские выражения исключительно в контексте воплощения: бесстрастный Бог стал страдающим человеком (см. подр.: [Grant, 1966, 31–32]). Ориген пытается найти изначальную причину, по которой Бог стал человеком, чтобы страдать. Все страсти, описанные в Библии и приписываемые Богу, трактуются Оригеном, вслед за Филоном, как Божественная манера адаптации языка коммуникации. Язык Бога как бы становится человеческим, или «приспосабливается» от большего к меньшему, подобно тому как взрослые принимают определенную форму общения с детьми (см.: [Eyzaguirre, 2006, 143–144]). Как скажет Ориген в гомилии на Евангелие от Матфея, «Мы не видим Его таким, каков Он есть, но таким, каким Он становится для нас в соответствии с домостроительством» (Origen. In Mt. Com., XVII, 19; см. также: [GCS, X-2, 640; Eyzaguirre, 2006, 145]). Таким образом, сосуществование выражений страстного и бесстрастного в отношении Бога может быть истолковано как педагогика языка: Бог бесстрастен в Себе, но страстен для нас. Единственный язык, который мы имеем, говоря о Боге, — это человеческий язык, использующий аналогию наших чувств и страстей.
Когда речь идет о Боге в Самом Себе, традиционно (особенно сильно данное влияние заметно со времени проникновения идей Ареопагитского корпуса в богословие Церкви) богословы используют исключительно негативный язык апофатической теологии. Страсти, которые в платонической традиции не приписывались душе, будучи ей чужды (бестелесное — бесстрастно) как имеющие материальную природу, в античности в целом рассматривались как не свойственные божественной сфере бестелесного и человеку по его духовной природе. Данная точка зрения отражена в богословии свт. Кирилла Александрийского, который говорил о бесстрастии Божественного естества из-за его бестелесности: «…Божественное естество, как бестелесное, не причастно страданию» (Деяния Вселенских Соборов, 1996, 146). Богу не могли быть приписаны страсти, поскольку они чужды даже душам людей, имеющим родство с умопостигаемой сферой. Страсти же появлялись от смешения души и материи. Но, как замечает Роберт Грант, сейчас мы не разделяем такой взгляд на страсти, и развитие психологии дает нам все основания считать их естественными для человека, в том числе и для Бога (см.: [Grant, 1966, 32]).
В гомилии на прор. Иезекииля Ориген говорит, что Бог «плачет» о тех, кто отрекся от Него, и что «это происходит от страсти любви » ( Et hoc venit ex amoris affectu (Origen . In Ezechielem Homilia. XIII, 2; цит. по: [GCS, 1925, 443]). Также в комментариях на Евангелие от Матфея Ориген отмечает: «Бесстрастный, будучи человеколюбив, пострадал, так как испытал жалость» (ώς φιλάνθρωπος πέπονθεν ό απαθής τω onAaYXVio'Qpvai (Ориген, 2013, III, 831))5. Логос, будучи бесстрастен по Божественной природе, имел жалость и сострадание к людям, страсть (аффект) любви. Очевидно, что απαθής в данном случае не противоречит любви и жалости, которые испытывает
Бог к людям, чтобы «умалиться». Видимое противоречие снимается, когда мы будем понимать Бога как полностью независимого (или απαθής) от какого-либо диктата необходимости Его природы, как это могло быть заявлено в тех философских системах, где Бог просто «не мог» жалеть или скорбеть, поскольку это не входило в возможности Его природы6.
Мир как предмет заботы Творца подвигает блаженную бесстрастную Божественную любовь Троицы стать любовью страстной, страдающей, чтобы умереть за объект Своей любви. Как говорит прот. Борис Бобринский, осмысляя рассматриваемое нами место из гомилии Оригена, «это Божие страдание таково, что понуждает Его — понуждением любви — броситься в бездну, где погибает человек» [Бобринский, 2010, 14].
Можно сделать несколько выводов:
-
1. «Если бы Он не страдал, он не пришел бы разделить человеческую жизнь», — говорит Ориген о предсуществующем Логосе. Внутри Самой Божественной реальности есть «страсть», как об этом написано в пророческих текстах Ветхого Завета: страсть «милости», филантропии, сострадания. Иначе, как через наличие этой страсти, невозможно объяснить причину Воплощения (см.: [Бобринский, 2010, 146]). Ориген здесь проводит заметную границу, водораздел, который отличает эллинизирующую мысль от христианского провозвестия: Божественное благо и любовь хотя и характеризуются свойствами бесстрастия, но Бог свободен в Своем могуществе любить страстно, то есть быть затронутым предметом Своей любви. Именно абсолютная свобода Божественного бытия определяет, как любит Бог. Данная мысль не могла вместиться в сознание языческого философа — чтобы Бог переживал за людей и сходил в мир для того, чтобы принести Себя в жертву. Недвижимое Божественное благо свободно движимо любовью к миру — эта идея была «эллинам безумие » (1 Кор 1:22), поскольку понятие apatheia трансформируется из независимой самодостаточности в свободную зависимость любви. Как подчеркивает Фрэнсис Янг, «христиане не подразумевали под apatheia Бога ту бесстрастность, которую подразумевали эпикурейцы» [Young, 2014, 86], поскольку Бог есть прежде всего личное, а уже после бесстрастное бытие. Ориген, используя философский концепт в споре с Цельсом, пытался подчеркнуть, что все поступки Бога руководимы не страстью относительно Своего ego, но они направлены исключительно на благо другого, они руководимы Его неизменной любовью (см.: [Young, 2014, 88]).
-
2. Бог и страстен, и бесстрастен одновременно. Бесстрастие — это абсолютная свобода Бога любить и страдать за другого, как внутри Своего Троичного бытия (между Лицами Троицы), так и вовне. Известный пассибилист Юрген Мольтман толкует рассматриваемое место из гомилии Оригена на прор. Иезекииля как описание страданий внутритроичной жизни между Отцом и Сыном. Отец в отдавании Своего Сына на смерть терпит «боль искупления». Также и Сын носит на Себе страдание мира. Таким образом, страсть (или страдание) любви между Богом и миром несут на себе отпечаток страдания любви Отцом и Сыном. Божественное страдание любви внутри Троицы как бы продолжает (выявляет) себя вовне через Воплощение и смерть Сына Божия (см.: [Moltmann, 1993, 24]). Все это не умаляет, как скажет впоследствии свт. Григорий Неокесарийский, но прославляет Божественное бытие, поскольку Оно подвигает Себя на унижение и страдание ради блага тех, Кого любит. Самуэль Фернандес пришел к выводу, что Ориген «признает, что Бог из милосердия, пользуясь своей свободой, превзошел пределы, наложенные на Него величием Его бытия, поскольку для икономии Бог становится тем, что несовместимо с величием Его природы» [Moltmann, 1993, 147]. Таким образом, бесстрастие Бога есть Его свободное, ничем не омраченное желание страдать из милосердия и любви к человеку.
Свт. Григорий Чудотворец: «К Феопомпу.
О возможности и невозможности страданий для Бога»
Произведение «К Феопомпу. О возможности и невозможности страданий для Бога» свт. Григория Неокесарийского посвящено обсуждению вопроса о том, как возможно совместить Воплощение и смерть за людей с фактом Божественного природного бесстрастия. В этом смысле данное произведение представляет собой уникальный апологетический трактат, который целиком посвящен вопросу разграничения теопасхизма и икономии Божественного спасения (см.: [Стрельцов, 2019, 221]). Цель данного сочинения, сохранившегося только на сирийском языке, заключалась в апологии христианского видения Бога: для греческого ума языческого философа идеи Божественного пассибилизма были неприемлемы, воплощение и страдания богов относились исключительно к области мифов. Святой Григорий высказывает следующую идею, которая могла служить оправданием против претензий язычника Феопомпа: Бог свободен действовать так, как этого хочет Он Сам, не будучи связан никакой внешней (и даже внутренней) необходимостью. Достоинством Бога является то, что Он, будучи блаженным, принимает на Себя страдания ради людей по Своему свободному решению (см. об этом: [Мо-рескини, 2011, 208]). Если рассматривать подобные произведения, которые говорят о Божественном страдании, то, как констатирует Николай Сагарда, они сводятся к признанию того, что восприятие Богом, бесстрастным по существу, страстной природы, которая повлекла за собой смерть на Кресте, не является чем-то унизительным, поскольку оно имело благую цель. Бесстрастный Бог «через страдание сделался страданием для страданий» (Мефодий Олимпийский, 2006, 333). Такие мотивы мы находим у других святых того времени: у свтт. Александра Александрийского, Афанасия, Дионисия и др.
Главное, на чем акцентирует внимание святитель в данном произведении — разграничение природного и морального бесстрастия. Подразумевает ли бесстрастие, свойственное Богу по природе, Его безучастность и холодную отстраненность? Как известно, блаженство богов в некоторых античных философских традициях включало в себя полную апатию в отношении бед мира смертных (см.: [Сагарда, 1913а, 311]). Святитель Григорий выделяет в Боге примат свободы над необходимостью, над природными ограничениями античных богов. Бог прежде всего волен совершать даже невозможное для божества7, то есть страдать как бесстрастный. Но, спрашивает оппонент святителя, не является ли препятствием к страданию Бога Его бесстрастная неизменная природа? Бог свободен во всем, отвечает святитель, даже в принятии страданий, которые Он совершает по икономии для исцеления людей, потому что страданием Он побеждает страдания (см.: [Сагарда, 1913а, 313]).
В споре с языческим философом Феопомпом, придерживавшимся эпикурейской точки зрения относительно божественной apatheia, свт. Григорий говорит, что для истинного, бесстрастного и совершенно благого Бога не страдать ради людей, которые являются предметом Его постоянной заботы, было бы наивысшей формой страдания. По подобию аристотелевского Ума, мыслящего самого себя, или блаженных богов Эпикура, отстраненных от забот мира, Феопомп видит достоинство истинного бога в блаженстве и бесстрастии, в наслаждении самим собой в покое одиночества. Святитель признает, что такой бог даже с точки зрения смертных не заслуживает никакого уважения: кто не придет на помощь своему другу, тот недостоин даже называться человеком, что же тогда говорить о Боге, Который намного превосходит людей в Своей благости (см. подр.: [Сагарда, 1913а, 315–320]).
Святитель Григорий строит свою апологию на том, что Бог не связан никакой природной необходимостью, Он свободен даже страдать. Но Его страдание не является аналогичным страданию тварных существ. Как объясняет Николай Сагарда, «Бог имеет возможность страдать, только Он не страдает от страданий, не поражается ими, — Ему можно приписать passio, но не его последствия — dolor» [Сагарда, 1913а, 325].
Рассмотрим некоторые отрывки из текста апологии.
Не богохульствуй, о Феопомп, и не подчиняй Бога силе необходимости, противополагая воле Его природу. Ибо, если Бог не делает того, что Он хочет, то отсюда, действительно, следует, что Его постигает величайшее страдание, так как [в таком случае] должно сказать, что воля Божия подчинена природе… (цит. по: [Сагарда, 1913б, 838]).
Как видно из текста, основная идея свт. Григория заключена в том, что Бог действует в пространстве свободы, и благородство Его действия, предполагающее страдание ради возлюбленного, не унизительно, но свойственно истинно свободному существу. Подчеркивая, что кенозис Бога в страдании ради другого свойствен благой и всемогущей воле Творца, свт. Григорий говорит:
^не следует так представлять Бога, как будто бы Он вошел в противоречие со Своей волей, потому именно, что Он подверг Себя самого страданию, хотя по природе Своей бесстрастен (цит. по: [Сагарда, 1913б, 838]).
Страдание тогда действительно было бы страданием, если бы Бог имел намерение [сделать] что-нибудь неполезное и для Него непристойное . Но когда Божественная воля подвиглась для уврачевания дурных помышлений людей, тогда мы не можем сказать, что Бог страдает от того, что Своим унижением и высочайшим благоволением послужил людям (цит. по: [Сагарда, 1913б, 840]).
Его блаженнейшая и бесстрастная природа вовсе не противодействовала [этому]. Ибо Он в своем страдании показывает бесстрастие . Ведь если кто страдает, тот страдает лишь в том случае, когда страдание насильственно оказывает свое действие на того, кто страдает, помимо его воли (цит. по: [Са-гарда, 1913б, 840]).
В Боге, подчеркивает святитель, не стоит разделять аспект бесстрастной природы, которой чуждо страдание, и волевой аспект, который принимает на себя решение страдать против природы, «как будто бы Он вошел в противоречие». Желание страдать за другого и для другого не противоречит Его природе, которая желает блага всем. Принятие на Себя страдания ради людей достойно только истинно бесстрастного существа. Страдание есть акт насилия над волей, но когда воля желает страдать ради благой цели — это показывает бесстрастие природы Бога, побеждающего страдание страданием. «О том, кто, при бесстрастии своей природы, добровольно становится причастным страданиям, чтобы совершенно победить их, мы не говорим, что он подвергается страданиям, хотя бы своей волей он участвовал в страданиях» (цит. по: [Сагарда, 1913б, 840]). Таким образом, природа Бога абсолютно свободна в своих желаниях, и именно в этом, как подчеркивает святитель, заключается ее бесстрастие. Воля как атрибут бесстрастной любящей природы желает страдать ради благой цели — в этом проявляется величие Бога.
Святитель использует антиномичность философского-богословского языка, чтобы подчеркнуть красоту тайны страдания бесстрастного Бога. «Ибо перенесение [Им] страданий было бесстрастным, так как Своим страданием Он причинил им страдание и в Своем страдании показал Свое бесстрастие. <…> Итак, страдание в Боге не является, как некоторые желают, унижением или слабостью, так как возвышенная природа Божия показала свою неизменяемость, когда подвергалась испытанию в страданиях. <…> Бог, так как Он не подлежит никакой власти, не удерживается никакою силою, не склоняется пред тлением, не волнуется скорбью» (цит. по: [Сагарда, 1913б, 841–843]). Бог, будучи испытан в страданиях, являет Свою истинную бесстрастность. Бог побеждает страдания динамически, поскольку «страдания побеждены в их деятельности» (цит. по: [Сагарда, 1913б, 841]). Страдание не повергло Бога в скорбь, не поколебало неизменность Его природы, которая «подвергалась испытанию». Бог «доказывает» Свое бесстрастие тем, что не остается в стороне от страданий, входит в них и побеждает, подтверждая Свое превосходство над любой формой насилия и зла.
Святой Григорий опровергает разделение и конфликт между природной необходимостью и свободой волей Бога. Бог не подчинен ничему, Он может делать все, что желает, как абсолютно независимый ни от чего, кроме Своего желания. При этом вопрос Феопомпа о принятии бесстрастным Богом человеческих страданий находит ответ в том, что страдания бесстрастного не являются страданиями, поскольку они добровольны и совершены с благородной целью. Бог победил страдания Своими страданиями, оставаясь бесстрастным. Он показал неизменность Своей природы, быв испытан страданиями (см.: [Mozley, 1926, 64–68]). Джон Мозли указывает на сложность понимания противоречий, которые демонстрирует, как кажется, свт. Григорий, противопоставляя природу и волю Бога: первую — как не могущую страдать, вторую — как желающую страданий. Разрешить противоречие бесстрастного страдания можно двумя путями. Первый путь — сотериологический, который говорит о заботе и участии Бога в делах мира, показывая Его благость и любовь, Его спасительную миссию. Второй — правильно истолковать страсти, passiones, которые принимает на Себя Бог. Они не являются чем-то предосудительным, следствием злой воли, не демонстрируют слабость страдающего, поскольку они направлены на благо другого. Таким образом, заключает мысль свт. Григория Джон Мозли, автор делает акцент на Боге, вечно действующем (Semper Agens), но не вечно пребывающем в блаженном покое одиночества (Semper Quietus) (см.: [Mozley, 1926, 70–71]).
Алексей Стрельцов, ссылаясь на одного немецкого богослова, говорит о том, что свт. Григорий нашел «третий путь» между вынужденным страданием и абсолютным бесстрастием (понимаемым как безразличие) — страдание «как проявление любви» [Стрельцов, 2019, 221]. Добровольное страдание невинного сохраняет, по мнению святителя, бесстрастие Бога нетронутым. В своей работе «Apatheia tou Theou» Фронхофен, на которого ссылается Стрельцов, выделяет здесь два момента. Первый — доктрина Божественной apatheia все еще присутствует в рассуждениях святого, который, очевидно, находится под сильным влиянием греческой философии, что проявилось в недостаточно решительных взглядах в исповедании страдающего от любви Бога (этого исповедания придерживается Фронхофен и другие пассибилисты). Второй — святитель отходит от исключительно христологическо-го взгляда на проблему Божественного страдания в человеческой природе. Бог страдает, поскольку Он любящий Бог (см.: [Стрельцов, 2019, 219–220]). Святитель Григорий размышляет в большей степени над причиной страданий Бога, нежели над аспектом Его воплощения в страстной природе.
Промежуточные выводы
…так что не должно, как говорят некоторые в своих нелепых баснях, неисследимое и неизъяснимое снисхождение Бога к людям называть страданием Бесстрастного. Они, конечно, предварительно не подумали, что неисследимого Бога не может удержать ни Его природа, ни какое-либо иное существо от того, чтобы Он следовал Своей воле. Мы утверждаем, что только Тот [действительно] является высочайшим, свободным, Кто не претерпевает противодействия от закона Своей природы … (цит. по.: [Сагарда, 1913б, 994]).
Николай Сагарда утверждает, что Бог, по мысли свт. Григория, не может быть подчинен некоей необходимости бесстрастной природы8, поскольку Он выше любой природной несвободы. Свободное страдание для Бога не есть страдание в собственном смысле, поскольку страдание всегда действует помимо воли, в то время как Бог принимает добровольное страдание ради человека. Бог, страдая во Христе, не испытывал свойственных человеку страха, боли и прочих немощей, но это не значит, что Его страдания призрачны. Его страдательность видна уже по тому, что Он не бездеятельноблажен, но Сам участвует в спасении мира от страданий. «Что Бог страдает ради людей, это подтверждено тем фактом, что Иисус пришел, чтобы спасти людей», — комментирует Николай Сагарда [Сагарда, 1913б, 834].
Особенность вопроса страданий Бога в трактате свт. Григория заключена в том, что здесь не рассматривается подробно христологическая тематика страданий. Страдание человеческой природы воспринимается бесстрастным Богом, страдающим согласно Своему свободному выбору (см.: [Сагарда, 1913б, 835]). Бог движим Своей любовью навстречу добровольному страданию9. При этом если свт. Григорий говорит о страдании Бога в природном и волевом аспектах Его бытия, как свободно движимого Своей любовью, то Ориген в большей степени акцентирует внимание на ипо-стасном характере страданий внутритроичных отношений: страдает не просто Сын Божий ради людей, но сострадают и Отец, и Дух. Мотив внутритроичного страдания станет характерным маркером пассибилизма XX в., который сделает большой акцент на психологизации и романтизации тринитарных отношений (см., напр.: [Булгаков, 1933, 121–122]).
XX век. Архимандрит Лев (Жилле)
Путь примирения святоотеческой традиционной доктрины Божественного бесстрастия и пассибилизма, который в особой форме представлен у свт. Григория и Оригена, предложил архим. Лев (Жилле) в своей статье «Страдающий Бог» [Лев Жилле, 2021, 177-191], посвященной данной проблеме. Он соединяет две основные посылки предыдущих авторов — свободу Бога и сострадание, с традиционной доктриной Божественной apatheia. Свои мысли архим. Лев основывает на гомилии Оригена, где учитель Церкви обращает внимание на мотив, по которому Бог стал человеком, — сострадание и любовь. Страдания Бога, как Сына, так и Отца, зависят от человеческих страданий. Тот, Кто имеет дело с человеческими жизнями, не может быть в стороне от страданий. Согласно же свт. Григорию Чудотворцу, страдания, которые не противоречат воле (добровольные) и совершаются ради блага других, не нарушают бесстрастность и блаженство Божественной природы (см.: [Лев Жилле, 2021, 185]). В целом позиция отца Льва отражает характерное для западного богословия понимание Божественного пассибилизма.
Понятие passio («страсть») означает «претерпевание от чего-то другого», воспринимается как фактор насилия над природой10. Богу, безусловно, не может быть приписано страдание, противоречащее Его свободе. Бог всегда «активен». В этом смысле мы говорим о Его всемогуществе и свободе. Он свободен в том, что делает, и на Его решения не может повлиять кто-то другой. Поэтому мы можем, вслед за традицией, сказать: «Бог недвижим, неизменен, бесстрастен» [Лев Жилле, 2021, 185]. Как при этом мы можем и должны говорить о Божественном страдании? Если Бог всегда активен, а не пассивен, то Он свободным решением открывается человеческому страданию, не повреждаясь от него. Он соединяет в Себе временный аспект сострадания к человеку с вневременным блаженством, потому что Он «всегда видит торжествующий конец». Бог одновременно и страдает, и торжествует над злом, «проходя через него», остается вечно блаженным. Вопрос о времени и вечности по отношению к этим двум аспектам Божественного бытия может быть разрешен введением термина «вечного настоящего», в котором пребывает Бог [Лев Жилле, 2021, 186].
В целом о. Лев следует за традицией английского и вообще западного богословия Божественного пассибилизма своего времени. В его идеях присутствуют основные моменты данного богословского направления: Крест, пребывающий «в сердце Отца», несение бремени страданий и зол всего мира, соучастие в страданиях и скорбь Бога, Который пребывает в самой сердцевине зла, преображая и уничтожая его (см.: [Лев Жилле, 2021, 189–191]). Данные мысли о. Льва — следствие развития его взглядов на Бога как на совершенную Любовь, Которая не может не заботиться о тех, кого Она любит (образ Отца и детей). Эти мысли в своей основе повторяют главную идею о. Сергия Булгакова (с которым был знаком о. Лев), который спорит с классическом взглядом на бесстрастие Бога, понимаемое как незатронутость болью мира. «Бесстрастие» в его отрицательном философском значении далеко отстоит как от внутри-троичной Божественной жизни (ad intra), так и от Его действий вовне (ad extra). Взаимодействие с миром, принятие ответственности за мир делает Бога «ревнителем», «поедающим огнем» [Булгаков, 1933, 290].
По мнению о. Льва, бесстрастие как философская категория незатронутости может быть приписано Богу только в значении невынужденности акта миротворения и свободного решения взять на Себя ответственность за трагедию сотворенной свободы. Бог является свободно любящим страдальцем. Любовь и свобода — два главных атрибута
Бога, через которые интерпретируется вся Божественная деятельность. Бог в свободе страдает от любви, passio caritatis. Некий вид противоречия желания страдать с бесстрастием природы разрешается в знании Богом «торжествующего» финала истории.
Заключение
Святой Дионисий Александрийский, споря со стоическими и эпикурейскими взглядами на природу богов, подчеркивает, что блаженство безразличия даже люди вменяют в вину другим людям, говоря о них, как о «неразумных, слабых и нечестивых» [Сагарда, 1913а, 337]. Если в IV и V вв. вопрос о страдании Бога был заключен исключительно в христологический контекст, то во II и III вв., в частности у Оригена, сщмч. Дионисия и свт. Григория Чудотворца, речь идет скорее об икономическом аспекте и относится к Богу как Творцу и Промыслителю, а не к воплощенному Логосу. Для Бога не было унижением страдать за другого (моральная сторона), в то время как христологический дискурс скорее подчеркивал сотериологический аспект восприятия и исцеления страстной природы бесстрастным Богом (онтология) (см.: [Сагарда, 1913а, 339–340]). Если античность ставила рамки необходимости перед божественным бытием, которое должно было подчиняться законам своей совершенной природы, то христианский нарратив прежде всего подчеркивает в Боге Его личностность, волю, которая направлена на благо мира. Бог прежде всего Кто, а не «что». Потому Он определяется Своей свободой быть Тем, Кем Он хочет быть, не ограниченный ничем внешним. Если Бог хочет быть зависим от мира в пределах сострадания и любви, Он может быть сострадающим Богом. Бесстрастие природы в данном случае понимается как действие любви, направленное на другого, в отличие от страсти, которая «ищет своего» (1 Кор 13:5). Единственный закон, которым ограничен Бог в Своем действии, — это закон любви, в пределах которого Бог действует свободным образом11.
Невозможность страдания для бесстрастной природы, понимаемой безличност-ным образом, становится возможной в свободной форме passio caritatis в личностном Боге, заинтересованном в спасении мира. В христианстве происходит переосмысление философской доктрины apatheia tou Theou, показывающее ее ограниченность и условность. Страдание, понимаемое как случайное действие извне, направленное на Бога, действительно немыслимо в Божественном существе, поэтому Ориген, как и вся последующая церковная традиция, может говорить о бесстрастности Бога. Страдание, принятое на себя свободно, теряет характер случайного, акцидентального, внешнего и само становится выражением сущности Бога как благой и любящей. В этом смысле пассибилизм как богословская доктрина не несет в себе того, что несовместимо с Божественным совершенством (см.: [Brill, 1992, 331]). То, что направлено на благо другого, не рассматривается ни Оригеном, ни свт. Григорием как недостаток в Боге, как обрушение догмы бесстрастия или неизменности. Бог страдает или страстно любит из чистой бескорыстной любви, и в этом проявляется Его истинное бесстрастие.
Несмотря на то, что позиция о. Льва (среди православных богословов XX в. он не единственный, ср., напр.: [Бобринский, 2010]) может быть названа «онтологическим пассибилизмом» в силу того, что Бог по природе является любящим Богом, а любить — в некотором смысле зависеть от предмета любви (см.: [Ткачев, 2023, 57]), все же невынужденность и добровольный характер Божественной любви, который может быть понят как предвечный Божественный кенозис12, не примыкает к осужденной ереси теопасхизма. Бесстрастие также может рассматриваться как очищенная страсть. Как отмечает митр. Каллист (Уэр), даже у Евагрия, который следовал за стоиками в понимании негативного смысла страсти, apatheia есть не просто безразличие, отсутствие чувств (в этом смысле Евагрий употребляет термины akedia или anaisthesia), но «замена похоти любовью». Диадох Фотикийский выделяет динамический, а не статический характер apatheia, говоря об «огне apatheia». Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин перевел греческий термин apatheia, взятый им у Евагрия, на латинский как «чистота сердца» (см.: [Callist Ware, 1983, 19]). Таким образом, apatheia может быть понята не как отсутствие внутреннего движения, желания, не как безразличие к тому, что происходит вне внутреннего мира личности (по аналогу с восточной нирваной), но как движение не замутненной ничем любви, исходящей от чистоты сердца, в котором устранен фактор личной выгоды13. В этом смысле apatheia не является бесчувствием или безразличием. Рассмотренные выше отрывки из Оригена и свт. Григория, а также рассуждения архим. Льва, по нашему мнению, могут быть совместимы с переосмысленной античной традицией apatheia tou Theou, принятой в христианском богословии.