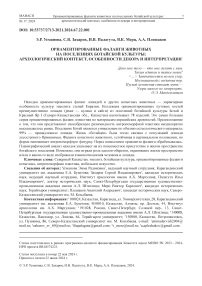Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: археологический контекст, особенности декора и интерпретация
Автор: Усманова Э.Р., Захаров С.В., Палагута И.В., Мерц В.К., Плешаков А.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Статья в выпуске: 17, 2024 года.
Бесплатный доступ
Находки орнаментированных фаланг лошадей и других копытных животных - характерная особенность культур энеолита степей Евразии. Коллекция орнаментированных путовых костей преимущественно лошади (реже - кулана и сайги) из поселений ботайской культуры Ботай и Красный Яр I (Северо-Казахстанская обл., Казахстан) насчитывает 78 изделий. Это самая большая серия орнаментированных фаланг, известная по материалам евразийских древностей. Предположение о том, что они представляют своеобразную разновидность антропоморфной пластики неоднократно высказывалось ранее. Поселение Ботай является уникальным по обилию остеологического материала: 99% - принадлежало лошади. Жизнь «ботайцев» была тесно связана с популяцией лошади лесостепного Приишимья. Фаланга копытного животного, устойчивая в вертикальном положении, по форме напоминает антропоморфную фигурку. Перед нанесением орнамента фаланга обрабатывалась. Планиграфический анализ находок указывает на их повсеместное присутствие в жилом пространстве ботайского поселения. Возможно, они играли роль идолов-оберегов, охранявших жилое пространство и/или в каком-то виде изображали взаимоотношения человека и лошади.
Северный казахстан, энеолит, ботайская культура, орнаментированные фаланги копытных, антропоморфная пластика, мобильное искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/14131535
IDR: 14131535 | DOI: 10.53737/2713-2021.2024.67.22.001
Текст научной статьи Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: археологический контекст, особенности декора и интерпретация
Изобразительное искусство Евразии эпохи неолита — медного века VII—III тыс. до н.э. представлено многочисленными предметами так называемого «мобильного искусства»: антропоморфными и зооморфными статуэтками, а также целой серией других предметов «масштаба руки» в виде моделей жилищ, предметов интерьера, транспортных средств, изделий «неизвестного назначения». С мелкой пластикой ассоциируется, прежде всего, ареал культур земледельческого пояса, вытянувшихся широкой полосой от Западной Европы через Балканы и Ближний Восток в сторону Центральной Азии и Китая. Это «гало» глиняной пластики очерчено Ричардом Лижером (Lesure 2011: 20—21, fig. 6). В её интерпретации сложилась определённая традиция, восходящая к XIX веку, которая связывает этот изобразительный феномен с аграрными культами и, в частности, с воспроизведением образов богинь плодородия (Hutton 1997). В последние десятилетия эта идея активно подвергается критике (Lesure 2011).
Однако керамические статуэтки встречены и за пределами раннеземледельческого региона. Например, можно выделить Прибалтийский регион и примыкающие к нему области севера Восточной Европы, где находки глиняных фигурок на стоянках неолитических охотников и рыболовов тоже не являются редкостью (Nunez 1986; Loze 1995; Kashina 2009). Параллельно в лесной зоне Восточной Европы формируется целая область антропоморфной и зооморфной скульптуры из кремня (Kashina 2002). Аналогичные ранние формы мобильного
№ 17. 2024
Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: археологический контекст, особенности декора и интерпретация искусства также представлены на Среднем и Южном Урале (Мошинская 1976; Сериков 2013), в степной зоне Северного Казахстана в ранне-среднеголоценовых комплексах многослойной стоянки Шидерты 3 (Мерц 2019) и случайными находками каменной скульптуры эквидов (Зайберт и др. 2013).
Культуры ранних скотоводов степной полосы не относятся к числу исключений. На западе Евразийской степи появление глиняных фигурок можно объяснить влиянием раннеземледельческих культур Балкано-Карпатского круга. Такова, например, находка глиняных антропоморфных и зооморфных фигурок на поселении Дереивка степных скотоводов и охотников на лошадей, относящегося к среднестоговской культурно-исторической общности (Телегiн 1973: 59; рис. 19) или «дереивской культуре», синхронизируемой с Трипольем BII—СI (Rassamakin 1999: 87—91). К ним также можно отнести многочисленные фигурки из погребений культурных групп, сложившихся на пост-трипольском пространстве на заре раннего бронзового века — Триполье CII: памятники Усатово-Фолтешть, а также серезлиевского типа (Бурдо 2018; 2019). Очевидно, что этот круг глиняной пластики связан с раннеземледельческими культурами Европы.
С другой стороны, особая традиция изготовления фигурок — из фаланг копытных, преимущественно лошади, — складывается в степной зоне. Она связана с памятниками эпох неолита-энеолита степей Волго-Уральского (Варфоломеевская стоянка) и Урало-Иртышского междуречья (ботайская и терсекская культуры) (Ченченкова 2015: 292).
Большая часть орнаментированных фаланг-фигурок происходит из поселений ботайской культуры (рис. 1) 1 . Введённые в научный оборот начиная с середины 1980-х гг., эти материалы переосмысливались по-разному. Так, ряд исследователей склоняется к мысли, что эти фигурки «являются отражением женского культа, сложившегося еще в верхнем палеолите» (Юдин 2004: 127). Они изображают «женских духов и божеств» и, ассоциируясь с плодородием, свидетельствуют о «религиозной значимости в этих сообществах» (Olsen, Harding 2008: 90); или же «символизируют высшие женские божества нео-энеолитической эпохи» (Лопатин, Порхунова 2011: 28).
Более осторожен в своих оценках А.Ф. Горелик, который указывает на «тесную ассоциацию абстрактно декларированной женской темы и образа лошади» и отмечает, что «они относятся к сфере символического инвентаря, который, скорее всего, обслуживал верования религиозного характера». Он также считает вероятным «принадлежность «идольчиков» к «культивированному пространству, к домусу», предполагая, что «статуэтки могли служить метафорическим мостиком между двумя мирами: живых и мёртвых, скорее всего, — предков» (Горелик 2023: 42—43). Рассматривая фигурки из фаланг копытных «как предметы игры, искусства и магии», И.В. Октябрьская и Л.В. Лбова акцентируют внимание на воплощении в этих фигурках «модификации и интерпретации природных форм с позиций витальности» (Октябрьская, Лбова 2021).
Можно согласиться с утверждением М.П. Грязнова об изобразительной «способности» фаланги представлять фигурку «мобильного искусства» в антропоморфном облике (Грязнов 1962). В этой общей трактовке фигурок из фаланг копытных можно рассматривать и их единичные находки на памятниках неолита-энеолита Ближнего Востока, Юго-Восточной Европы или Иберийского полуострова (Christidou et al. 2009; Comşa 1995; Hansen 2007; Bueno-Ramírez 2020). Однако здесь изделия в виде декорированных фаланг животных, скорее,
№ 17. 2024
вторичны по отношению к глиняной пластике или каменным фигуркам-идолам, как в Иберии.
В ключе разнообразия конкретных интерпретаций возникает необходимость более тщательного анализа археологического контекста находок из поселений ботайской культуры, способа нанесения и форм декора, возможных археологических и этнографических параллелей. На основании этого могут быть предложены и более аргументированные реконструкции их значений и функций в жилом пространстве ботайской культуры энеолита Северного Казахстана.
Поселение Ботай: специфика культурного контекста
Опорные поселения ботайской культуры времени энеолита расположены в лесостепном Приишимье (Республика Казахстан): Ботай — у села Никольское-Бурлукское (Айыртауский р-н, Северо-Казахстанской обл. — далее СКО); Рощинское — у села Рощинское (Тайыншинский р-н, СКО); Красный Яр I — у г. Кокшетау (Акмолинская обл.); Васильковка IV — у села Васильковка (Зерендинский р-н, Акмолинская обл.). Эти и другие энеолитические памятники открыты и в разной степени изучены в течение 1980-х годов коллективом Северо-Казахстанской археологической экспедиции под руководством В.Ф. Зайберта (Зайберт 1993; Захаров 2024). Предполагается, что на поселении Ботай за период его существования было не менее 200— 300 построек жилого и хозяйственного назначения (Зайберт 1993: 160—166; рис. 40: Б, В). На поселении Красный Яр I зафиксировано 54 жилища, на поселении Васильковка IV — 44. Сооружения на памятниках группировались в «улицы» из двух рядов полуземлянок по линии северо-запад—юго-восток. Между этими компактными локациями располагались общественные зоны (Olsen et al. 2006: 100, 105—110).
Основной период функционирования эталонного памятника — эпонимного поселения Ботай на основании датирования 13 AMS 14C дат — между 3550 и 3030 гг. до н.э.; финальный этап — между 3080 и 2670 гг. до н.э. (Motuzaite Matuzeviciute et al. 2019). Поселение расположено на ровной, слегка понижающейся в сторону водоёма обширной площадке между реликтовым сосновым бором и правым берегом р. Иман-Бурлук, правого притока р. Ишим (рис. 2). Предварительно площадь поселения определялась размером до 15 га, позднее — до 20 га (Зайберт 2009: 59, 64). Динамика орографии речной долины р. Иман-Бурлук определила наличие брода в месте расположения поселения, которым до сих пор пользуются местные пастухи и водители транспортных средств. В древности брод мог служить стратегическим пунктом для загонной охоты на диких животных.
Жилища поселения Ботай — полуземлянки с глиняными наземными стенами и конической бревенчатой крышей в виде ложного свода. Они располагались близко друг к другу, возможно, были соединены между собой крытыми переходами, образуя «кварталы» и цепочки, условно именуемые «улицами» (рис. 2). Ранние жилища имели прямоугольную форму котлована, его последующее изменение в сторону округлости и многоугольности было продиктовано демографическими процессами и природно-климатическими условиями (Кисленко 1993: 117—137).
Территория поселения подразделяется на две зоны: жилую северную, где располагались жилища с нишами, хозяйственными ямами и очагами, и хозяйственную южную, куда входили хозпостройки различного значения, очаги и ямы, а культурный слой изобиловал костяным и каменным инструментарием, костями животных, обнаруженными в сочленениях и разрозненно (Зайберт 2009: 86).
Поселение Ботай уникально по обилию остеологического материала. Здесь обнаружены сотни тысяч костей, большинство которых принадлежало лошади. Уже на первом этапе исследования кости лошадей были отнесены к продуктам охоты, так как на них отсутствуют надёжно диагностируемые признаки их одомашненности (Ермолова 1993). Археозоологи пришли к мнению, что для окончательных выводов о доместикации дикой лошади местным ботайским населением доказательств мало (Ахинжанов и др. 1992: 50—51, 160—165). Хотя были предприняты попытки выявить косвенные признаки доместикации лошади на основе
№ 17. 2024
Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: археологический контекст, особенности декора и интерпретация определения следов стёртости от предполагаемого применения удил на зубах лошади (Зайберт и др. 1990: 61—65; Brown et al. 1998).
Определения остатков лошадиных жиров из пригаров на фрагментах керамики из поселения Ботай позволили предположить переработку кобыльего молока и одомашненность некоторого числа кобыл (Outram et al. 2009: 1335). Анализ древней ДНК выявил принадлежность популяции ботайской лошади к линии диких лошадей Пржевальского (Gaunitz et al. 2018: 111—114). Генетики не отрицают факта одомашнивания лошади на Ботае, предполагая вторичное одичание популяции ботайской лощади, ставшей предком современной лошади Пржевальского (условный индекс Дом 1). Однако некоторые палеозоологи по-прежнему скептически относятся к одомашниванию лошади на поселениях ботайской культуры (Levine 1999; Benecke, Dreisch 2003; Косинцев 2008). Последние исследования древней ДНК лошадей определили степную зону к западу от Уральских гор и к северу от Кавказа местом доместикации предков всех современных лошадей (индекс Дом 2). Время этого приручения определяется по радиоуглеродным датам образцов в интервале XXII/XXI вв. до н.э. (Librado et al. 2021: 24).
Таким образом, вопрос о характере использования лошади в ботайской культуре остаётся пока открытым. Если абстрагироваться от этой проблемы, несомненным остаётся тот факт, что жизнь ботайцев была тесно связана с популяцией лошади лесостепного Приишимья. Лошадь была главным источником питания. Кость лошади широко применялась для изготовления орудий, использовавшихся в кожевенном и керамическом ремёслах, деревообработке, изготовлении плетёных изделий, одежды, в рыболовстве и охоте. Орнаментированные фаланги, о которых идёт речь, — также результат развития косторезного дела (Даниленко 1985: 45).
Необходимо отметить, что параллельно ботайской культуре в районе Тургайского прогиба (в пределах Костанайской области Казахстана) развивалась сходная по хозяйственным и культурным показателям, при этом имеющая ряд отличающих её черт, терсекская культура. На ряде поселений (Каинды 3, Кумкешу 1) преобладают кости быка, на остальных (Кожай 1, Соленое Озеро 1) — лошади (Калиева, Логвин 1997). Есть мнение об однокультурности ботайских и терсекских памятников, но с выделением внутри последней двух групп памятников — северо-тургайской (Ливановка, Терсек-Карагай, Соленое Озеро I, Бестамак и др.), близкой ботайским памятникам, и южно-тургайской (Кожай I, Кумкешу I и др.), характеризующейся своеобразием (Мосин 2003: 72—73). Образцы орнаментированных фаланг из поселений терсекской культуры в данной статье не рассматриваются.
Орнаментированные фаланги: основные характеристики
Коллекция орнаментированных путовых костей лошади (реже — кулана и сайги) из поселений ботайской культуры насчитывает 79 изделий: Ботай — 63 фаланги; Красный Яр I — 15, Баландино (Тюменская обл., Россия) — 1 (рис. 1). Орнаментации подвергались кости лошади: Ботай — 53, Красный Яр — 6, Баландино — 1. Кости кулана: Ботай — 3; сайги Ботай — 7; Красный Яр — 9 (Ченченкова, каталог; Зайберт 2005).
В скелете лошади (сайгака, кулана) фаланги в конечности ног расположены проксимальной стороной вверх. Для того, чтобы первая (путовая) фаланга стояла, нужно поставить её широкой проксимальной стороной вниз (рис. 4—II). В такой позиции она действительно ассоциативно напоминает своей формой очертания фигуры человека (Грязнов 1962). По всей видимости, сходство путовой кости с человеческим телом было подмечено независимо и, как отмечено выше, применялось в изобразительном творчестве различных культур и эпох.
Активное использование в ботайской культуре продуктов питания и сырья для хозяйственных потребностей, получаемых от лошади — мясо, шкуры, кости, — приводит к массовому скоплению костей на жилищных площадях. Житель поселения тактильно и визуально постоянно соприкасался с лошадью. Он разделывал её тушу, употреблял мясо в пищу, обрабатывал шкуры, применял кости в качестве материала для орудий. В скелете лошади около 212 костей (Budras et al. 2009), большинство из которых постоянно было перед глазами жителей поселения и встречается в культурном слое повсеместно. Так, на поселении Ботай
№ 17. 2024
в раскопах 2005 года общей площадью 716 кв.м выявлено около 205 неорнаментированных фаланг лошади, которые залегали в межжилищном пространстве в беспорядочных скоплениях костей лошади (кухонные остатки и остатки после разделки туш), часто — в сочленениях, в составе полного скелета конечностей (Зайберт 2005).
Можно предположить, что важную роль в жизни населения ботайской культуры лошадь играла не только в профанной сфере, в бытовой и хозяйственной активности, но и в сфере символического, где существенное значение приобрёл декор на корпусе фаланги, маркировавший статус изображаемого персонажа. Её поверхность, возможно, ассоциируемая с телом человека, покрывалась орнаментом. С этой целью она предварительно специальным образом готовилась, на что указывает трасологический анализ.
Трасологический анализ орнаментированных фаланг
Орнаментированные фаланги лошади с поселения Ботай были исследованы трасологическим методом. На основании просмотра фаланг под бинокулярным микроскопом МБС-10 при использовании различных увеличений удалось проследить последовательность обработки выборки, состоящей из 56 орнаментированных фаланг, от начальной заготовки до конечного результата. Приводится общее заключение по результатам трасологического анализа.
Первая фаланга лошади состоит из следующих сторон: задняя (пальмарная или плантарная), передняя (спинковая или дорзальная), нижняя (дистальная), верхняя (проксимальная), две боковые стороны и отдельно выделяется треугольник фаланги (рис. 4—II). С точки зрения размещения на поверхности и зрительного восприятия орнаментированной фаланги, пространственная ориентация её сторон меняется на противоположную анатомической: задняя (пальмарная или плантарная) становится передней, лицевой, передняя (спинковая или дорзальная) — задней, спинковой, прокисимальная — нижней, дистальная — верхней. В описании орнаментированных фаланг мы придерживаемся анатомического принципа. Левую и правую боковые стороны фаланги определяем относительно обращённой к зрителю задней (пальмарной или плантарной) поверхности как центральной плоскости орнаментации.
После распада мышечных связок первая путовая фаланга из конечности скелета животного вынималась, освобождалась от остатков кожи и других костей. Затем фалангу могли вываривать, очищать. На первом этапе с помощью скребла на задней (пальмарной или плантарной) поверхности фаланги удаляется треугольный по форме естественный нарост (треугольник фаланги) практически до уплощения поверхности. На многих фалангах с помощью этой же технологии уплощаются боковые грани до образования ребра между ними и задней (пальмарной или плантарной) поверхностью. Скорее всего, подтёска дополнительно обеспечивала устойчивость фаланге. Следующим этапом обработки является зашлифовка тела фаланги, чаще всего только со стороны задней (пальмарной или плантарной) поверхности.
Третьим этапом было нанесение орнамента острым каменным резцом в виде скола без дополнительной обработки как со стороны задней (пальмарной или плантарной), так и с дорзальной поверхности. Резец, вероятнее всего, закреплялся в рукояти для большего усилия при выполнении функции прорезания. Часто видны неточности в нанесении орнамента и сползания орудия труда с основных линий намеченной композиции. Прорезание производилось в несколько этапов практически во всех случаях. Насечки по боковым граням наносились каменной пилкой. Иногда фиксировалось, что лезвие пилки было довольно изношенным в результате работы. После нанесения орнамента, а в некоторых случаях до этого этапа, поверхность тела заполировывалась чаще всего только со стороны задней (пальмарной или плантарной) поверхности. Размеры фаланг лошадей по длине и ширине (посредине) варьируют в интервале: 95 × 40 мм — 85 × 35мм — 70 × 25 мм.
На некоторых изделиях орнамент подчёркнут искусственно созданным чёрным цветом поверхности фаланги (рис. 9: 4 ). Пока не удалось выяснить, каким образом он наносился, но
№ 17. 2024
Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: археологический контекст, особенности декора и интерпретация это придавало фалангам особый декоративный «имидж». Возможно, чернение производилось с использованием золы или предметы подвергались какой-то термической обработке. Причем чёрная поверхность формировалась перед нанесением орнамента, поскольку следы от работы резчиком перекрывают закрашенную поверхность тела фаланги. Для контраста рисунок мог затираться краской. Например, на двух фалангах из поселения Ботай в углублениях орнамента зафиксирована охра (Ченченкова 2015: табл. 2: 3, 9).
Судя по наличию целой технологической цепочки операций, задействованной при обработке фаланг, можно предположить, что среди жителей поселения существовала специализированная группа людей с более совершенными навыками и умениями обработки и резьбы по кости и, конечно же, владеющие знаниями сакрального свойства, принимая во внимание символическое значение декора фигурок. Скорее всего, резчики орнамента и были носителями или исполнителями ритуальных функций, ведающими его смысловым значением.
Изобразительная система ботайской культуры на орнаментированных фалангах
В неё входят боковые насечки, нанесённые по бокам, и орнамент на передней и задней сторонах, которые могут рассматриваться как относительно самостоятельные составные части. Стороны фаланги декорировались композициями из элементов геометрического орнамента. При этом отсутствуют сравнительно одинаковые орнаментированные фаланги, то есть можно сказать, что каждая из них индивидуальна по своей орнаментальной композиции. Элементы декора делятся на следующие устойчивые типы: 1) вертикальная ось в виде зигзага (рис. 5: 1, 2, 9 ); 2) вертикальная ось в виде симметричной полосы (рис. 4: 1—4, 7 ); 3) ромбическая сетка и сочетание ромбов (рис. 5: 3—8, 10 ); 4) композиция из трёх зон, расположенных одна под другой (рис. 6: 1—5, 7) (Ченченкова 2015: 294); 5) ряды треугольников (рис. 6: 8—11 ).
Верхнюю зону трёхчастной композиции занимает V-образная фигура, среднюю зону — горизонтальная полоса орнамента, нижнюю зону — фигура в виде прямоугольника или трапеции (рис. 6: 1—5, 7 , 8: 2, 4 ). Орнамент на задней поверхности присутствует почти повсеместно, реже — на передней. На бо́льшей части ботайских фаланг имеются насечки и орнамент — 48 экз. Однако существуют экземпляры как без насечек, только с орнаментом — 7 экз., так и без орнамента, только с насечками — 18 экз. (Ченченкова 2015: 292, 294).
Декор фаланг во многом подобен орнаментике керамики. Стиль декора ботайской посуды сформирован сложными геометрическими фигурами, которые придают орнаментальной схеме разреженный характер (рис. 3). Наиболее распространёнными мотивами, выполненными в технике «гребёнки» и «верёвочки», являются ромбическая и прямоугольная сетка, заштрихованные треугольники в различных сочетаниях, лента-зигзаг, горизонтально и вертикально расположенные полые и заштрихованные ромбы, различные варианты «лесенок» (Мартынюк 1985: 62, 64—65; рис. 3, 4; Мосин 2003: 59—62; табл. 4, 5; рис. 2).
Энеолитическая керамика памятников Южного Зауралья и Северного Казахстана по стилю геометрической орнаментации в значительной мере соотносится с энеолитическими комплексами Севера, Северо-Запада европейской части России и Прибалтики (Мосин 2003: 90—97). Скорее всего, появление и формирование стереотипов энеолитической ботайской культуры в лесостепной зоне казахстанского Приишимья на основе местного неолита было определено продвижением лесных племён, которые осваивают новую производственнохозяйственную нишу, связанную с охотой и, возможно, с коневодством.
Таким образом, феномен гравирования геометрическим орнаментом фаланг (путовых костей) лошадей и других копытных животных возникает и «соседствует» в ботайской изобразительной традиции в комплексе с геометрией орнамента на сосудах, каменных пряслицах, дисках и «утюжках» (Заитов 1985: рис. 6: 5 ; Зайберт 2009: рис. 73: 4 , 74: 2 , 3, 6 , 75: 1, 2, 6 , 76: 1—9 , 77: 3, 14 , 78: 2, 4, 5 , 79: 3, 6, 8 , 80: 2—6 , 81: 1, 2, 4, 6 ), являясь органичной и характерной чертой изобразительной традиции этой археологической культуры. Возможно, осознавая огромное значение лошади в жизнеобеспечении, жители поселения посчитали
№ 17. 2024
необходимым представить диалог «лошадь и человек» в своей системе мировоззрения, сделав орнаментированную фалангу копытного животного одним из его символов.
Насечки и элементы орнамента. Боковые насечки и орнамент, входящие в изобразительную систему ОФ 2 , в разной комбинациях декорируют стороны фаланги (рис. 7: 1, 2, 4 ). Количественное присутствие насечек по сторонам фаланги требует отдельного изучения, возможно, с применением математических методов и в данной статье не рассматривается. Относительно ОФЛ и ОФК преобладают орнаментированные фаланги с насечками. В целом, количество фаланг с орнаментом превалирует по сравнению с фалангами, на которых нет орнамента, но есть насечки. Вероятно, насечки относятся к самостоятельному изображению, различаясь даже по нанесению (пропил каменной плиткой) от орнамента (гравировка каменным резцом). Проследить планиграфию фаланг с насечками без орнамента на территории поселений не удаётся. Не исключено, что они могли иметь отношение к каким-то определённым участкам поселения, в отличие от фаланг с орнаментом. По имеющимся на сегодня данным только на фалангах копытных животных (сайга, кулан) насечки сосуществуют вместе с орнаментом (рис. 7: 3, 5—9 , 9: 1, 2 ). По отдельности каждый элемент не встречается, исключение — одна фаланга сайги без насечек (табл. 1).
Определено сочетание насечек с основными элементами орнамента: зигзаг, ломаная линия; ромб; треугольник; трёхзональность (V-образная фигура, горизонтальный ряд фигур или линий, нижняя прямоугольная фигура); прямая линия. Выделены комбинации: фаланги без насечек с элементами орнамента; орнаментация количества сторон относительно наличия насечек и их отсутствия (табл. 2).
В результате корреляции получены следующие показатели:
-
— ромб в различных вариациях — на первом месте по «популярности» элемент, присутствующий как на фалангах с насечками, так и без них. Ромбические элементы — самые распространённые в композициях на ботайских сосудах (рис. 9: 4, 7 );
-
— на втором месте — ломаная линия, элементы зигзага или его мотивы (рис. 9: 9 );
-
— трёхзональная композиция исключает наличие насечек по сторонам;
-
— на нескольких своих сторонах имеют орнамент, преимущественно, фаланги копытных животных;
-
— фаланги лошади в основном декорируются по одной стороне — задней (пальмарной или плантарной).
Скорее всего, существовали принципы образных представлений о мире в формировании орнаментального поля на «теле» фаланги в сочетании с насечками. Наряду с этим некоторые фаланги покрывались по сторонам только насечками, их количество превышает количество фаланг с орнаментом без насечек (табл. 1).
Левая и правая . Фаланги лошади для орнаментации брались от левой и правой как передней, так и задней конечностей лошади или сайги (табл. 3). Фаланга от левой передней и задней конечностей лошади почти в равном количестве отбиралась для нанесения орнамента. Левая фаланга чаще всего использовалась для нанесения насечек без орнамента. В отношении фаланг копытных животных повторяемость относительно левой и правой сторон конечностей не отмечается (табл. 4). В общей корреляционной таблице ОФК не включены из-за отсутствия точного определения принадлежности фаланг к левой или правой конечностям.
Левая фаланга лошади, её задняя (пальмарная или плантарная) часть, чаще всего используется для декорирования мотивами ромба и ломаной линией зигзага. Боковые стороны фаланги в орнаментике отдают «предпочтение» мотивам зигзага. Правая фаланга уступает
№ 17. 2024
Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: археологический контекст, особенности декора и интерпретация по декоративности левой. Одним словом, «фаворитами» в изобразительной системе ОФЛ являются:
-
— задняя (пальмарная или плантарная) часть левой фаланги;
-
— композиции из ромба и ломаных линий;
-
— трёхзональная композиция без насечек наносилась на задней (пальмарной или плантарной) части левой фаланги;
-
— мотивы зигзага на боковых сторонах фаланги (табл. 5).
Орнаментальные фаланги в жилом пространстве поселений ботайской культуры
Условия залегания фаланг в культурных слоях поселения различны. Иногда из-за отсутствия каких-либо точных характеристик по ОФ (местонахождение, элемент орнамента), число используемых данных в таблицах не всегда совпадает с общим известным количеством гравированных костей, найденных на ботайских поселениях (табл. 6).
Орнаментированные фаланги встречаются в 23% раскопанных жилищ поселения Ботай. Однако, если принять во внимание, что ОФ находились и на межжилищных участках, имевших отношение к жилищам, то получается, что около 50% от всего раскопанного жилого пространства содержало ОФ. На поселении Красный Яр I, где раскопано всего три жилища, ОФ были найдены в одном из них.
Жилища поселения Ботай отличаются по количеству найденных ОФ. Единичные находки в жилищах и рядом с ними зафиксированы в 19 случаях. Примерно одинаково число жилищ и участков, в которых насчитывалось по две или по три—пять ОФ: девять случаев. Пять случаев, когда ОФЛ находились в отдельной яме. Только в жилище № 140 было найдено 13 ОФЛ и одна фаланга кулана (рис. 9: 5 ), что указывает на особое его значение в системе жилого пространства (отдельно остановимся на этом жилище ниже). Орнаментированные фаланги других копытных (сайга и кулан) чаще всего находились за границами жилища (табл. 6).
На поселение Красный Яр I в одном раскопанном жилище было найдено 11 ОФ, из них восемь ОФК, что заметно отличается от «ботайского» набора фаланг в жилищном заполнении, представленного, в основном, ОФЛ.
В целом, складывается впечатление, что на поселении Ботай было обязательным правилом помещать ОФ в дома или рядом с ними (табл. 7). Присутствие её, по всей видимости, имело значение в формировании некой площади с ритуальным подтекстом, возможно, связанной с домашними обрядами (в таблицу не включены данные ОФ по раскопам и зонам, так как в этом случае информация по численности имеется только общая).
В юго-западном секторе пола жилища № 1 поселения Красный Яр I рядом с охристым пятном находилось несколько ОФЛ, две из них окрашены охрой. В юго-восточном секторе — фрагменты лошадиного черепа, окрашенные в красный цвет (Зайберт 1993: 120). Также стоит обратить внимание, что ОФ были зафиксированы и в небольших ямках (табл. 6).
Неорнаментированные фаланги встречаются на поселении Ботай в двух различных контекстах:
-
1) в качестве массового остеологического материала в культурном слое на межжилищных участках, в основном в беспорядочных скоплениях костей лошади (кухонные остатки или остатки разделки туш). Часто — в сочленениях, в составе полного скелета конечностей. Только в раскопах 2005 г. их выявлено 205 экз. (Зайберт 2005);
-
2) в отдельной ямке или выложенные горкой, без других частей скелета лошади, что можно считать закладами, которые могли быть предназначены для последующей обработки, нанесения орнамента или применения в каких-то обрядах. Отмечено, например, компактное скопление из 16 неорнаментированных фаланг (НА ИА КН МНВО РК Д. 3031. Л. 15).
Итак, орнаментированные фаланги сосредоточены на «жилой» половине пространства поселения Ботай. Из 18 раскопанных жилищ по одной ОФЛ было в 14-ти жилищах. То есть присутствие ОФ, было, видимо, неким культовым условием, без которого не мыслилось содержание дома.
№ 17. 2024
При раскопках поселения Красный Яр I в 2000 г. в одном из жилищ и в исследовательской траншее были обнаружены компактные скопления неорнаментированных фаланг лошадей (Волошин и др. 2000). В жилище № 3 встречено компактное скопление из 28-ми необработанных проксимальных фаланг, две из них имели следы лощения, находились у стены, к западу от очага. Предполагается, что фаланги хранились в сумке или каком-либо другом не сохранившемся контейнере. Ещё один «заклад» из шести неорнаментированных фаланг лошади обнаружен в исследовательской траншее на южной окраине поселения. Такие фаланги могли быть «помечены» не резным орнаментом, а каким-то несохранившимся способом, например, с использованием растительных волокон, веревок, ткани, кожи, меха и т. д.
Жилище № 140: особенности конструкции и набора орнаментированных фаланг
Конструкция жилища. Сооружение находилось в центральной части поселения (раскоп XXV) (рис. 2), устроено в виде полуземлянки с котлованом округлой формы диаметром около 7 м, с выраженным углом в юго-западной части и двумя выступами в северо-восточной части под ниши для ям. В котловане выявлены два очага: очаг № 1 на глубине 70 см, диаметром около 60 см, и очаг № 2 размерами 60 × 80 см в полу жилища (НА ИА КН МНВО РК Д. 2188. Л. 5—33). Возможно, наличие двух очагов и двух зафиксированных стратиграфически слоёв пола на разных уровнях свидетельствуют о двукратном (с перерывами) функционировании жилища.
В полу жилища устроены три неглубокие ямки, две большие ямы находились у северовосточной стены. Одна из них содержала черепа, сочленённые позвонки и отдельные кости лошади, другая — два черепа хищников (очевидно, собак), нижние челюсти третьего, конечности в сочленении, позвонки, рёбра. Около этих двух ям локализовалась основная масса находок: скопления костей, множество кремнёвых, каменных и костяных орудий и заготовок, мелких каменных чешуек. В одном скоплении залегало около 100 копыт лошади, часто — в сочленении с фалангами и берцовыми костями.
Восемь ОФЛ было найдено на полу (одна из них — в ямке), две — в заполнении (глубина 30—50 см) котлована, две — в дерновом слое над котлованом, две — из ямы на межжилищном пространстве (Ченченкова, каталог). Итого 14 экземпляров орнаментированных фаланг: 13 — лошади, одна — кулана.
По основным показателям жилище № 140 своими размерами и формой котлована не выделяется среди остальных сооружений поселения Ботай. Однако имеются конструктивные детали и находки, отличающие его от других жилищ: 1) обваловка из суглинка с костями на расстоянии 2 м от границ котлована, возможно, для увеличения площади жилища и создания опоры для жердей перекрытия; 2) два коротких и толстых обугленных бревна одинаковой длины рядом с котлованом, которые могли быть столбами для оформления входа или иного назначения; 3) большое количество орнаментированных фаланг в пределах жилища, в т. ч., на его полу; 4) обилие копыт и иных костей конечностей лошади в одном скоплении; 5) кости собаки в яме; 6) центральное положение сооружения на площадке поселения (рис. 2, на плане жилище отмечено красной линией).
Набор орнаментированных фаланг. Выразительно орнаментированные фаланги лошади и одна — кулана составляют самый многочисленный набор из одного жилища. Только в этом наборе есть фаланги с трёхзональной орнаментацией (6 экз., 3 экз. — частично) из обнаруженных в жилом пространстве поселения Ботай (рис. 6: 1—5, 7 , 8: 2, 4 ). Фигурки с таким видом орнаментации послужили основой для идеи реконструкции стиля женского платья жительниц Ботая и рассматривались как воплощение образа женского божества (Olsen, Harding 2008: 67—92).
Однако интерпретация данных фигурок остаётся открытой. Что означают три зоны? Выражают ли они какие-либо символические постулаты? Например, обереги на шее? Может это — фигурки для гадания? Если это платье, то для чего обозначен разрез внизу подола? Набор
№ 17. 2024
Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: археологический контекст, особенности декора и интерпретация орнаментальных фаланг лошади и кулана в контексте залегания в одном комплексе с ними ста лошадиных копыт, черепов лошади и собак указывает на ритуальный характер самого жилища, возможно, связанный с культом лошади, когда происходит символическая связь витализма тела человека через фалангу с лошадью. По всей видимости, перед нами главные «ферзи» в комплекте ботайских фигурок. И, возможно, фигурки с трёхзональной орнаментацией имели место быть на главном поселении Ботай, на других поселениях ботайской культуры они отсутствуют или пока не найдены.
Интерпретация и использование
В целом ряде публикаций «идольчики» из фаланг копытных уверенно названы «женскими» (Юдин 2004: 125—126; Olsen, Harding 2008; Лопатин, Порхунова 2011; Горелик 2023). Впоследствии большинство исследователей так или иначе apriori принимают пол статуэток как женский.
Однако при этом только в одном случае — на Варфоломеевской стоянке — на фигурке из путовой кости лошади были специально обозначены груди (Юдин 2004: рис. 67: 2 ). Кроме того, среди фигурок нет таких, где можно было бы однозначно увидеть в нижней части опущенный вершиной вниз треугольник, который можно было бы толковать как лобковый треугольник — признак пола у женского изображения. В таком смысле интерпретирован один из элементов только у одной фигурки из Ботая (Лопатин, Порхунова 2011: 17; рис. 5: 14 ). Такие «элементы орнамента» затем появляются в типологических таблицах (Лопатин, Порхунова 2011: рис. 3: 9 ) и широко используются для интерпретации фигурок как женских.
С некоторой долей уверенности на признак пола в виде треугольника в нижней части орнаментированной фаланги можно указать на пяти фигурках из поселения Ботай (рис. 4: 5, 6, 9 , 6: 6 , 9: 6 ).
Понятно, что подобные интерпретации могли возникнуть только в свете принятой многими исследователями парадигмы, предложенной для раннеземледельческой пластики в 1960-е гг. Б.А. Рыбаковым и М. Гимбутас: все это фигурки, изображающие преимущественно женские образы, связанные с культами плодородия. От этих парадигм большинство исследователей уже отказалось (Lesure 2011; Палагута 2017), что верно по отношению к интерпретации фигурок ботайской культуры, где не было ни земледелия, ни скотоводства. С большой долей вероятности можно утверждать об их антропоморфности, отсюда исходят различные варианты их толкований в поведенческой культуре «ботайцев».
Во-первых, эти фигурки явно обозначают связь между человеком и животными. При том, что в ботайской культуре было развито производство керамики, фигурки из неё не изготавливали, а целенаправленно использовали путовые кости животных, преимущественно, фаланги лошади — основного объекта охоты. Вероятно, в семантике орнаментированной фаланги соединилось физическое и сакральное значение лошади периода первых попыток её приручения. Обратим внимание на то, что среди ботайских находок доминируют левые фаланги. Не связано ли это с тем, что во многих мифологических системах левая сторона соотносится с женским началом (Иванов Вяч. 1978: 84)? Кстати, уместно привести замечание казахских знатоков лошади — сыншы, что лошадь спотыкается чаще всего на левую ногу (устное сообщение коневода И.К. Нурлыбаева (г. Жезказган) одному из авторов статьи — Э.Р. Усмановой).
Во-вторых, находка 28 неорнаментированных фаланг в ямке в жилище № 3 поселения Красный Яр I, которые, возможно, хранились в каком-то контейнере, свидетельствует о том, что фигурки из фаланг могли использоваться в виде наборов. Здесь фаланги лошадей могли быть помечены не резным орнаментом, а каким-либо иным способом с использованием несохранившихся органических материалов (кожа, перья, растительные волокна или шерсть и т. д.). На использование орнаментированных фаланг в наборах указывает концентрация их находок в жилище № 140 поселения Ботай. Разнообразие декора изделий из этого комплекса могло указывать на представление фигурками различных персонажей.
№ 17. 2024
Принимая во внимание значение лошади в системе жизнеобеспечения «ботайцев», существование социально-хозяйственной связи «лошадь-человек» и использование фигурок в наборах, мы можем предложить возможные варианты интерпретации орнаментированных фаланг.
Вариант интерпретации их в качестве игровых наборов имеет под собой определённые основания, но здесь есть и аргументы против. В сериях нет двух одинаковых фаланг. В большинстве жилищ поселения Ботай, кроме жилища № 140, орнаментированные фаланги найдены в единичных экземплярах. Здесь очевидно и различие между лошадиными фалангами и фалангами других животных. Фаланги сайги, как правило, декорированы со всех сторон, значит, их можно было свободно вертеть в руках (рис. 7: 3, 5—9 ). Фаланги лошади, наоборот, в большинстве декорированы только с одной, задней (пальмарной или плантарной) части, значит, их должны были расставлять лицом к зрителю.
Таким образом, мы приходим к выводу, что фигурки изображали кого-то, кто участвовал в расстановке. Эти персонажи, хотя и маркируются в рамках групп со сходным построением декора, но при этом сохраняют индивидуальность.
Обратим внимание на фигурки из жилища № 140 поселения Ботай. Здесь не только самое большое количество фигурок, но ряд из них отличается особым декором, не обнаруженным в других жилищах (трёхзональная орнаментика). Центральное место в планировке посёлка, конструктивные особенности и находка в нём знаковых объектов (черепа лошади, собак, скопление копыт лошадей) позволяет предположить, что это была постройка, выполняющая особые функции.
Можно видеть в нём общественное здание, но средние его размеры указывают на то, что оно вмещало не всех жителей посёлка, а только их часть. Это могло быть сооружение, чем-то аналогичное «мужскому дому» меланезийцев (D’Alleva 1998: 33—40), в котором могли собираться те члены общины, которые были теснее всего связаны с основным промыслом — охотой на лошадей. Или же эта постройка была местом хранения фигурок и связана с иными функциями?
Разнообразие форм декора обнаруженных здесь фаланг также позволяет предположить, что они изображали некий набор персонажей.
Если обратиться к этнографическому материалу, то наиболее распространёнными в различных культурах типажами, которые изображают фигурки масштаба руки и относительно небольшой «кабинетной» скульптуры, будут персонажи, наиболее тесно связанные с жилищем, отдельной персоной или семьёй. Именно таких персонажей в виде Ларов — хранителей дома, можно увидеть в древнеримском жилище (Палагута, Митина 2014). Персонализированный характер имеют и изображения качинов у хопи: их более 250 персонажей, изображение кого-нибудь из них становится своеобразным хранителем человека с самого детства и хранится в доме (Colton 1959).
Ещё один круг подобных изобразительных памятников — сибирские «онгоны». Они были собраны Д.К. Зелениным, но интерпретированы в духе модной в начале ХХ века идеи тотемизма как истока религии (Зеленин 1936). Подборка различных разновидностей мелкой скульптуры народов Сибири была представлена также С.В. Ивановым (Иванов 1970; 1979). Значительная часть их является изображениями реальных или мифологизированных предков, превратившихся в духов-хранителей. «Кукольные» заместители умерших предков («тул», «тул-ат» и т. д.) присутствовали у тюркских народов. Они могли быть как мужского, так и женского рода (Толеубаев 1991: 109—111). Анализ эволюции форм казахских кукол представлен и в недавней статье Ж.Н. Шайгозовой (Шайгозова 2024).
Заключение
В свете вышеизложенного можно предположить, что на поселении Ботай единичные находки орнаментированных фаланг маркировали семейные коллективы, а серия изделий была
Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: № 17. 2024 археологический контекст, особенности декора и интерпретация представлена в постройке (жилище № 140), играющей роль некоего общественного центра, где осуществлялись практики, охватывающие более широкий круг персонажей (возможно, более дальних — мифологизированных предков). Присутствие орнаментированной фаланги в жилом пространстве поселений ботайской культуры — это сакральный маркер, знак присутствия некоего священного элемента, интерпретация которого может быть достаточно широка: от оберегов дома до духов-прародителей, женских и мужских божеств, с включением их в проведение домашних, сезонных ритуалов. Осмысление сакрального пространства поселения на основе орнаментированных фаланг способствовало социально-культурному сплочению ботайского сообщества.
Символическая система ОФ создавала информационно-коммуникативное поле, понятное и принятое «ботайцами». Фаланга лошади, с одной стороны, своей формой напоминала тело человека, с другой, в какой-то степени являет собой образ лошади. Путовая кость, за которую стреножили лошадь, играла роль в амортизации движения лошади. Чем лучше развиты, чем шире путовые суставы, тем мягче и выносливее ход лошади (устное сообщение коневода И.К. Нурлыбаева (г. Жезказган) одному из авторов статьи — Э.Р. Усмановой). В единичных экземплярах имеются орнаментированные фаланги копытных животных (кулан, сайга), форма которых также ассоциируется с антропоморфизмом. Видимо, орнаментированная фаланга, соединяющая в себе человеческое и животное, индексировала главный пищевой, жизненный и производственный ресурс «ботайца». Учитывая, что роль лошади в жизнеобеспечении была главенствующей, орнаментированная фаланга, возможно, отражала первые этапы процесса её приручения на поселении Ботай.
Предложенные здесь интерпретации, конечно, нельзя считать окончательными. Однако они обозначают путь для дальнейших реконструкций и интерпретаций, которые необходимо и можно осуществлять на основе более тщательной фиксации контекста находок и анализа конкретных их комплексов.
Список литературы Орнаментированные фаланги животных на поселениях ботайской культуры: археологический контекст, особенности декора и интерпретация
- Ахинжанов и др. 1992: Ахинжанов С.М., Макарова Л.А., Нурумов Т.Н. 1992. К истории скотоводства и охоты в Казахстане (по остеологическому материалу из археологических памятников энеолита и бронзы). Алма-Ата: Гылым.
- Бурдо Н.Б. 2018. Антропоморфная пластика курганных погребений раннего бронзового века в Буго-Днепровском междуречье и Поднепровье. Tyragetia S.N. XII [XXVII], nr. 1, 97—114.
- Бурдо Н.Б. 2019. Антропоморфные статуэтки усатовской культуры. Матерiали з археології Північного Причорномор’я 14, 112—133.
- Волошин и др. 2000: Научный архив Акмолинского областного историко-краеведческого музея. Волошин В.С., Бектасов Ш., Олсен С., Брэдли Б. 2000. Отчет о проведении совместной казахстано-американской экспедиции на памятнике Красный Яр. Кокшетау.
- Горелик А.Ф. 2023. Антропоморфная тема («идольчики» из фаланг лошади) в период керамического субнеолита на территории степей Понто-Каспия (часть 2). Аякс. Исследования по истории, археологии, культуре I (1—2), 10—61.
- Грязнов М.П. 1962. Антропоморфная фигурка бронзового века с реки Оби. СГЭ XXII, 26—27.
- Даниленко Т.А. 1985. Костяной инвентарь поселения Ботай. В: Зданович С.Я. (отв. ред.). Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. Челябинск: Башкирский государственный университет им. 40-летия Октября, 34—47.
- Ермолова Н.М. 1993. Остатки млекопитающих из поселения Ботай (по раскопкам 1982 г.). В: Зайберт В.Ф. (отв. ред.). Проблемы реконструкции хозяйства и технологий по данным археологии. Петропавловск: Отдел «Археология Северного Казахстана» ИА НАН РК, 87—89.
- Заитов В.И. 1985. Характеристика каменных орудий поселения Ботай. В: Зданович С.Я. (отв. ред.).
- Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. Челябинск: Башкирский государственный университет, 17—33.
- Зайберт В.Ф. 1993. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск: Наука.
- Зайберт 2005: НА ИА КН МНВО РК. Д. 2735. Зайберт В.Ф. 2005. Научные археологические исследования на поселении Ботай в 2005 году.
- Зайберт В.Ф. 2009. Ботайская культура. Алматы: Қазақпарат.
- Зайберт и др. 1990: Зайберт В.Ф., Даниленко Т.А., Горбунов В.С. 1990. К вопросу о реконструкции элементов конской сбруи по материалам энеолита-бронзы урало-казахстанской лесостепи. В: Зданович Г.Б. (отв. ред.). Археология Волго-Уральских степей. Челябинск: ЧелГУ, 61—65.
- Зайберт и др. 2013: Зайберт В.Ф., Стефанов В.И., Мартынюк О.И., Ченченкова О.П. 2023. Каменная скульптура лошади с реки Кошкарбайка (степное Ишимо-Иртышье). В: Тишкин А.А. (отв. ред.). Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: Алтайский университет, 254—256.
- Захаров С.В. 2024. Изучение памятников энеолита казахстанского Приишимья (1950-е — 1996 гг.). Археология Казахстана (Қазақстан археологиясы) 2 (24), 139—159.
- Зеленин Д.К. 1936. Культ онгонов в Сибири. Пережитки тотемизма в идеологии сибирских народов. Москва, Ленинград: АН СССР.
- Иванов Вяч. Вс. 1978. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. Москва: Советское радио.
- Иванов С.В. 1970. Скульптура народов Севера Сибири XIX — первой половины XX века. Ленинград: Наука.
- Иванов С.В. 1979. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. Ленинград: Наука.
- Калиева С.С., Логвин В.Н. 1997. Скотоводы Тургая в третьем тысячелетии до нашей эры. Кустанай: ИА МН-АН РК; Кустанайский государственный университет.
- Кисленко А.М. 1993. Опыт реконструкции энеолитического жилища. В: Зайберт В.Ф. (отв. ред.). Проблемы реконструкции хозяйства и технологий по данным археологии. Петропавловск: Отдел «Археология Северного Казахстана» ИА НАН РК, 117—137.
- Косинцев П.А. 2008. Происхождение «колесничных лошадей». В: Ковалева И.Ф. (отв. ред.). Происхождение и распространение колесничества. Луганск: Глобус, 113—129.
- Лопатин В.А., Порхунова А.С. 2011. Орнаментированные путовые кости лошади в искусстве неолита — энеолита степной Евразии. В: Моргунова Н.Л. (отв. ред.). Археологические памятники Оренбуржья 9, 12—29.
- Мартынюк О.И. 1985. Керамика поселения Ботай. В: Зданович С.Я. (отв. ред.). Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. Челябинск: Башкирский ГУ, 59—72.
- Мерц В.К. 2019. Образы галечной и кремневой скульптуры стоянки Шидерты 3. В: Леванова Е.С. (отв. ред.). Знаки и образы в искусстве каменного века. Тезисы докладов Международной конференции. Москва: ИА РАН, 80—82.
- Мосин B.C. 2003. Энеолитическая керамика Урало-Иртышского междуречья. Челябинск: ЮУрГУ.
- Мошинская В.И. 1976. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. Москва: Наука. НА ИА КН МНВО РК Д. 2188. Зайберт В.Ф. 1987. Отчет о научно-исследовательской работе. Археологические исследования в Кокчетавской области в 1987 году.
- НА ИА КН МНВО РК Д. 3031. Зайберт В.Ф., Захаров С.В., Плешаков А.А., Тюлебаев А.Ж., Мартынюк О.И., Ильдеряков Н.Н., Ковшова Н.С., Магзумов А.М., Хомутовский А.Ю. 2011. Отчет о научно-прикладном исследовании «Ботай — историческая подоснова конных номадов Евразии».
- Октябрьская И.В., Лбова Л.В. 2021. Модифицированные кости животных в сакральной, игровой и художественной культуре Евразии. Традиции тысячелетий. Stratum plus 2, 219—233.
- Палагута И.В., Митина М.Н. 2014. Некоторые замечания к смысловой интерпретации предметов раннеземледельческой пластики: Lares et Penates эпохи неолита? Вестник СПбГУ. Сер. 15. Искусствоведение 4, 80—95.
- Палагута И.В. 2017. Антропоморфная пластика неолита — медного века Европы: проблемы и перспективы исследования. В: Вишняцкий Л.Б. (отв. ред.). Ex Ungue Leonem. Санкт-Петербург: Нестор-История, 179—202.
- Сериков Ю.Б. 2013. Каменная скульптура древнего населения среднего Зауралья. В: Тишкин А.А. (отв. ред.). Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: Алтайский университет, 272—276.
- Телегiн Д.Я. 1973. Середньостогівська культура епохи міді. Киïв: Наукова думка.
- Толеубаев А.Т. 1991. Реликты доисламских верований в семейной обрядности казахов (XIX — начало ХХ в.). Алма-Ата: Гылым.
- Ченченкова О.П. 2015. Орнаментированные фаланги животных в памятниках нео-энеолита (Северный Казахстан, Тургайский прогиб, Поволжье). В: Бейсенов А.З. (отв. ред.). Древний Тургай и Великая Степь: часть и целое. Костанай; Алматы: ИА КН МОН РК, 292—306.
- Ченченкова О.П. Каталог. Личный архив. Шайгозова Ж.Н. 2024. «Кукольная тема»: куыршақ в обряде, ритуале и современной художественной практике. Qazaq Historical Review 2 (2), 204—223.
- Юдин А.И. 2004. Варфоломеевская стоянка и неолит степного Поволжья. Саратов: Саратовский университет.
- Benecke N., von den Dreisch A. 2003. Horse exploitation in the Kazakh steppes during the Eneolithic and Bronze Age. In: Levine M., Renfrew C., Boyle K. (eds.). Prehistoric Steppe Adaptation and the Horse. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 69—82.
- Brown et al. 1998: Brown D., Anthony D., Wear B. 1998. Horseback Riding and the Botai Site in Kazakstan. Journal of Archaeological Science 25, 331—347.
- Bueno-Ramírez P. 2020. Cuerpos e identidades desde el Paleolítico al Neolítico en Europa. Las figuritas Ibéricas. In: Bueno-Ramírez P., Soler Díaz J.A. (eds.). Idolos. Miradas milenarias. Alicante: Museo Arqueológico de Alicante, 28—39.
- Budras et al. 2009. Budras K.-D., Sack W.O., Rock S. 2009. Anatomy of the Horse: An Illustrated Text. Sixth Edition. Hannover: Schlütersche.
- Christidou et al. 2009: Christidou R., Coqueugniot E., Gourichon L. 2009. Neolithic figurines manufactured from phalanges of Equids from Dja’de el Mughara, Syria. Journal of Field Archaeology 34 (3), 319—335.
- Colton H.S. 1959. Hopi Kachina Dolls with a Key to their Identification. Albuquerque: University of New Mexico Press.
- Comşa E. 1995. Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României. Bucureşti: Editura Academiei Române.
- D’Alleva A. 1998. Arts of the Pacific Islands. New York: Harry N. Abrams.
- Gaunitz et al. 2018: Gaunitz Ch., Fages A., Hanghøj K., Albrechtsen A., Khan N., Schubert M., et. al. 2018. Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses. Science 360 (6384), 111—114.
- Hansen S. 2007. Bilder vom Menschen der Steinzeit: Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in Südosteuropa. T. I—II. Mainz: Philipp von Zabern (Archäologie in Eurasien 20).
- Hutton R. 1997. The Neolithic great goddess: a study in modern tradition. Antiquity 71 (271), 91—99.
- Kashina E. 2002. Anthropomorphic Flint Sculpture of the European Russian Forest Zone. Anthropologica et Prehistorica 113, 51—60.
- Kashina E. 2009. Ceramic Anthropomorphic Sculptures of the East European Forest Zone. In: Jordan P., Zvelebil M. (eds.). Ceramics Before Farming: The Dispersal of Pottery Among Prehistoric Eurasian Hunter-Gatherers. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 281—297.
- Lesure R.G. 2011. Interpreting Ancient Figurines. Context, Comparison, and Prehistoric Art. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levine M. 1999. Botai and the origins of horse domestication. Journey of Anthropological Archaeology 18 (1), 29—78.
- Librado et al. 2021: Librado P., Orlando L., Kosintsev P., Kuznetsov P., Anthony D., Kroonen G., Vybornov A. et al. 2021. The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature 24. DOI: 10.1038/s41586-021-04018-9.
- Loze I. 1995. Clay figural art in the forest belt of Neolithic Eastern Europe. Archaeologia Baltica 1, 20—32.
- Matuzeviciute et al. 2019: Matuzeviciute G.M., Lightfoot E., Liu X., Jacob J., Outram A.K., Zaibert V.F., Zakharov S., Jones M.K. 2019. Archaeobotanical investigations at the earliest horse herder site of Botai in Kazakhstan. Archaeological and Anthropological Sciences 11, 6243—6258.
- Nunez M.G. 1986. Clay figurines from the Åland Islands and Mainland Finland. Fennoscandia Archaeologica 3, 17—34.
- Olsen et al. 2006: Olsen S.L., Bradley B., Maki D., Outram A. 2006. Community organisation among Copper Age sedentary horse pastoralists of Kazakhstan. In: Peterson D., Popova L.M., Smith A.T. (eds.). Beyond the Steppe and Sown: Proceedings of the 2002 University of Chicago Conference on Eurasian Archaeology. Leiden: Brill Academic Publishers, 89—111 (Colloquia Pontica 13).
- Olsen S.L., Harding D.G. 2008. Women՚s Attire and Possible Sacred Role in 4th Millennium Northern Kazakhstan. In: Linduff K.M., Rubinson K.S. (eds.). Are all Warriors male? Gender Roles on the Ancient Eurasian Steppe. Lanham MD: AltaMira Press, 67—92.
- Outram et al. 2009: Outram A., Stear N., Bendrey R., Olsen S., Kasparov A., Zaibert V., Thorpe N., Evershed R. 2009. The Earliest Horse Harnessing and Milking. Science 323 (5919), 1332—1335.
- Rassamakin Y. 1999. The Eneolithic of the Black Sea Steppe: Dynamics of Cultural and Economic Development 4500—2300 BC. In: Levine M., Rassamakin Y., Kislenko A., Tatarintseva N. Late prehistoric exploitation of the Eurasian steppe. Cambridge: McDonald Institute, 59—182.