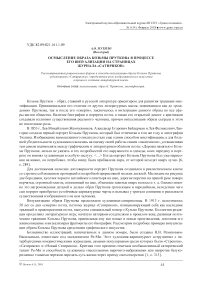Осмысление образа Козьмы Пруткова в процессе его визуализации на страницах журнала "Сатирикон"
Бесплатный доступ
Рассматриваются рациональные формы и способы визуализации образа Козьмы Пруткова художниками «Сатирикона», определяется роль изобразительного искусства в процессе создания литературной маски.
Визуализация, образ к. пруткова, мистификация
Короткий адрес: https://sciup.org/14822657
IDR: 14822657 | УДК: 82.09:821.161.1.09
Текст научной статьи Осмысление образа Козьмы Пруткова в процессе его визуализации на страницах журнала "Сатирикон"
Козьма Прутков – образ, ставший в русской литературе ориентиром для развития традиции мистификации. Принципиальное его отличие от других литературных масок, появившихся как до «рождения» Пруткова, так и после его «смерти», заключалось в интеграции данного образа во все сферы жизни общества. Наличие биографии и портрета поэта, а также его открытый диалог с критиками создавали иллюзию существования реального человека, причем визуализация образа сыграла в этом не последнюю роль.
В 1853 г. Лев Михайлович Жемчужников, Александр Егорович Бейдерман и Лев Феликсович Лан-горио создали первый портрет Козьмы Пруткова, который был отпечатан в том же году в литографии Тюлина. Изображение вымышленного писателя стало еще одним способом мистификации, а для большей убедительности художники ссылались на оценку своей работы самим «заказчиком», устанавливая тем самым взаимосвязь между графическим и литературным обликом поэта: «Дорожа памятью о Козьме Пруткове, нельзя не указать и тех подробностей его наружности и одежды, коих передачу в портрете он вменял художникам в особую заслугу. <…> Когда портрет Козьмы Пруткова был уже нарисован на камне, он потребовал, чтобы внизу была прибавлена лира, от которой исходят вверх лучи» [6, с. 284].
Для достижения иллюзии достоверности портрет Пруткова создавался в реалистическом ключе со строгим соблюдением пропорций и подробной прорисовкой мелких деталей. Мы видим на рисунке две бородавки, кусочек черного английского пластыря на шее, дорогие перстни на правой руке поверх перчатки, огромный платок, повязанный на шее, объемные завитые вверх волосы и т. д. Однако именно это нагромождение деталей и делало образ Пруткова гротескным и пародийным, вследствие чего сам портрет приобретал устойчивые карикатурные черты и вызывал у зрителя сомнение в реальности существования изображенного на нем человека.
Визуализацию образа Пруткова продолжили художники-сатириконцы. В 1913 г. исполнилось 50 лет со дня «смерти» поэта, поэтому журнал «Сатирикон», позиционирующий себя как наследник традиций и правопреемник поэта, выпустил специальный номер о Кузьме Пруткове. Коллектив редакции продолжил литературную игру, начатую авторами-создателями в прошлом веке, развивая поэтические традиции Козьмы Пруткова, приписывая ему все новые и новые произведения, дополняя его жизнеописание и визуализируя фрагменты его биографии. Рассмотрим подробнее примеры визуализации образа Козьмы Пруткова средствами графического искусства.
Большинство иллюстраций, напечатанных в данном номере, были созданы Н.В. Ремизовым-Васильевым, известным под псевдонимом Ре-Ми. Этот художник-карикатурист сотрудничал с петербургскими юмористическими журналами, самыми популярными среди которых были «Стрекоза», «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Критика того времени отмечала необыкновенный сатирический талант Ре-Ми и способность художника «несколькими нарочито-небрежными или напротив безукоризненно тонкими чертами передать суть жизни через призму смехотворства» [1, с. 313].
Рис. 1. Ре-Ми. Апофеоз
Следующий образ – змеи – восходит к строке стихотворения Пруткова «Мой портрет»: «В груди змея» [3, c. 10]. Художник визуализирует данный образ, возвращая метафоре ее первоначальное значение, что приводит к буквализации: карикатурист изображает, как после смерти Пруткова осиротевшая змея покидает его тело.
В «Апофеозе» присутствует и ссылка непосредственно на биографию поэта. Поскольку Прутков был директором Пробирной Палатки, на заднем плане рисунка представлено здание с дымящимися трубами и с надписью – Пробирная Палатка. Устанавливая связь с античной традицией, Ре-Ми изображает женщину, склонившуюся над памятником, – это муза, о чем свидетельствует лавровый венок в ее руках. Траурные одежды, покрытая голова, лицо, опущенное вниз, свидетельствуют о том, что муза скорбит о преждевременном уходе поэта.
Продолжая игру с устоявшимися образами, художник помещает рядом с памятником фигуры демона и ангела, причем демон изображен отпрянувшим от портрета Пруткова, а ангел – держащим горн. Если трактовать данную композицию через призму образа поэта-пророка, исполнителя Божией воли, то очевидно, что лицезрение портрета Козьмы Пруткова невыносимо для сил зла так же, как вид святых на иконах. Ангел же славит поэта, но не в традиционной форме – трубного горна: горн находится в руке ангела, но он опущен, сам же ангел указывает на портрет поэта большим пальцем. Этот жест подчеркивает, что К. Прутков находится выше ангельского чина, а центральная позиция умершего поэта в иерархии мировых сил логично соотносится с названием рисунка – «Апофеоз».
Отметим, что эгоцентричность в целом была присуща образу Пруткова, она транслировалась как в его биографии, так и в самих произведениях. Художники журнала «Сатирикон» успешно подчеркнули эту особенность литературной маски средствами графики. Размещенная на седьмой странице «Иллюстрация к стихотворению Кузьмы Пруткова ”Мой портрет”» (см. рис. 2) не имеет подписи, однако исходя из стиля и техники изображения, а также учитывая, что ведущим художником редакции в период издания журнала являлся Ре-Ми, можно предположить, что и данный рисунок принадлежит его перу.

Рис. 2. Ре-Ми. Иллюстрация к стихотворению Кузьмы Пруткова «Мой портрет»
Под «Иллюстрацией» приведен текст указанного произведения, чтобы читатели журнала имели возможность сопоставить графическую и словесную версии. Практически каждая строка стихотворения подверглась тщательной прорисовке. Огромного роста Козьма Прутков буквально возвышается над толпой, которая разрывает лавровый венок, своими пропорциями соответствующий фигуре поэта и свидетельствующий о величии его призвания. Сам же поэт изображен нагим, а из его оголенной гру- ди вырывается змея. Данный образ представляет собой визуализацию строк: «В моих устах спокойная улыбка, / В груди – змея!» [1, c. 10], являющихся аллюзией к пушкинскому упоминанию о «жале муд-рыя змеи», вложенному в уста поэта-пророка. Возникает построенная на парадоксе игра со стереотипным мышлением: при чтении стихотворения данная аллюзия актуализируется, но «сглаживается» возникшим параллелизмом, а в графическом изображении, наоборот, абсурдность образа акцентируется. Свойственная поэтике абсурда вариативность творчески усваивается художником: в сноске, расположенной рядом с иллюстрацией, изображен фрак значительно меньшего размера, нежели сама фигура поэта, что указывает на несоответствие образа Пруткова социальным нормам.
Черты лица поэта узнаваемы, но переданы гораздо грубее, чем на официальном портрете, вокруг его взъерошенных волос и чела расползлась черная туча. Художник акцентирует эту мрачную картину размашистыми штрихами, небрежностью в прорисовке и нарушением пропорций. Фигура Пруткова изображена в напряжении: руки поэта длиннее необходимого, кисти рук и ногти на них тщательно прорисованы, правая рука начала сжиматься в кулак, спина застыла в неестественном прогибе, колени слегка согнуты, а корпус развернут, поза в целом выглядит так, будто поэт собирается нанести удар. Голова Пруткова слегка наклонена вперед, поэтому взгляд направлен исподлобья, рот приоткрыт и искривлен то ли в улыбке, то ли в ярости, выражение лица поэта недоброжелательно. Все указанные черты придают портрету оттенок инфернальности демонизма. Тяжелое эмоциональное состояние поэта, переданное при помощи визуализации, призвано подчеркнуть непонимание и неприятие обществом его незаурядности, данный акцент изначально задан и текстом стихотворения. Разумеется, обращение к образу поэта-пророка имеет принципиальное отличие от его трактовки классической традицией: демонизация Пруткова в данном случае уместно сочетается с его призванием пародиста, ведь всякая пародия по форме своей является искажением первичного объекта, его подменой, а следовательно, лукавством.
Несомненно, стиль карикатуры Ре-Ми близок творческой манере группы художников, создавших знаменитый портрет Пруткова в 1853 г., а его рисунки, представленные в журнале «Сатирикон» № 3 за 1913 г., органично продолжают традицию мистификации в рамках сатирической пародийной поэтики, связывая воедино биографию и творчество поэта.
Список литературы Осмысление образа Козьмы Пруткова в процессе его визуализации на страницах журнала "Сатирикон"
- Вульфина Л. Неизвестный Ре-Ми. Художник Николай Ремизов. Жизнь, творчество, судьба. М.: Кучково поле, 2015.
- Жолковский А.К. Поэтика за чайным столом и другие разборы: сб. статей. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- Прутков К.П. Плоды раздумья. Избранное//Библиотека на все времена. М.: Комс. правда, 2006.
- Путило А.О. К вопросу о жанре отрывка в творчестве К. Пруткова//Грани познания: электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ. 2015. № 3(37). С. 88-93. . URL: http://grani.vspu.ru/jurnal/42 (дата обращения: 20.10.2017).
- Путило А.О. Категория абсурда в творчестве К. Пруткова//Славянская культура: истоки традиции, взаимодействие. Материалы XVI Кирилло-Мефодиевских чтений: итог. сб. науч. работ. (г. Москва, 19 мая 2015 г.). М.; Ярославль: Ремдер, 2015. С. 238-242.
- Сатирикон. 1913. № 3.