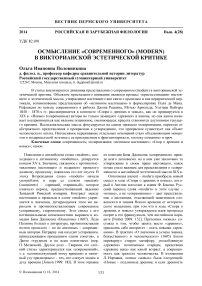Осмысление «современного» (modern) в викторианской эстетической критике
Автор: Половинкина Ольга Ивановна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 (28), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется динамика представления о современном (modern) в викторианской эстетической критике. Объектом пристального внимания является процесс «кристаллизации» настоящего в эстетической мысли, утверждение настоящего вне связи с прошлым и вне иерархической вертикали, возникновение представления об «истинном настоящем» в формулировке Поля де Мана. Рефлексия по поводу современного в работах Джона Рескина, Мэтью Арнольда, Уолтера Пейтера 1840 - 1870-х гг. рассматривается в контексте «Спора о древних и новых», как он проецируется в XIX в. «Новые» (современные) авторы не только замещают «древних» в каноне, но сам канон начинает восприниматься как явление подвижное, сменяющееся, красота становится достоянием текущего времени. Исследовательская мысль фокусируется на самом процессе модернизации, переходе от абстрактного представления о прекрасном к утверждению, что прекрасное существует как объект человеческого опыта. Интенсивное переживание отдельных мгновений стало объединяющим моментом в модернистской эстетике с ее пристрастием к фрагментарности, «потоку сознания» и проч.
Современность, модернизация, "истинное настоящее", "спор о древних и новых", канон
Короткий адрес: https://sciup.org/14729334
IDR: 14729334 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Осмысление «современного» (modern) в викторианской эстетической критике
Появление в английском слова «modern», восходящего к латинскому «modernus», датируется концом XV в. Значение, связанное с противопоставлением настоящего и недавнего прошлого далекому прошлому, появилось сто лет спустя. В эпоху Возрождения слово «modern» начали употреблять в паре со словом «ancient» («auncient») – «древний, старинный», которое означало период, предшествовавший падению Западной Римской империи. Контраст между настоящим и прошлым в слове «modern» укрепляется в значении, датирующемся этим же периодом и противопоставляющем современное устаревшему, старомодному. Этот смысл с его потенциальными возможностями выражен в комедии Бена Джонсона «Вольпоне» (1607). Леди Политик болтает о литературе, противопоставляя поэтов прошлого – но не античных – современным авторам. Петрарку она находит устаревшим, принадлежащим прошедшим «дням сонетов», а Данте «трудным и не всем понятным» (пер. П. Мелковой). Другое дело – Гварини, его «легкий стиль» характеризуется как «современный», т. е. «соответствующий этому времени» и «внятный уху придворных» – тех, кто следует модам и духу времени [Jonson 1999: 183]. В этом отрывке из комедии Бена Джонсона «современное» прежде всего легковесно, но в нем уже заключено то утверждение в своем праве настоящего, какое позже стало важным для представления о «современном» в английской эстетической мысли XIX в.
Оппозиция ancient – modern приобрела новый смысл в ходе «Спора о древних и новых», который в Англии восходит к идеям Ф. Бэкона. Русский перевод слова «modern» в этом случае – «новые», а не «современные» – дает представление о дистанции, отделяющей защитников словесности и знания Нового времени от исторического мышления, при том что в ходе «Спора о древних и новых» утверждается идея прогресса скорее в его французском, чем английском варианте [Nisbet 2009: 152]. Претензия «новых» состояла в том, чтобы занять место «древних», присвоить себе авторитет – стать новыми «древними». В трактате «О значении и успехе знания, божественного и человеческого» (1605) Бэкон перевернул старую метафору, уподоблявшую «древних» почитаемым старцам, представив «древние века» как юный возраст, а современность как зрелость человечества. В изложении Л. Нормана, логика «новых» была следующей: «Новые – подлинные древние, и если древность
обладает авторитетом, следовательно, авторитет оказывается на стороне новых» [Norman 2011: 65]. Этот момент был определяющим для риторики «новых», когда речь шла о «древней» и «новой» словесности: сопоставление с «древними» осуществлялось в соответствии с важным в риторической культуре принципом соревнования. Характерный пример – высказывания о «древнем и новом ораторском искусстве и поэзии» У. Уоттона в трактате «Размышления о древней и новой учености» («Reflections Upon Ancient and Modern Learning», 1697), показывающие, что предмет сопоставления «новых» с «древними» – excellencies («преимущества»), глагол excel («превосходить») является самым употребляемым. Отвечая Уоттону в «Битве книг» (1704), Свифт описал отношения друг к другу «древних» и «новых» в образе двух вершин Парнаса, из которых более высокая принадлежит «древним». «Новые» вообразили, что «древние» закрывают им вид и потребовали, «чтобы Древние перебрались вместе со всем своим влиянием на вершину пониже, которую Новые любезно им уступят и переедут на их место» [Swift 1886: 13]. По сути, «новые» претендовали на то, чтобы быть частью вневременного канона.
В XIX в. слово «modern» продолжает восприниматься общественным сознанием как часть оппозиции ancient – modern, но его смысл несколько трансформировался, теперь с ним неразрывно связано представление о процессе, движении времени, скорости и развитии, ассоциирующихся с современным миром. С другой стороны, под «древним» теперь понимают не только классическую античность, но и творения других эпох, получившие место в каноне, например, живопись Рафаэля или Микеланджело, о произведениях которого Дж. Рейнолдс говорил, что они производят то же впечатление, что и чтение Гомера [Reynolds 1901: 63, 82].
На первый взгляд Джон Рескин обеспечил себе место в старом споре, когда назвал свою книгу «Современные художники. Их превосходство в искусстве пейзажной живописи над старыми мастерами»(«Modern Painters. Their Superiority in The Art of Landscape Painting to the Ancient Mas-ters», 1843). В рецензии журнала «Атенеум» Дж. Дарли возражал молодому автору, привычно полагая, что более высокая вершина никак не может принадлежать современному искусству: «Старые художники-пейзажисты имели более широкое, глубокое и возвышенное видение…» [Ruskin 1903a: 34]. Однако в своем понимании «современного» юный Рескин вышел далеко за пределы традиционной расстановки акцентов.
История «Современных художников» начинается с рецензии на выставку Королевской академии художеств прп. Дж. Игглза (1836), который обвинил Тернера в том, что он «упорно набрасывает кисею шаткой новизны на свой гений» [Brinkley 2014]. В первом томе «Современных художников», написанном в защиту Тернера, «новизна» как таковая не одобряется, однако утверждается, что основное достоинство современной живописи – в ее коренном отличии от всего уже бывшего. В «Предисловии ко второму изданию» (1844) Рескин так начинает защищать свои позиции: «…попытки преуменьшить значение тех, кого многие поколения согласно возвели на трон», вне всякого сомнения «недальновидны, невежественны, неуместны», но нельзя ли – наряду с « тщетными усилиями подорвать авторитет мертвых» – вывести на чистую воду и « успешные усилия подорвать авторитет живущих». Меняя местами ценности, Рескин приравнивает критика, виновного в «несправедливом низведении современного величия», к низводившему «древних» Шарлю Перро и ставит его в один ряд с Нероном, Калигулой, Зоилом [Ruskin 1903a: 9], таким образом одновременно обозначая свою позицию и как будто отмежевываясь от все еще сомнительных «новых». Но то обстоятельство, что формула «древние и новые» в его высказывании звучит как «мертвые и живущие», не позволяет сомневаться в предпочтениях автора. В оппозиции «мертвые и живущие» ощущение связи времен снято, «современные художники» – «живущие» – утверждают настоящее вне какой-либо отчетливой связи с прошлым.
Источником вдохновения для молодого критика несомненно является У. Вордсворт. Это его идеи о роли индивидуальности в творчестве и о том, что поэзия – это не следование канону, а «спонтанное излияние сильного чувства» [Wordsworth 2003: 8, 21], лежат в основе аргументации Рескина, который, однако, обнаруживает более острое чувство современного. Вордсворт писал о стремлении создавать «истинную поэзию, годную всегда интересовать человечество» [ibid.: 25], – своего рода «язык вечности», как Джонсон именовал латынь. Рескин в «Предисловии ко второму изданию» формулирует новое понимание канона: «…давайте признаем, что в самом отличии [произведения искусства] заключена все возрастающая возможность, что оно само по себе являет новый и, может быть, более высокий канон» [Ruskin 1903a: 14]. Представление о сменяемости как о свойстве канона противостоит риторическому и постриторическому представлению об авторитете и знаменует собой новую эпо- ху в истории эстетической мысли, ориентированную на бесконечную сменяемость и новизну.
На первый взгляд иначе рассуждает в этот период Мэтью Арнольд. В «Предисловии» ко второму изданию «Стихотворений» (1853) представлена хорошо узнаваемая позиция «древних». Арнольд резко возражает критикам, требующим современного предмета для литературы: «Великое человеческое деяние тысячелетней давности интереснее, чем незначительные человеческие свершения сегодняшнего дня…» [Arnold 1857: XV]. Критике подвергается влияние Шекспира, которое тесно ассоциировалось с современным, а древние объявляются единственно достойными подражания.
Арнольд называет древних греков «непревзойденными мастерами большого стиля (grand style)» [ibid.: XVIII], обнаруживая, как показывает Э. Александер, зависимость от идей Дж. Рейнолдса [Alexander 1973: 139]. Его мысль направлена против запечатления в искусстве, принадлежащем течению времени, сиюминутного – современного. «Разнообразие природы» необходимо свести к «абстрактной идее» вне каких бы то ни было «случайных деформаций», художник должен различать «истинные обыкновения природы» от «обыкновений моды» [Reynolds 1901: 44]. По мнению И. Берлина, «“большой стиль” есть воплощение в художническом видении извечных форм, прототипов, потусторонних суете обыденного опыта» [Берлин 2001: 323].
И все же в суждениях и оценках Арнольда ощущается острый интерес к своему времени. В современности он видит эпоху «величайшей путаницы», как он пишет в предисловии к поэтическому сборнику [Arnold 1857: XXIII]. Главным пороком современной литературы Арнольд считает «эксцентричность и произвольность», это литература, сосредоточенная на случайном, в то время как ей следовало бы стараться видеть явления в их сущностном качестве. Мысль Арнольда развернута не в сторону авторитета древних, наоборот: их назначение в том, чтобы «провести через путаницу» [ibid.], научить ясности современную литературу.
В 1857 г. Арнольд прочитал лекцию «О современном элементе в литературе» («On the Modern Element in Literature»). Как показывает Э. Александер, это был полемический отклик на идеи о современности в третьем томе «Современных художников» [Alexander 1973: 139]. Поначалу тема современного возникла в книге Рескина как ход в полемике с прп. Игглзом. Но к третьему тому она приобретает самостоятельное звучание, осмыслению современности посвящена глава «О современном пейзаже». Говоря о том, чем современный пейзаж отличается от средневекового, Рескин обозначает разницу между традиционалистской и модернизированной культурой: «неподвижности, стабильности и ясности», в которых было «все наслаждение средневековья», противопоставляются мрачность, неустойчивость, пристрастие современности к тому, что «невозможно удержать и трудно понять» [Ruskin 1904a: 317]. Как будто продолжая говорить о пейзажной живописи, Рескин в действительности набрасывает портрет современной эпохи. «Любовь к свободе», к горам, открытому пространству сочетается с торжеством обыденного. В глазах современного человека природа лишена сакральности, какая была ей свойственна во времена античной Греции и в Средние века. Религиозное неверие, «тьма сердца» является основной характеристикой современности. Пристрастие к мрачным цветам, «коричневым кирпичным стенам» и «коричневым сюртукам», в которых выражает себя прямое следствие неверия, меланхолия, и ее современный вариант – скука (ennui) [ibid.: 322]. Удовольствие, которое испытывает современный человек при виде пейзажа, объясняется тем, что он «отвернул благоговейный взор прочь от человеческой природы». «Наш век, – говорит Рескин, – заставил нас думать о людях как о нелепых или уродливых созданиях, которые справляются с миром, как могут, тем временем разрушая его, а не по-королевски управляют им и венчают собой его красоту». Это небрежение по отношении к самому себе приводит современного человека к болезненности, делает его подверженным «нервическим или сентиментальным впечатлениям», «меланхолическим фантазиям» [ibid.: 324–325].
Многое из сказанного оказывается справедливым относительно современности в целом, die Moderne по Ю. Хабермасу: «любовь к свободе», неверие, меланхолия, торжество обыденности, скука и потребность в развлечениях. При этом в описании современности узнаются и характерные черты XIX в.: в современном сознании смешаны «романтическая любовь к красоте, которую мы принуждены искать в прошлом», и «более рационалистическая страсть» к естественнонаучному исследованию [ibid.: 326–327].
Однако ход мысли Рескина не так близок к теперешнему представлению, как может показаться. Современность осмысливается в противопоставлении греческой античности и средневековью. Эти три стадии в истории, с которыми Рескин связывает «три великие фазы в искусстве» [ibid.: 315], выделял Ф. Бэкон, а до него итальянские гуманисты. В сопоставлениях античного и средневекового прошлого с современ- ностью слышатся отголоски соревнования «новых» с «древними». Современный мир, конечно, обзаводится «опрометчивостью, нетерпением и неверием», но приобретает важные черты, каких не было у античности и средневековья, – «науку, новое влечение к природе, любовь к открытому пространству и свободе». Утраты не безвозвратны. «Нет причины, – утверждает Рескин, фактически ставя современность выше «древности», как когда-то делали «новые», – по которой <…> мы не должны снова узнать, как верно применять священные истины силы, красоты и времени» [Ruskin 1904a: 327, 328].
В свою очередь, Арнольд выделяет черты («characteristics») современности, которые дополняют картину, представленную Рескиным. Это «изгнание символов войны и бойни из течения гражданской жизни»; «рост толерантности»; «умножение жизненных удобств, формирование вкуса»; «интеллектуальная зрелость самого человека, тенденция критично наблюдать факты, искать им закономерные основания…» [Arnold 1914: 459].
Рескин устанавливал границы между современным и древним, Арнольд рассматривает древнее как дающее опору современному: «...литература Древней Греции для современности является могучим средством интеллектуального раскрепощения». «Интеллектуальное раскрепощение» означает «осмысление человеком» «обширного и сложного настоящего» вокруг него, а также «обширного и сложного будущего» позади него. Арнольд объявляет времена Перикла веком «столь же развитым», как и девятнадцатый, но литература Древней Греции превосходит современную и дает ей образец , потому что «адекватно осмыслила и репрезентировала представшее перед ней зрелище» [ibid.: 455–457]. Это напоминает представление о «новых», как о «карликах на плечах гигантов». Понятие «modern» распространяется на тип эпохи, и возникает картина, напоминающая свифтовские вершины Парнаса, одна из которых выше прочих.
Однако авторитет древнего подменяется значимостью современного. Показательно, что, принимая сторону «древних», Арнольд прибегает к риторическим ходам противной стороны. Выделяя эпохи, которые можно назвать современными, Арнольд, в сущности, воспроизводит старую логику «новых»: Афины времен Перикла рассматривались ими как современные, по сравнению с эпохой Гомера; Ш. Перро и Фонтенель писали о «современности» Рима эпохи Августа [Norman 2011: 22–23]. То же происходит в рассуждениях Арнольда о древних литературах. «Новые» в свою защиту цитировали Цицерона и
Софокла; по Арнольду, Фукидид «говорит современным языком» [Arnold 1914: 462]. Модернизируя «древность», Арнольд не ограничивается риторикой «новых». На классическую античность переносятся черты современности: описание «гигантского, движущегося, запутанного зрелища» подразумевает XIX в., как и состояние «нетерпеливого раздражения ума», в которое мы погружаемся в его присутствии [ibid.: 456].
Сосредоточенность на современном была в целом свойственна викторианскому культурному сознанию. Арнольд цитирует принца Альберта: «…в то время, как мы горды обширным развитием знания и мощью производства, которые есть у нас, мы познаем смирение, созерцая утонченность чувства и интенсивность мысли, которые демонстрируют творения старых школ» [ibid.: 457]. В этих словах, произнесенных по официальному случаю, выражено весьма условное преклонение перед авторитетом и – «эгоистическое» восхищение современным («мы горды», мы высокоразвиты, мы смиренны).
Как показывают недавние исследования, викторианский медиевизм был в большей мере средством морального совершенствования через порицание индустриализации, поклонения деньгам, политики lassez-fair и прочих пороков современности – как это происходит в трактате Карлейля «Прошлое и настоящее» (1843), где, по выражению М. Александера, средневековье служит «заслонной лошадью для основной мишени Карлейля – того положения, в котором находятся рабочие сегодня» [Alexander 2007: 86]. Учительный характер имел идеал рыцарства, представленный в «Королевских идиллиях» Теннисона. По замечанию Х. Робертс, в этом цикле «мифология артуровской Британии является неявным комментарием к современным нравам, феминизму и могуществу нации» [Roberts 1992: 29]. В этом и других произведениях «средневекового возрождения» средневековый мир перевоссозда-ется таким образом, чтобы удовлетворять насущные нужды современности, среди которых – викторианское стремление к моральному совершенствованию, конструирование национальной идентичности, связной истории нации и т.д. Этический характер носит противопоставление средневекового мастерства механизированному труду в главе «Природа готического» из второго тома книги «Камни Венеции» (1853) Рескина. М. Александер пишет о «присвоении» викторианцами Средних веков, включая в этот процесс деятельность трактарианцев во главе с Ньюменом: «Ньюмен ратовал не за восстановление средневековых церквей и литургии, не за средневековую
Церковь, но за более полное бытие христианства в настоящем» [Alexander 2007: 99, 104].
Представление о прошлом как о ключе к будущему характерно для эстетической мысли прерафаэлитов. Одним из первых их шагов было создание собственного канона, в нарушение всех правил включавшего художников, писателей, философов, религиозных деятелей и национальных героев. У. Х. Хант писал о «нашей решимости не уважать никакой авторитет, который стоял бы на пути нового поиска в искусстве» [Hunt 1905: 158]. Во главе списка стояло имя Иисуса Христа, следующими по важности были автор «Книги Иова» и Шекспир. В число писателей, наряду с каноническими Гомером, Данте, Мильтоном, входили Гете, романтики Байрон, Вордсворт, Китс, Шелли, Ли Хант, современники Элизабет Баррет и Роберт Браунинги, Теннисон, Теккерей, американцы По, Лонгфелло, Эмерсон. Со временем подвижный характер этого канона подтвердился: Хант сообщает, что изначально в «списке Бессмертных» были еще имена тех современников, которые быстро оказались забыты [ibid.: 160].
Этот юношеский порыв выражал общую настроенность прерафаэлитов достичь «новой фазы в развитии искусства» [ibid.: 323]. Старые мастера – от Фра Анжелико и Боттичелли до фламандцев, а потом Веронезе и Тициана – играли для них роль источника вдохновения, освещавшего «путь в Будущее», как об этом говорил Д. Г. Росетти в сонете из цикла «Старое и новое искусство» (1849): «… the lights of the great Past, new-lit / Fair for the Future's track…» (II. «Not as These»). В подстрочном переводе: «…огни великого Прошлого, заново зажженные // Освещать путь в Будущее». У ранних прерафаэлитов происходит перенос акцента, который лишь к XX в. полностью утверждается в эстетической мысли: прошлое служит цели обновления, реальной важностью наделяется развернутость постоянно меняющегося настоящего к будущему.
«Кристаллизация» настоящего в английской эстетической мысли начинается в полемике с идеей «большого стиля». В главе «Природа готического» Рескин противопоставлял «большой стиль» с его тяготением к идеальному «несовершенствам» готической архитектуры. Несовершенство, объясняет Рескин, – «знак жизни в смертном теле, то есть состояния развития и изменения», «закон универсален», следовательно, «ни одно благородное создание человека не может быть хорошо исполнено, если оно не обладает несовершенствами» [Ruskin 1904б: 203]. Этот ход мысли аргументируется протестантским представлением о слабости и греховности чело- веческой природы: «Все вещи буквально лучше, прекраснее и любимее из-за несовершенств, так предназначено божественной властью, законом человеческой жизни должно быть Усилие…». С другой стороны, привлекается романтическая идея природы, даже в монотонности которой заключены перемены и разнообразие [ibid.: 204, 203].
Более общий взгляд представлен в первой главе третьего тома «Современных художников». Объект полемики – высказанная Дж. Рейнолдсом мысль: «Большой стиль в Живописи требует тщательно избегать внимания к деталям, держаться подальше от них, как держится стиль Поэзии от стиля Истории» [Reynolds 1767: 149]. Рескин доказывает, что все наоборот: живопись – и впрямь «сестра» поэзии, но «вся мощь [поэзии] состоит в ясном выражении того, что единично и индивидуально!». Поэтическое высказывание отличается от исторического «не тем, что оно более туманное, а тем, что оно более конкретное» [Ruskin 1904a: 27].
В известном высказывании Бодлера о «la modernité» признается красота сиюминутного. Логика высказываний Рескина ведет дальше: «неправильности и недостатки <…> являются источниками красоты» [Ruskin 1904б: 203], которая неотделима от постоянной изменчивости мира. Однако в глазах человека его эпохи эта мысль кажется обесценивающей прекрасное. Перемещая прекрасное в измерение текущего времени, Рескин не отказывается от идеальности, явленной в неоклассицистическом понимании вечной красоты. «Якорем», призванным придать идее красоты устойчивость, для него была тео-фания, подразумеваемая протестантским, а затем романтическим образом природы. Красота, как говорит Рескин, «в любом случает нечто Божественное» [ibid.: 210]. Помимо «Живой Красоты» («Vital Beauty»), выражающей энергию жизни, радостную пульсацию бытия, он выделяет «Типическую Красоту» («Typical Beauty»), именование которой образовано от типологического символизма протестантской экзегетики, объясняющего Божественное присутствие в вещах материального мира. Характеристики, которые имеет «Типическая Красота», напоминают о понятии прекрасного в неоклассицистической эстетике с той разницей, что здесь они наделены сакральным смыслом (единство, покой, чистота, симметрия, умеренность), из этого ряда только бесконечность принадлежит исключительно христианской системе мысли.
Объявляя в главе «О современном пейзаже» Вальтера Скотта и Тернера «олицетворением современной эпохи», Рескин объясняет, что их объединяет способность видеть, не столь рас- пространенная в мире искусства [Ruskin 1904a: 333]. Она понимается в буквальном и в христианском, характерном для протестантизма, смысле. Художник, как его представлял Рейнолдс, – Thinker (Мыслитель), для Рескина же художник – Seer, что может пониматься как Видящий и как Пророк. Отсюда формула: «Ясно видеть – в этом поэзия, пророчество и религия – все сразу» [ibid.]. Она звучала бы повторением романтической идеи пророчества, но для Рескина в искусстве слишком важен акт зрения, переносящий акцент с вечности на происходящее прямо сейчас. Для живописи «большого стиля» характерно тяготение к условному, с одной стороны, и стремление к поверхностному сходству – с другой. Результат – пейзаж, который представляет собой «воображаемую абстракцию». Тернер, напротив, не стремится к изображению «великой природы на все времена», на его картинах пейзаж «несомненно принадлежит настоящему», но в то же время воспроизводит «устройство природы в его целостности» [Ruskin 1903a: 170, 242, 616].
Акцент на том, что действительно видит глаз, предполагал, что в основе пейзажного искусства – восприятие настоящего момента, свободное от всякой условности, зависимости от принятых форм изображения и «предубеждений внешнего мира» [Varnelis 1998: 213]. Пока это просто характеристика пейзажной живописи, но со временем это будет характеристика «современного искусства» и даже шире – модерности как типа культурного мышления. Как писал Поль де Ман: «Модерность существует в форме <…> надежды наконец достичь того состояния, которое будет называться истинным настоящим». Ее символически выражают «детство или выздоровление» [De Man 1983: 142]. Именно такую чистоту видения Рескин описывал в лекциях «Элементы рисунка и перспективы» (1857) как « невинность глаза» : «…детское восприятие этих плоских пятен цвета как они есть, вне осознания того, что они могут значить» [Ruskin 1912: 3–4]. По сей день это высказывание критикуют за неточность метафоры. П. Бурдье заметил, что «невинность глаза» предполагает развитую способность к эстетическому восприятию [Bourdieu 1984: 485–500]. Рескин знал, что подлинное детское восприятие имеет другой характер. В первом томе «Современных художников» с детьми, рисующими «то, что, как они знают, должно быть там, а не то, что они там видят», он сравнивал «старых мастеров» [Ruskin 1903a: 309]. В метафоре «невинности глаза» акцентировано представление о детском как о состоянии вне прошлого. Рескин вплотную подходит к мысли о важности для современного искусства «истинного настоящего».
Осмысление современного вне сопоставления с прошлым и вне оправдания ценностной вертикалью осуществляет Уолтер Пейтер. Доводя до логического завершения идею Рескина о красоте как явлении переживаемого времени, Пейтер продолжает и то направление мысли, которое представляет в своих рассуждениях о современном Арнольд. «Греческий дух» он описывает как «Святой Грааль бесконечного паломничества современного мира» [Pater 1910: 101]. Современный интеллект испытывает острый недостаток «полноты, центральности», которые являет греческая культура. Однако это не означает, что «универсальность античного идеала может быть сообщена современным произведениям», ибо опыт современного человека принципиально иной [Pater 1980: 182, 184].
В эссе «Колридж», Пейтер размышляет о «духе относительности» как о важнейшей характеристике современной мысли, возникающей под влиянием особенностей бытия современного человека. Пейтер объясняет современный способ мышления в противоположность «древнему»: «Древняя философия стремилась заключить каждый объект в вечные рамки <…> С точки зрения современного духа, ничто не может быть известно от начала до конца, только относительно и при определенных условиях» [Pater 1910: 63]. Как Рескин и Арнольд до него, Пейтер считает современный мир в первую очередь сложным. В 1866 г. эта сложность уже не может быть сопоставлена с «гигантским зрелищем», которое, по Арнольду, являла эпоха Перикла. Распространение дарвинизма и прочие естественно-научные открытия обострили восприятие бытия как бесконечного развития. В комментарии Вольфганга Изера: «Дух относительности котируется выше, чем философский догматизм, потому что он постигает динамизм и связанную с ним множественность опыта» [Iser 2011: 16].
Первостепенную важность приобретает индивидуальное восприятие, опыт, который фиксирует многообразие трудноуловимых состояний. Изер говорит об опыте в понимании Пейтера как о «витальной движущей силе, стоящей за духом относительности»; в этой системе мысли «чистое явление вещей» ставится «над любой интерпретацией этих вещей» [Iser 2011: 16]. Идеальность оказывается невостребованной, ибо, как пишет Пейтер, «расплывчатая схоластическая абстракция не может удовлетворить инстинкт размышления в современном сознании», современный человек не променяет «цвет и изгиб розового лепестка» на идею розы, «которую так высоко ставил Платон» [Pater 1910: 64]. Фактически, ра- бота современной мысли, по Пейтеру, означает бесконечную фиксацию «истинного настоящего».
Применительно к эстетическому опыту это представление развивается в первом издании книги «Ренессанс. Очерки искусства и поэзии» («The Renaissance. Studies in Art and Poetry», «Studies in the History of the Renaissance», 1873). В «Предисловии» утверждается, что красота является объектом «человеческого опыта». Акт зрения, в пределе представляющий собой «чисто оптическое восприятие», становится метафорой для понимания природы прекрасного: «…в эстетической критике первый шаг к тому, чтобы увидеть объект, как он есть, это понять свое собственное впечатление, как оно есть, определить его, внятно осознать его» [Pater 1980: XIX]. Эстетический критик сосредоточен на работе собственного сознания, представляющей собой беспримесное, пульсирующее настоящее. В таком случае красота вообще не может быть ни вечной, ни устаревшей, она всегда актуальна.
В «Заключении» Пейтер выводит формулу «истинного настоящего», освобожденного от всякой связи с другими временами. Физиологическая и психическая жизнь рассматривается здесь как «водоворот», «нескончаемое движение». Случайные комбинации, стоящие за «рождением, и жестом, и смертью, и фиалками, выросшими на могиле», многократно повторяются «в нас» и «за пределами нас», так что вся наша жизнь оказывается не более чем «горением пламени». Это тем более относится к внутреннему миру «мыслей и чувств», где «постоянно сменяют друг друга мгновенные акты зрения, страсти и мысли» [Pater 1980: 187]. Опыт «преобразуется в рой впечатлений», которые дробятся, бесконечно уходят в прошлое, и «единственно существующим» оказывается «отдельное мгновение, уходящее, пока мы пытаемся постичь его» [ibid.: 188].
К. Хекст так определяет место Пейтера в истории интеллектуального слома, случившегося в конце XIX в.: «Развернутый назад, к Вордсворту и Шиллеру, и вперед, к Прусту и Вулф, Пейтер стоит как водораздел…» [Hext 2013: 5]. Действительно, аккумулировав основные тенденции мысли «пророков этой эпохи», Пейтер выходит к пониманию современного, которое несколько десятилетий спустя породило модернизм как художественную систему [см.: Ушакова 2010]. В основу модернистского искусства легла его мысль о том, что «не плоды опыта, а сам опыт является целью» [Pater 1980: 188]. Как считает Памела Флетчер, свидетельством того, что модернизм вполне сформировался как эстетика, может служить сказанное в 1912 г. Клайвом Беллом: «Битва выиграна…Мы перестали спраши- вать: “Что изображено на этой картине?” и спрашиваем вместо этого: “Что эта картина заставляет нас чувствовать?”» [Fletcher 2003: 1]. Интенсивное переживание отдельных мгновений, которое можно охарактеризовать как чувство «истинного настоящего», стало объединяющим моментом в модернистской эстетике с ее пристрастием к фрагментарности, «потоку сознания» и проч.
Список литературы Осмысление «современного» (modern) в викторианской эстетической критике
- Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: Новое лит. обозрение, 2001. 448 с
- Ушакова О. Модернизм: о границах понятия//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 6(12). С. 109-114
- Alexander E. Matthew Arnold, John Ruskin, and the Modern Temper. Columbus (Ohio): Ohio State University Press, 1973. 310 p
- Alexander M. Medievalism: The Middle Ages in Modern England. New Haven: Yale University Press, 2007. 295 p
- Arnold M. Essays by Matthew Arnold. Oxford: Oxford University Press, 1914. 487 p
- Arnold M. Poems. A New Edition. L.: Longman, Brown, Green and Longmans, 1857. 252 p
- Bourdieu P. Distinction. A Social Critique of the Judgment of Taste/translation by R. Nice. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1984. 640 p
- Brinkley H. J. M. W. Turner: a biography. L.: BookCaps Study Guides, 2014. 48 p. URL: http://www. bookcaps. com (дата обращения: 22.10.2014)
- De Man P. Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983. 342 p
- Fletcher P. M. Narrating Modernity. The British Problem Picture, 1895-1914. Ashgate, 2003. 188 p
- Hunt W.H. Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood: in 2 vols. L.: Macmillan, 1905. Vol. I. 512 p
- Hext K. Walter Pater: Individualism and Aesthetic Philosophy. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013. 232 p
- Iser W. Walter Pater: the Aesthetic Moment. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 226 p
- Jonson B. Volpone, Or the Fox/ed. by B. Parker. Manchester, 1999. 359 p
- Modern//Oxford English Dictionary (OED). URL: http://www.oed.com/view/Entry/120618?redirectedFrom=modern#eid (дата обращения: 10.05.2013)
- Morris W. Preface//Ruskin J. The Nature of Gothic: A Chapter of the Stones of Venice. L.: Kelmscott Press, 1892. P. I-V
- Nisbet R. A. History of the Idea of Progress. New Brunswick (New Jersey): Transaction Publishers, 2009. 332 p
- Norman L. F. The Shock of the Ancient: Literature and History in Early Modern France. Chicago: University of Chicago Press, 2011. 296 p
- Pater W. Appreciations, with an Essay on Style. L.: Macmillan, 1910. 254 p
- Pater W. Pater W. The Renaissance: Studies in Art and Poetry: the 1893 Text/ed. D. Hill. Los Angeles: University of California Press, 1980. 485 p
- Reynolds J. The Idler by the Author of the Rambler: in 2 vols. L., 1767. Vol. 2. 303 p
- Reynolds J. Seven Discourses on Art/ed. D. Price. L.: Cassel and Company, 1901. 157 p
- Roberts H. Divided Self, Divided Realm: Typology, History and Persona in Tennyson’s Idylls of the King//Pre-Raphaelitism and Medievalism in the Arts/ed. L. De Girolami Cheney. Lewiston (New York): E. Mellen Press, 1992. P. 29-52
- Ruskin J. The Elements of Drawing. L.: J. M. Dent and sons, 1912. 311 p
- Ruskin J. Modern Painters. Vоl. I//Ruskin J. Library Edition of the Works of John Ruskin/ed. by E. T. Cook and A. Wedderburn: in 39 vols. L.: George Allen, 1903. Vоl. III. 688 p
- Ruskin J. Modern Painters. Vоl. II//Ruskin J. Library Edition of the Works of John Ruskin/ed. by E. T. Cook and A. Wedderburn: in 39 vols. L.: George Allen, 1903. Vоl. IV. 399 p
- Ruskin J. Modern Painters. Vоl. III//Ruskin J. Library Edition of the Works of John Ruskin/ed. by E. T. Cook and A. Wedderburn: in 39 vols. L.: George Allen, 1904. Vоl. V. 439 p
- Ruskin J. The Stones of Venice. Vol. II//Ruskin J. Library Edition of the Works of John Ruskin/ed. by E. T. Cook and A. Wedderburn: in 39 vols. L.: George Allen, 1904. Vоl. X. 470 p
- Swift J. The Battle of the Books and Other Short Pieces. L.: Cassel and Company, 1886. 210 p
- Varnelis K. The Education of the Innocent Eye//Journal of Architectural Education (1984-). 1998. Vol. 51, no. 4. May. P. 212-223
- Wordsworth W. Preface to Lyrical Ballads//Wordsworth and Coleridge. Lyrical Ballads and Other Poems/ed. M. Scofield. L.: Wordsworth’s Editions, 2003. P. 5-25
- Wotton W. Reflections Upon Ancient and Modern Learning. L.: F. Leake, 1694. 359 р