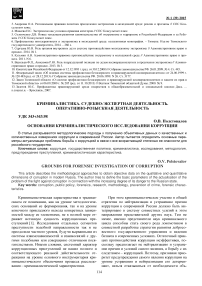Основания криминалистического исследования коррупции
Автор: Полстовалов О.В.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность
Статья в выпуске: 1 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются методологические подходы к получению объективных данных о качественных и количественных измерениях коррупции в современной России. Автор пытается определить основные параметры актуализации проблемы борьбы с коррупцией в связи с все возрастающей степенью ее опасности для российского государства.
Коррупция, государственная политика, криминалистика, исследования, методология, предупреждение преступлений, криминалистическая характеристика
Короткий адрес: https://sciup.org/142232576
IDR: 142232576
Текст научной статьи Основания криминалистического исследования коррупции
Криминалистическая характеристика в традиционном ее понимании, как на уровне методологических оснований ее формирования, так и на уровне конечного прикладного выхода конкретных зависимостей между ее элементами, не в полной мере отражает истинную сущность коррупционных преступлений [1]. Исследования отдельных сегментов преступности подобной направленности так и не преодолели частного уровня, будучи вырванными из системы взаимозависимостей и взаимосвязей с другими подобными или совершенно отличными посягательствами. Иными словами, системный характер коррупционных преступлений не нашел полного и соответствующего реальной действительности отражения на уровне основного инструментария криминалистического обеспечения процесса расследования – криминалистической характеристики.
При этом криминалистическое участие в общей стратегии по нейтрализации и устранению причин коррупции в современной России должно быть интегрировано в систему совместных усилий в этом направлении представителей других наук. Тем не менее, именно представители наук криминального цикла способны стать своего рода локомотивом в совместной разработке стратегии развития добросовестного государственного управления и ведения бизнеса в современных условиях. Остаточный принцип противодействия коррупции неэффективен, поскольку предполагает не нейтрализацию и устранение причин и условий самого явления, а борьбу с их следствием – коррупцией. Поэтому, признавая приоритет предупреждения самого явления коррупции на уровне устранения и нейтрализации его детерминант, нельзя отказываться от необходимости объ-

единения усилий криминалистов, криминологов и специалистов области уголовного права и процесса с подключением в необходимых случаях специалистов в более узких сферах (корпоративного законодательства, экономики, управления, организации и деятельности аппарата государственных служащих и пр.) в разработке стратегии добросовестного государственного управления и ведения бизнеса в современной России.
В рамках данной статьи ставится более узкая задача определения методологических начал криминалистических исследований на основе оценки основных параметров общественной опасности коррупции, качественно-количественной характеристики государственных мер по предупреждению и противодействию этому явлению и заинтересованности в их системности и эффективности самих государственных деятелей, определении сфер и уровня распространенности рассматриваемого социального зла.
Очень точно и емко о сущности общественной опасности коррупции высказался С.С. Стефани-шин: «Коррупция разрушает нормальный ход принятия решений в сфере предпринимательской деятельности и политических решений, предоставляя преимущества немногим за счет остального большинства. Она искажает распределение финансовых и людских ресурсов, передавая их в распоряжение неэффективных пользователей, зачастую в противоречии с социальными, политическими и экономическими целями и нуждами страны» [2, с. 3]. Это высказывание очень близко позиции Генерального секретаря ООН, выраженной в его Послании по случаю открытия Политической конференции на высшем уровне, посвященной подписанию Конвенции ООН против коррупции: «Коррупция делает основные социальные услуги недоступными для тех, кто не имеет возможности давать взятки. Отвлекая скудные ресурсы, предназначенные для развития, коррупция затрудняет обеспечение основных потребностей, таких как потребности в продовольствии, здравоохранении и образовании. Она порождает дискриминацию в отношениях между различными общественными группами, подпитывает неравенство и несправедливость, отпугивает иностранные инвестиции и помощь, и тормозит развитие» [3].
Коррупционные объемы капитала в ВВП в России уже к 2012 году по данным Всемирного банка достигли 48% и даже умеренные экспертные оценки этой доли не превышали 25%, в то время как Росстат в 2011 году этот показатель установил в пределах 3,5-7% [4]. Если в этот объем добавить еще и иные незаконные доходы с поправкой на оценку масштабов оттока капитала за рубеж, то картина становится и вовсе удручающей. Именно этот период характеризовался пороговым значением доли криминального капитала в ВВП страны, когда для экономики уже не было шансов к самооздоровлению без кардинальных политических решений.
Преимущественно коррупция снизила показатели инвестиций в сравнении с другими странами-экспортерами нефти даже в ключевом сегменте экономики России. Для сравнения: по состоянию к весне 2012 года уровень российских инвестиций за баррель добываемой нефти колебался в пределах 9 – 10 долларов США, в то время как средняя стоимость инвестиций за баррель крупных международных нефтяных компаний составляет от 15 до 20 долларов США. Как отмечает Денис Чриссикос, клановый капитализм в России привел к неэффективному государственному управлению промышленностью в политических целях, ставя под угрозу российскую экономику и благосостояние россиян в целом [5]. Сырьевая российская экономика кланового коррумпированного капитализма стала задыхаться на уровне недоивестирования и самовоспроизводства. Именно в этом аспекте коррупция стала угрозой национальной безопасности страны.
Расхождение оценок распространенности коррупции по уровням власти и сферам реализации государственных функций в интерпретации экспертов и политиков вполне понятно. Политики руководствуются правилом, вытекающим из специфики чиновничьей позиции по тем или иным вопросам с учетом согласования с руководством и необходимости отстаивания государственных интересов. Однако и исследователей порой также могут не без оснований упрекнуть в ангажированности, поэтому, опираясь на те, или иные аргументы, необходимо обращаться к фактам.
Факты таковы, что в настоящее время даже между государственными органами России нет единства мнений по поводу сферы распространенности коррупции, а признаки осознания ее масштабов и пусть временных, но неотложных решений, уже имеются в ближайшей ретроспективе российской политики. В частности, особый порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям стал своего рода иллюстрацией беспомощности власти в борьбе с коррупцией внутри правоохранительных ведомств, для которых «кошмарить бизнес» – дело куда как более доходное, нежели служба народу и Отечеству. Площадка уголовных преследований по налоговым преступлениям стала очень удобной для организации рейдерских захватов, нового передела собственности.
В свете требования объективности криминалистических исследований позиция того или иного государственного деятеля по вопросу оценки сферы и масштабов распространенности коррупции не может служить отправной точкой без соотнесения ее с конкретными функциональными обязанностями и оценки степени конъюнктурности мнения чиновника. Иными словами, как эмпирический материал мнения чиновников интересны ровно настолько, насколько государственный аппарат поворачивается лицом к проблеме.

Однако Россия показывает примеры способности к самоочищению принятием ключевых решений: в России ратифицирована Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года принятием отдельного Федерального закона от 8 марта 2006 г. без каких-либо изъятий. При этом в документе констатировалось лишь обладание юрисдикцией по ряду статей конвенции (п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» [6]). В этом перечне не оказалось статьи 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, которая предполагала введение уголовной ответственности для чиновников за незаконное обогащение. Для представителей несистемной оппозиции это стало основой для критики российской власти в непоследовательности и полумерах в борьбе с коррупцией. При этом, критики как-то упускают из виду, что ряд куда как более благополучных с точки зрения состояния борьбы с коррупцией стран (например, Германия [7], Япония и пр.) в течение более десятка лет после принятия Конвенции ООН против коррупции и вовсе не считают необходимым ее ратифицировать. Кроме того, необходимо отдавать отчет и в том, что российское законодательство перед криминализацией состава незаконного обогащения чиновника следовало бы еще привести в соответствие международно-правовой норме. Впрочем, отсутствие юрисдикции России по незаконному обогащению чиновников в части уголовного преследования за подобные посягательства не является чем-то непреодолимым, тем более российский бюджет куда как более прозрачен, чем тот же немецкий или ряда других благополучных в отношении коррупции стран. Однако абсолютная прозрачность доходов и расходов чиновников может спровоцировать более широкое использование помощи аффилированных лиц, которые будут вести бизнес чиновника и приумножат, в первую очередь, именно его, а затем уже свои капиталы. Иными словами, накопленные активы чиновника могут работать на его прибыль относительно автономно, без формальной привязки к его персоне, а значит неподконтрольно антикоррупционным и финансовым органам.
Отечественная практика уголовного преследования по преступлениям со сложной системой доказывания всегда опирается на возможность использования «подушки безопасности», переквалифицируя деяние на другой состав. Например, получение взятки нередко трансформируется в превышение должностных полномочий или злоупотребление ими, а иногда в мошенничество с использованием должностного положения, но когда доказать и это не удается, то всегда есть две «палочки-выручалочки» – причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения и самоуправство. Учитывая названные особенности российской практики судопроизводства по сложным уголовным делам, к коим необходимо отнести практически все коррупционные преступления, криминализация незаконного обогащения чиновника представляется уместной. Однако попытки депутатов-коммунистов сделать это в 2011 году не увенчались успехом, поскольку субъекты законодательной инициативы (широко известна по этому подводу позиция Правительства и Верховного Суда России) дали отрицательные отзывы на законопроект. В этой связи нельзя не согласиться с известным обобщением, очень точно определенным Ф.Х. Галиевым: «Общеизвестно, что основным фактором эффективности воздействия правового регулятора на общественные отношения, на поведение конкретных индивидов и на их правосознание является то, что его функциональные параметры основываются на принудительной силе государства и функционируют за его счет» [8, с. 17].
Криминалистическая характеристика зачастую формируется по остаточному принципу в полной зависимости от актуальной практики. Представляется, что с учетом гиперлатентности коррупционной преступности более объективным в этой связи является подход криминологов и даже независимых исследовательских центров, которых сложно упрекнуть в претенциозном отношении к проблеме. Криминологи с успехом используют методы виктимологизации, т.е. опрос жертв преступлений из группы риска (например, предпринимателей о коррупции в сфере реализации государственных услуг, управления недвижимостью и пр.), и экспертных оценок (опрос профессиональных участников административного и уголовного производства по коррупционным преступлениям).
Одно из наиболее широко цитируемых исследований в рассматриваемой области в общемировом масштабе проводится международной неправительственной организацией Transparency International. Рассчитанный по методике этой организации индекс восприятия коррупции (The Corruption Perceptions Index) представляет собой глобальное всемирное исследование, на основании которого определяется рейтинг стран по показателю распространенности коррупции в государственном секторе. В 2014 году в этом рейтинге из 174 стран, участвовавших в нем, Россия заняла 136-е место [9]. В рамках исследовательского проекта коррупция определяется как любые злоупотребления служебным положением в целях личной выгоды, что несколько отличается от легального российского определения этого явления. Коррупция в интерпретации российского законодателя выступает в двух ипостасях: во-первых, это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а во-вторых, это все вышеназванное, но от имени или в интересах юридического лица [10]. По справедливому мнению организаторов проекта индекса восприятия коррупции, при измерении коррупции статистические данные не являются репрезентативными в силу того, что отражают не столько реальный уровень коррупции, сколько качество работы правоохранительных органов. Поэтому единственным надежным источником информации исследователи признают мнения и свидетельства тех, кто непосредственно сталкивается с коррупцией (предприниматели) или профессионально занимается ее изучением (аналитики) [11]. Тем не менее, и этот подход не в полной мере себя оправдывает, поскольку сложно определить объективность опрашиваемых экспертов-аналитиков, а предприниматели усложненность административных процедур нередко могут воспринимать как коррупцию. Интересно, кого из предпринимателей Северной Кореи опросили исследователи Transparency International, поставив эту страну на предпоследнее место, не задумываясь о том, что тоталитаризм и коррупция – совершенно разные и порой антагонистические измерения общественного уклада.
Определяя методологические основания к криминалистическому исследованию коррупции в современной России, важно опираться на объективные данные, а в этих целях необходимо:
-
1. На высказывания политиков даже самого высокого ранга необходимо обращать внимание в контексте оценки адекватности государственных приоритетов борьбы с коррупцией реальному положению вещей. Иными словами, важно отказаться от доставшегося нам в наследство от советского периода стремления с упоением следовать «заветам вождей». Высказывания политиков о том, где коррупция распространена наиболее широко, нельзя воспринимать как руководство к действию, как приоритет научноисследовательского поиска.
-
2. В исследованиях важно опираться на объективные данные. В частности, прозрачность российского бюджета в этом смысле на руку неангажиро-ванным исследователям. При этом, сравнительная
-
3. Ставшие традиционными для криминологов методы виктимологизации и экспертных оценок позволят и криминалистам проводить собственные исследования ближе к реальной действительности, а не в полной зависимости от ущербной практики уголовного судопроизводства, которая по большей части лишь характеризует невысокое качество работы органов расследования, прокуратуры и судов, нежели отражает реальное положение вещей. Тем не менее, отказываться от изучения уголовных дел нельзя, поскольку редкие «прорывы» случаются и в сфере уголовного преследования и рассмотрения уголовных дел по существу.
характеристика расходов на те или иные объекты, скажем, инфраструктуры (например, дороги) в России и зарубежных странах позволяет дать объективную оценку этой доходной статьи коррупционного бюджета с поправкой на неэффективность управления. Сложно упрекнуть во лжи тех, кто вынужден платить откаты в той или иной сфере распределения государственных расходов, кто не стесняется говорить об этом открыто [12]. Есть и косвенные объективные параметры оценки злоупотребления властью. Например, для того, чтобы получить адекватную картину качества российского правосудия достаточно провести автороведческие экспертизы вынесенных приговоров и решений судов уголовной и гражданской юрисдикций на предмет оригинальности текста. Действительно ли судьи пишут приговоры или в лучшем случае это делают их помощники? В худшем же случае приговор иногда компилируется в значительном процентном отношении с обвинительного заключения или электронного варианта, проекта, «рыбы», представленной стороной защиты. С помощью сайта «Росправосудие» качественноколичественную оценку этому явлению можно дать на объективных основаниях.
Российская «элита» перед лицом западных санкций и угрозы распада страны сегодня начинает осознавать масштабы трагедии всепроникающей коррупции. Однако до тех пор, пока от недобросовестных «насквозь коррумпированных» учителей, преподавателей и врачей господа-чиновники не переключатся к самооздоровлению, да к тому же не на локальном уровне предупреждения конфликта интересов, декларирования доходов, но прежде всего системным решением проблемы в целом, сколько-нибудь ощутимого эффекта ожидать не придется.
Список литературы Основания криминалистического исследования коррупции
- Стефанишин С.С. Предупреждение коррупционных преступлений в зарубежных странах: Дисс. … к.ю.н. -Москва, 2005.
- EDN: NNHEBL
- Послание Генерального секретаря ООН по случаю открытия Политической конференции на высшем уровне, посвященной подписанию Конвенции ООН против коррупции, Мерида, Мексика, 9 декабря 2003 года.http:www.un.org/ru/sg/annan messages/2003/corruption2.shtml (дата обращения: 22.01.2015).
- Kalinina A. Corruption in Russia as a Business. Institute of modern Russia/http:gmhtrack.com/en/society/376-corruption-in-russia-as-a-business (дата обращения: 23.01.2015).
- Chrissikos D. Corrupted Capitalism in Russia: 1991-2014.Republic of the East/http:russia-eastern-republic.com/2014/10/10/corrupted-capitalism-in-russia-1991-2014/(дата обращения: 23.01.2015).
- Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».Собрание законодательства РФ от 20 марта 2006 г. № 12. Ст. 1231.
- Галиев Ф.Х. Сочетание традиционного и правового регуляторов в правовой культуре федеративного государства.//Правовое государство: теория и практика. 2009. № 3 (17).-17-20.
- EDN: NXNUYV
- Corruption by country / territory / http:www.transparency.org/country#RUS (дата обращения: 23.01.2015), а также: Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции. http:gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info (дата обращения: 23.01.2015).
- подп. «а» и «б» п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 52 (часть 1) ст. 6228.
- Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции. http:gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info (дата обращения: 23.01.2015).
- Вне связи с прямой или косвенной заинтересованностью самих аналитиков в конъюнктурной интерпретации полученных результатов на страницах печати появляются результаты таких опросов. См., например: Esquire выяснил, каков стандартный процент отката в России при строительстве дорог, заказе компьютеров и томографов.Esquire от 19 сентября 2014 года/http:esquire.ru/rasp-calc (дата обращения: 31.01.2015).