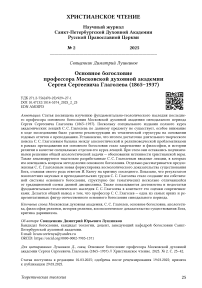Основное богословие профессора Московской духовной академии Сергея Сергеевича Глаголева (1865–1937)
Автор: Священник Димитрий Лушников
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению фундаментальнотеологического наследия последнего профессора основного богословия Московской духовной академии синодального периода Сергея Сергеевича Глаголева (1865–1937). Поскольку специального издания полного курса академических лекций С. С. Глаголева по данному предмету не существует, особое внимание в ходе исследования было уделено реконструкции их тематической структуры на основании годовых отчетов о преподавании. Установлено, что итогом достаточно длительного творческого поиска С. С. Глаголевым баланса между апологетической и религиоведческой проблематиками в рамках преподавания им основного богословия стало закрепление и философии, и истории религии в качестве специальных отделов его курса лекций. При этом они оставались подчиненными решению общей апологетической задачи — обоснования истинности христианской веры. Также анализируются тщательно разработанные С. С. Глаголевым вводные лекции, в которых им освещались вопросы методологии основного богословия. Отдельно рассматривается предложенная С. С. Глаголевым новая формулировка космологического доказательства существования Бога, ставшая своего рода ответом И. Канту на критику последнего. Показано, что результатом многолетних научных и преподавательских трудов С. С. Глаголева стало создание им собственной системы основного богословия, структурно (не тематически) несколько отличавшейся от традиционной схемы данной дисциплины. Также показываются достоинства и недостатки фундаментальнотеологического наследия С. С. Глаголева в контексте его оценки современниками. Делается общий вывод о том, что профессор С. С. Глаголев — одна из самых ярких и репрезентативных фигур отечественного основного богословия синодального периода.
Московская духовная академия, С. С. Глаголев, основное богословие, апологетика, философия религии, история религии, космологическое доказательство существования Бога, критика дарвинизма
Короткий адрес: https://sciup.org/140309596
IDR: 140309596 | УДК: 271.2-756(470-25):929+27-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_25
Текст научной статьи Основное богословие профессора Московской духовной академии Сергея Сергеевича Глаголева (1865–1937)
Научно-преподавательская деятельность С. С. Глаголева
Сергей Сергеевич Глаголев — последний профессор основного богословия дореволюционной Московской духовной академии, который по праву может считаться одной из самых ярких и репрезентативных фигур отечественного основного богословия синодального периода.
Родился Сергей Глаголев в 1865 г. в семье настоятеля соборного храма свт. Николая уездного города Крапивна Тульской губернии. В 1879 г., после окончания Тульского духовного училища, поступил в Тульскую духовную семинарию, которую закончил в 1885 г. (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 924. Л. 2–3).
В том же 1885 г. Сергей Глаголев был зачислен первым студентом в Московскую духовную академию [Диваков, 1972, 5], обучение в которой закончил в 1889 г., получив отличные оценки по всем предметам (за исключением церковной археологии и ли-тургики), а также ученую степень кандидата богословия за диссертацию «О происхождении человека (против дарвинизма)» и право преподавать в семинарии (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 924. Л. 8, 16). Как указывает протодиак. Сергий Голубцов, «в выпуске 1889 г. он числился 2-м магистрантом, уступив I-е место Н. Н. Глубоковскому, будущему профессору Санкт-Петербургской духовной академии, ученому с мировым именем» [Голубцов, 2002, 219].
После окончания Академии С. С. Глаголев вместе с Н. Н. Глубоковским был оставлен при ней еще на год для приготовления на замещение вакантных преподавательских кафедр, т. е. в качестве профессорского стипендиата (Отчет, 1889, 684; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 924. Л. 15).
Преимущественное внимание в рамках данной подготовки С. С. Глаголев, согласно его отчету, уделил: 1) изучению философских наук; 2) изучению некоторых наук естественных, с целью приложения их к исследованию философских и богословских вопросов1; 3) чтению апологетической литературы; 4) написанию собственных работ апологетического характера (главным образом, написанию магистерской диссертации) (Журналы Совета, 1891, 157). Как видно из отчета, научно-богословские интересы С. С. Глаголева были сосредоточены вокруг изучения фундаментально-теологической и апологетической проблематики, в целом соответствуя требованиям подготовки для занятия кафедры Введения в круг богословских наук.
Профессор В. Д. Кудрявцев-Платонов (1828-1891) в своем отзыве на отчет С. С. Глаголева в целом положительно, несмотря на ряд выявленных им недостатков, касающихся излишнего разнообразия и многосторонности научных интересов профессорского стипендиата, оценивает его годичные занятия, делая вывод, что представленный Глаголевым отчет «дает основание надеяться, что приобретенные им в течение года познания послужат к значительному усовершенствованию и расширению области его научно-богословских познаний» (Журналы Совета, 1891, 255).
Как отмечает Н.Ю. Сухова, учрежденный реформой 1884 г. институт профессорских стипендиатов позволял академиям формировать запас подготовленных специалистов, которых «либо сразу оставляли на вакантные места в академии, либо отправляли на службу в семинарии, но могли вызвать в академии при освобождении вакансий» [Сухова, 2012, 428].
Поэтому, в силу того что ко времени окончания срока профессорского стипен-диатства С. С. Глаголева кафедра Введения в круг богословских наук была занята инспектором Академии архим. Антонием (Каржавиным), молодой ученый летом 1890 г. был назначен преподавателем церковной и библейской истории в Вологодскую духовную семинарию (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 924. Л. 17)2.
Однако его пребывание в Вологде было недолгим. Уже в начале 1892/1893 уч. г. С. С. Глаголев возвращается в alma mater и приступает к чтению лекций на освободившейся к тому времени кафедре Введения в круг богословских наук в качестве исправляющего должность доцента (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 7, 11, 14). Указанную кафедру, которой по Уставу 1910 г. было возвращено прежнее название — Основное богословие, Глаголев в итоге будет занимать 28 лет, вплоть до закрытия Академии в 1919 г.
В феврале 1892 г., еще будучи преподавателем Вологодской семинарии, С. С. Глаголев заканчивает работу над магистерской диссертацией «О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого» (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 924. Л. 19). Однако ее защита в стенах Московской духовной академии состоялась только в 1894 г. (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 12), что, по мнению протодиак. Сергия Голубцова, было связано с необходимостью ее доработки [Голубцов, 2002, 222].
В январе 1895 г. С. С. Глаголев вступает в законный брак с дочерью помощника исправника г. Грязовца Вологодской губернии Людмилой Николаевной Аммосовой (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 18, 19).
В мае 1896 г. указом Св. Синода С. С. Глаголев был утвержден в ученой степени магистра богословия (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 924. Л. 23)3, после чего, в августе того же года, избран Советом Академии на должность доцента занимаемой им кафедры, а декабре, после вручения диплома, утвержден ее экстраординарным профессором (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 924. Л. 24; Д. 5047. Л. 12).
В апреле 1898 г. С. С. Глаголев обращается в Совет Академии с просьбой о заграничной командировке для изучения истории религий. Он отмечает, что при разработке преподаваемой им науки изучение религии как исторической действительности дает обильный и глубоко назидательный апологетический материал. Однако встречающиеся на русском языке переведенные тексты западных ученых представляют собой большей частью рационалистические курсы, в которых все религии, в том числе ветхозаветная и христианская, трактуются как естественные. Поэтому с особой напряженностью возникает необходимость адекватного с научной точки зрения ответа со стороны духовно-академического сообщества. Такой ответ, по мнению С. С. Глаголева, предполагает разработку отечественного, выполненного в духе православия курса по истории религий, что может быть удовлетворительно выполнено лишь при условии использования пособий и средств, предоставляемых западными университетами, библиотеками и музеями (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 32–33).
Вскоре, в сентябре этого же года, согласно распоряжению Св. Синода (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 36-37), С. С. Глаголев был отправлен в годичную научную командировку, проведя в итоге по полгода в Берлине и Париже4.
С 1900 г., со времени начала издания Православной богословской энциклопедии, С. С. Глаголев становится ее постоянным автором, в общей сложности опубликовав
35 статей, которые впоследствии большей своей частью вошли в «Пособие к изучению основного богословия», составленное им для Высших женских богословских курсов в Москве [Казарян, 2006, 536].
Также в 1900 г. проф. С. С. Глаголев был избран вице-президентом Всемирного конгресса религий в Париже [Голубцов, 1999, 63].
В сентябре 1900 г. С. С. Глаголев представляет в Совет Академии сочинение «Сверхъестественное Откровение и естественное богопознание» в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора богословия (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 43). После успешной защиты диссертации в марте 1901 г., на которой оппонентами выступили экстраординарные профессора, соответственно, по кафедре Св. Писания Ветхого Завета В. Н. Мышцын и по кафедре патристики И. В. Попов (Журналы Совета, 1902, № 1, 12–32; № 2, 33–45), в июне того же года Глаголев был утвержден указом Св. Синода в степени доктора богословия (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 44, 45).
В марте 1902 г. С. С. Глаголев утвержден в звании ординарного профессора (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 47-48), а в январе 1909 г. становится членом Правления Московской духовной академии. Во втором семестре 1912/1913 уч. г. он временно читает лекции по систематической философии и логике вместо скоропостижно скончавшегося профессора А. И. Введенского (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 64).
В 1917–1918 гг. С. С. Глаголев был делегатом на Поместном Соборе Российской Православной Церкви от Московской духовной академии. После закрытия Академии в 1919 г. он преподавал в Сергиево-Посадских светских учебных заведениях и на богословских академических курсах в Москве [Голубцов, 2002, 239–240].
В мае 1928 г. С. С. Глаголев был арестован, приговорен к трем годам ссылки и отправлен в Пензу. Досрочно освобожден в 1929 г., после чего вернулся в Вологду, где проживала его жена. В июне 1937 г. был вновь арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, в сентябре приговорен к высшей мере наказания и 2 октября расстрелян, приняв мученическую кончину [Голубцов, 1999, 64; Голубцов, 2002, 241–242].
По воспоминаниям учеников и сослуживцев, С. С. Глаголев, сочетая в себе талант неутомимого ученого-естествоиспытателя, глубину воззрений философа, твердую веру богослова и искусную страстную диалектику апологета, как преподаватель обладал незаурядным даром слова, умея овладевать вниманием студентов. Привлекая в свою аудиторию самых разных по своему интеллектуальному развитию слушателей и возводя их интерес до предельного напряжения, он превращал свои публичные выступления в триумф богословской мысли. На лекции знаменитого профессора стекались не только слушатели различных отделений Академии, но и студенты множества московских высших учебных заведений [Кесарий Георгеску, 1960, 237–238].
По мнению С. А. Волкова, одного из учеников профессора, С. С. Глаголев обладал глубоким и подлинно педагогическим тактом, в основе которого лежали его собственные обширные знания и умение оценивать оригинальную мысль студента, облеченную в суждение, возможно, не вполне правильное, однако заставляющее думать и показывающее, что отвечающий не только прошел курс, но и размышлял над ним (см.: [Волков, 2000, 140]).
Началом становления С. С. Глаголева как ученого стало его кандидатское сочинение «Происхождение человека (против дарвинизма)». Так, оппонент его диссертации доцент А. Д. Беляев (1849-1919), в будущем известный профессор Московской духовной академии и автор оригинальной системы православной догматики, отмечал, что труд Глаголева представлял собой вполне научное по основательности, полноте и всесторонности сочинение, изложенное живым и легким языком, что вместе с разнообразием и новизной сообщаемых фактов позволяло признать его отличным во всех отношениях (см.: (Журналы Совета, 1889, 118)).
Магистерская диссертация С. С. Глаголева (Глаголев, 1894), ставшая следующим шагом на пути его становления как ученого-богослова, получила положительный отклик в богословском пространстве тех лет. В статье о Глаголеве, помещенной в Православной богословской энциклопедии, отмечается, что автор огромной диссертации, основываясь на фактологическом материале, почерпнутом из разных областей современного ему естественнонаучного знания, убедительно доказывает, что эволюционизм с его идеей происхождения человека от обезьяны базируется не на фактах и законах мысли, а на материалистических предубеждениях эпохи (см.: [Б/а, 1903, 396–397]). Также говорится, что в диссертации С. С. Глаголев обнаруживает себя как зрелый и состоявшийся православный ученый-богослов, мысль которого «направлена достаточно твердо и совершенно чужда того неодобрительного преклонения пред самозванными авторитетами ложного естествознания, в коем, к сожалению, повинны многие апологеты религии, особенно из протестантов» [Б/а, 1903, 398].
Профессор С. С. Глаголев, будучи широко образованным ученым, ревностно трудившимся почти на всех направлениях апологетики кон. XIX — нач. XX вв. [Казарян, 2006, 536], стал одним из самых плодовитых духовно-академических авторов своего времени [Б/а, 1903, 398]. Уже в первый год своего преподавания в Московских духовных школах он опубликовал в нескольких научных журналах в общей сложности 18 статей (Отчет, 1893, 28–29). Всего его перу принадлежат, кроме двух вышеуказанных диссертаций, также докторская (Глаголев, 1900а) (о ней подробнее ниже), несколько монографий (Глаголев, 1902; Глаголев, 1904а; Глаголев, 1905а; Глаголев, 1906; Глаголев, 1909; Глаголев, 1910; Глаголев, 1912а; Глаголев, 1914а) и более сотни статей апологетического содержания, многие из которых были изданы отдельными брошюрами5.
В отечественной духовно-академической богословской науке неоднократно предпринимались попытки изучения богословского наследия С. С. Глаголева. В этой связи можно отметить исследования В. Д. Сарычева, иером. Кесария (Георгеску), диак. Михаила Дивакова, свящ. Алексея Егорова [Сарычев, 1952–1954; Кесарий Георгеску, 1960, 184-235; Диваков, 1972; Егоров, 2010]. Однако данные труды нельзя признать содержащими всесторонний и систематический анализ обширного фундаментальнотеологического творчества С. С. Глаголева. Как представляется, проведение подобного полноценного и всеобъемлющего исследования богословского творчества проф. Глаголева потребует написания отдельной монографии и может стать предметом будущих специальных научных изысканий.
В настоящей статье особое внимание будет уделено только лишь изучению особенностей преподавания С. С. Глаголевым основного богословия, а также некоторым наиболее значимым его открытиям в данной области теологического знания.
Преподавание основного богословия С. С. Глаголевым
Несмотря на достаточно длительное (28-летнее) преподавание С. С. Глаголевым основного богословия в Московской духовной академии и проделанную им колоссальную научно-исследовательскую работу в данной области теологического знания, специального издания полного курса его академических лекций в виде учебника или пособия по данному предмету предпринято не было. Поэтому для реконструкции тематической структуры последнего обратимся к кратким годовым отчетам С. С. Глаголева о преподавании им основного богословия.
Согласно отчетам за первые два года преподавания, курс лекций С. С. Глаголева состоял из вводной части, где рассматривались вопросы о предмете, задачах и составе науки, а также первых двух разделов дисциплины — «О религии» и «Об Откровении». В первом разделе были представлены следующие темы: религия как психологическая необходимость; изложение и разбор учений о религии Канта, Фихте, Шлейермахе-ра, Гегеля и Фейербаха; эволюционная теория происхождения религии; изложение и обоснование существенных истин религии (бытие премирного и личного Творца, о доказательствах бытия Божия (космологическом, психологическом и телеологическом), о свободе воли в связи с вопросом о Промысле, бессмертие человеческой души). Второй раздел, названный автором «Религия, как историческая действительность», был посвящен изучению естественных религий: египтян, ассиро-вавилонян, первоарийцев, персов, браманизма и буддизма (Отчет, 1893, 22–23; Отчет, 1894, 21).
В 1894/1895 уч. г. были добавлены следующие темы: к вводному разделу — о методе науки; к первому — обзор философских учений о религии с XVI по XIX вв. (главным образом XVI и XVII вв. и 1-я пол. XIX в.); ко второму — о китайской религии, а также специальный апологетический отдел — о происхождении мира, жизни и человека (Отчет, 1895, 29).
В следующем 1895/1896 уч. г. курс лекций тематически значительно расширяется. В первом и втором разделах появляются новые темы. В первом разрабатывается проблематика положительного решения вопросов о сущности и происхождении религии — о стремлении человека к Богу, о религии как единственном средстве для достижения человеком его назначения, о сверхъестественной и естественной сторонах религии. Во втором, помимо ранее присутствовавшего исторического изучения нехристианских религий, рассматриваются вопросы о религии первобытного человечества, о религии богооткровенной и делается разбор некоторых возражений против истинности богооткровенной религии, идущих со стороны естествознания. Также в этом учебном году С. С. Глаголевым была начата разработка четвертого раздела основного богословия — «Богословского учения о познании», в рамках которого автором были прочитаны лекции о православно-христианской религии как предмете науки и о богословии, его видах и составе (Отчет, 1896, 33).
В 1897/1898 уч. г. в лекциях С. С. Глаголева впервые появляется раздел о свойствах Божиих, а также фундаментально-теологическое учение о Церкви, но не как специально разработанный полноценный раздел дисциплины, а только в виде одной из тем первого ее раздела — «О религии» (Отчет, 1898, 34) .
После возвращения в 1899 г. из заграничной командировки С. С. Глаголев, в контексте нараставшего в то время неверия и усиливавшихся обвинений религиозной веры в иррациональности, особое внимание стал уделять проблеме взаимоотношения религии и науки с целью выяснения, как он полагал, более точного существа, задачи и метода науки о религии, каковой является основное богословие. Поэтому начиная с 1899/1900 уч. г. в течение двух лет его курс лекций предварялся специально подготовленными чтениями, объединенными общим названием «Религия и наука в их взаимоотношении к наступающему XX-му столетию» (Отчет, 1901, 34).
С 1901/1902 уч. г. еще более усиливается апологетическая направленность курса лекций. Так, С. С. Глаголев особое внимание уделяет опровержению «метафизических возражений против основных фактов религии (Откровения, Провидения, чудес, пророчеств, благодатного воздействия Церкви)». Также в этом году им была продолжена разработка системы богословских наук или богословской энциклопедии, а в отделе, посвященном изучению нехристианских религий, добавлены «замечания по религиозной феноменологии» (Отчет, 1902, 35–36).
Следующие три года предметная структура курса не претерпевала никаких изменений. Начиная с 1905/1906 уч. г. тематическое наполнение курса лекций несколько изменяется. Вводный раздел в большей степени теперь посвящен разработке теоретических вопросов изучения религии, основных ее проблем, а также вопроса о возможностях и границах ее научного исследования. В основной части курса внимание больше уделяется проблематике философии религии, а именно критическому рассмотрению различных философских решений о сущности и происхождении религии (Отчет, 1908, 33).
В 1908/1909 уч. г. С. С. Глаголев возвращает в свои лекции проблематику взаимоотношения религии и естественнонаучного знания, публикуя новую вводную часть курса под общим названием «Истина и наука». Первый раздел курса посвящен рассмотрению основных проблем религии, к которым отнесены следующие: 1) О религиозной вере; 2) О богопознании; 3) О Боге; 4) О мире; 5) О человеке; 6) О свободе воли и Провидении; 7) О бессмертии и вечности; 8) О Церкви (Отчет, 1909, 55). Отметим, что именно такую последовательность изложения материала С. С. Глаголев избирает для опубликованного спустя пять лет пособия по основному богословию (Глаголев, 1912а). Что касается второго и третьего разделов его лекций, посвященных, соответственно, философии и истории религии, то они представлены в курсе, по словам самого профессора, как «дополнения к руководству „Из чтений о рели-гии“» (Отчет, 1909, 55). Таким образом, данный сборник вместе с указанным пособием по праву могут считаться в определенной мере отображающими содержание академического курса лекций проф. С. С. Глаголева.
В 1909/1910 уч. г. С. С. Глаголев вновь модернизирует свой курс лекций, существенно изменяя его структуру. Он отказывается от ранее избранной стратегии преподавания дисциплины преимущественно как философии религии, возвращаясь к апологетической ее трактовке. Вводная часть курса теперь состоит из двух отделов: первый посвящен вопросам идентичности христианского богословия как такового, истории его становления и развития как на Западе, так и в России; второй — выяснению статуса апологетики как специальной богословской дисциплины. Здесь автором рассматриваются ее предмет и задачи, предлагается исторический очерк ее становления и развития, а также исследуются основные ее направления. В этом учебном году основная часть курса была представлена тремя разделами: 1) о религии в ее существенных элементах, где упор делался на рациональное обоснование основных религиозных истин; 2) о религии как исторической действительности (данный раздел неизменно сохранялся в программе С. С. Глаголева на всем протяжении его преподавания основного богословия); 3) о религии как психологической проблеме, где автор рассматривает учения о религии Г. Чербери, Ф. Гоббса и Г. Лейбница.
Таким образом, проблематика философии религии в лекциях С. С. Глаголева отходит на второй план, уступая место решению апологетических вопросов (Отчет, 1910, 48).
Особо отметим, что в 1910/1911 уч. г. изменение названия дисциплины «Введение в круг богословских наук» на «Основное богословие», согласно новому Уставу, не привело к какому-либо изменению тематического наполнения курса лекций (Отчет, 1911, 42).
В 1913/1914 уч. г. С. С. Глаголев наконец-то завершает разработку предметной структуры своего курса, которая приобретает следующий окончательный вид: 1) Предмет и задача основного богословия, метод курса. Краткое обозрение литературного материала, представляемого историей для основного богословия; 2) Религия в ее существенных элементах; 3) Религия в ее исторических формах; 4) Религия в философском понимании; 5) Христианство: разнообразие в его понимании, основания нашей веры в то, что христианство в православном понимании есть истина (Отчет, 1914, 40–41; Отчет, 1915, 41; Отчет, 1916, 35–36).
Таким образом, достаточно длительный творческий поиск С. С. Глаголевым баланса между апологетической и религиоведческой проблематикой в рамках преподавания им основного богословия был завершен тем, что и философия, и история религии были закреплены как специальные разделы его курса лекций, при этом в целом оставаясь подчиненными решению его общей апологетической задачи обоснования истинности христианской веры.
Немаловажное значение для изучения преподавания основного богословия С. С. Глаголевым имеют его вводные лекции, каждая из которых представляет собой отдельный цикл вступительных чтений, которые, по словам протодиак. Сергия Голубцова, профессором тщательно разрабатывались (нередко затем печатались) и в которых он давал либо обзор курса, либо какие-то пожелания методического характера учащимся, либо высказывал свои взгляды на предмет, задачи и метод преподаваемой им науки [Голубцов, 2002, 236–237].
Всего С. С. Глаголевым было опубликовано несколько вариантов вступительных лекций (Глаголев, 1892, 415–425; Глаголев, 1900б; Глаголев, 1905б, 412–448; Глаголев, 1908; Глаголев, 1912б, № 1, 30–51; № 2, 217–235; № 3, 474–504; Глаголев, 1914б, 1–27; Глаголев, 1916, № 2, 213–245; № 3/4, 421–451; № 5, 57–73), из которых наибольший интерес представляет лекция, прочитанная в сентябре 1911 г., поскольку именно к этому времени за преподаваемой им основополагающей богословской дисциплиной окончательно (причем до настоящего времени!) закрепляется название «основное богословие». Профессору Глаголеву необходимо было выработать четкое понимание того, что должно представлять из себя основное богословие как предмет изучения в высших духовных школах.
В данных вступительных чтениях, объединенных общим названием «Основное богословие, его предмет и задача», С. С. Глаголевым решаются вопросы идентичности (иными словами — определения специального своеобразия) основного богословия как теологической дисциплины, его методологической тематизации и систематизации предметных составляющих.
По С. С. Глаголеву, основное богословие есть наука о существе и основах нашей веры в Бога. Оно призвано отвечать на вопросы о понимании и ценности исповедуемой нами религиозной веры или, точнее, направлено на выяснение ее существа и оснований, почему мы считаем ее истинной. Если мы веруем, что христианство есть истинная религия, то предметом основного богословия становится сущность христианства, а его задачей — обоснование истинности последнего (Глаголев, 1912б, 31).
В силу того, что с точки зрения логических и классификационных схем православие есть один из видов христианства, а христианство есть одна из многих мировых религий, для выполнения стоящей перед основным богословием задачи требуется подняться к более общим схемам: сначала «выяснить, что такое христианство в его широком понимании, и только после этого уже перейти к выяснению существа православия, которое, по нашей вере и разумению, является наиполнейшим выражением религиозной истины и силы» (Глаголев, 1912б, 32).
По мнению С. С. Глаголева, если религия как таковая — это вопросы веры, то наука о религии, каковой является основное богословие, имеет дело с вопросами сомнений в вере. В этом контексте первоочередной задачей дисциплины становится уничтожение средостения между разумом и христианским учением. Данная задача может выполняться как отрицательно (посредством выяснения того, что вероучение христианства не заключает в себе внутренних противоречий), так и положительно (через раскрытие сущности христианства, т. е. образа Христа и содержания Его учения) (см.: (Глаголев, 1912б, 36, 37)). Последнее для С. С. Глаголева является важнейшей задачей основного богословия, поскольку, «если мы выясним неудовлетворительность идеалов Зенд-Авесты, буддизма, ислама или конфуцианства, мы этим еще не докажем, что христианство есть истина» (Глаголев, 1912б, 37–38).
С. С. Глаголев подчеркивает, что из-за общего антирелигиозного направления мысли того времени, ее негибкости и маловместительности, для положительного решения главной задачи основного богословия (обоснования истинности православной веры) сначала требуется предварительно подготовить мысль к религиозному пониманию и расширить кругозор атеистически настроенного человека. «Прежде чем учить, что религия в ее православно-христианской форме есть истина, нужно говорить о религии вообще, о существенных элементах религии, об отношении религиозных принципов к догматам науки. И только потом уже о христианстве, о православии, об отношении православного учения к данным науки, к эстетическим и этическим идеалам человечества» (Глаголев, 1912б, 218).
Исходя из данного требования, С. С. Глаголев формирует предметную структуру дисциплины. Первый раздел основного богословия, по его мнению, должен быть посвящен теоретическому изучению религии, ее существенных элементов, постулатов и принципов и предварять второй раздел науки, направленный на изучение религии в ее исторических формах, т. е. на исследование религии во всех ее проявлениях, в том числе и в православно-христианском ее виде. Логическая взаимосвязь двух разделов определяется тем, что первый должен помочь ориентироваться во втором, а второй должен служить основанием для проверки тезисов первого (см.: (Глаголев, 1912б, 219–221)).
Третий раздел своего курса С. С. Глаголев считает нужным посвятить рассмотрению религий в философском понимании, или философии религии. Иначе говоря, после изучения фактов (существующих и существовавших религиозных форм) следует обратиться к изучению мнений о фактах. Если история религий, по его мнению, является наукой сравнительно молодой и «полем неразработанным», то философия религии в своей сущности современна философии (см.: (Глаголев, 1912б, 228)). Всех философов религии С. С. Глаголев разделяет на три класса: одних он называет апологетами положительной религии и относит к ним ведантистов Индии, неоплатоников Греции, средневековых европейских философов и некоторых новоевропейских, из которых выделяет Лейбница и Баадера; к другим относит критиков существующих религий, вносящих в религиозные представления более или менее существенные поправки; к третьему роду он относит философов, просто отрицающих религию. При этом он отмечает, что при изучении философии религии в рамках основного богословия главным образом приходится иметь дело с философами второго типа, осмысливающими и поправляющими религию (см.: (Глаголев, 1912б, 229–230)).
В четвертой части курса С. С. Глаголев предлагает говорить об истинности христианства в его православном понимании, т. е. приступить к решению главной задачи основного богословия. И здесь, по его мнению, особое внимание должно быть уделено не только основным теоретическим истинам христианской веры, но и учению о видимой Церкви как хранительнице истины и подательнице сил для осуществления правды (см.: (Глаголев, 1912б, 233–234)).
Последнюю, пятую часть курса — «Христианство и антихристианские учения нашего времени», С. С. Глаголев посвящает рассмотрению доводов против христианства. Здесь его внимание сосредотачивается на проблематике отношения христианского вероучения к естествознанию и истории, в частности, к вопросам происхождения мира и человека, возможности научного обоснования Божественного Промышления о мире (см.: (Глаголев, 1912б, 475, 477, 480)).
Космологическое доказательство существования Бога в версии С. С. Глаголева
Одним из самых значимых фундаментально-теологических сочинений С. С. Глаголева можно считать его докторскую диссертацию, удостоенную в 1900 г. Макарьев-ской премии (см.: [Светлов, 1903, 368]). По словам прот. Павла Светлова, данный труд представляет собой первое в отечественной богословской науке того времени специальное апологетическое исследование, посвященное рассмотрению одних из наиболее сложных вопросов христианского апологетического богословия: является ли принадлежность к Церкви Христовой необходимым условием для спасения и какова судьба тех миллиардов людей, которые были и находятся вне Церкви? (см. подр.: [Светлов, 1903, 371–372]).
Строго придерживаясь догматического учения о невозможности спасения вне Церкви и при этом не облегчая себе задачу возможным расширением смысла данного учения инклюзивистским6 подходом, С. С. Глаголев пытается обосновать следующие положения: если Откровение — это учение истины, то вне Церкви таковое никогда не возвещалось и не могло возвещаться свыше; если есть Откровение, то только церковное, поэтому всякий пребывающий вне Церкви, которая является богоучрежденной хранительницей всей переданной богооткровенной истины (как письменной, так и устной), пребывает вне истины, вне действия Ее спасительной силы (см.: (Глаголев, 1900а, 15, 19)). При этом присущая каждому человеку способность естественного бо-гопознания выполняет вспомогательную функцию, предстает тем началом, которое направляет человека к принятию Откровения. Однако если восприятия Откровения, содержащего в себе все нужное человеку для спасения, не происходит, то повинным в этом, по мнению С. С. Глаголева, является сам человек, не слушающий голоса естественного богопознания, зовущего его и всех людей в лоно истинной Церкви.
Доказательству этих пропозиций, собственно говоря, и посвящено все исследование С. С. Глаголева, разделяющееся на две части — историческую и научнофилософскую. В первой части автор на основании Св. Писания и небиблейских источников стремится показать, что Откровение изначально дано было для всех и что пребывание вне истинной Церкви стало уделом немногих исключительно по жестоковыйности людей, а не по воле Божией. Задачей второй части стало обоснование подлинного значения естественного богопознания, подготавливающего человека к принятию богооткровенного учения и вступлению в лоно истинной Церкви (см.: (Глаголев, 1900а, 37)).
Во второй части сочинения, в рамках разработки собственной концепции естественного богословия, С. С. Глаголевым была предложена новая формулировка космологического доказательства существования Бога (см.: (Глаголев, 1900а, 274–290)), которая стала своего рода ответом Канту на его критику последнего.
Отметим, что С. С. Глаголев, считая себя «глубоко и много обязанным» (Глаголев, 1904б, 92) кенигсбергскому мыслителю, а также выражая ему свое искреннее уважение и благодарность (см.: (Глаголев, 1904б, 92)), в то же самое время был абсолютно не склонен относиться к его философским взглядам некритично. Так, по словам А. И. Абрамова, обобщая и формулируя отношение всего духовно-академического философствования к кантовскому наследию (см.: [Абрамов, 1994, 98]), проф. Глаголев писал, что «как бы ни был велик мыслитель, будучи ограничен, он в своих произведениях кроме истины всегда будет сеять и ложь. И Кант сеял и пшеницу, и плевелы. Лучшей благодарностью учеников к учителю будет воспринимать и развивать завещанное им хорошее и отвеивать, и уничтожать, что было высказано им ошибочного и ложного» (Глаголев, 1904б, 114). Поэтому, как отмечает один из современников С. С. Глаголева И. Оренбургский, московский профессор, «желая спасти космологическое доказательство от кантовой критики, дал блестящую ему формулировку, обосновав его на последних выводах современной науки» [Оренбургский, 1909, 748].
Построение своего доказательства С. С. Глаголев начинает с анализа отвлеченного понятия случайности и подводит под это понятие конкретное содержание. Вселенная, по его мнению, образуется из каких-то начал, которые и способны к действию, и способны воспринимать действие. Эти начала множественны, конечны и несамобытны. Они множественны, потому что во Вселенной постоянно происходят изменения, а изменений не было бы, если бы начало было одно. Они конечны, и эту конечность Глаголев доказывает следующим образом. Самая маленькая материальная частица, обладающая незначительной силой притяжения, тем не менее действует на всю Вселенную, а значит, сфера ее действия бесконечна, но при этом напряженность ее действия ограничена. Бесконечность сферы действия конечной силы не упраздняет того факта, что сама по себе действующая сила конечна, и напряженность ее может быть выражена конечным числом. Бесконечной же силой мы можем назвать лишь такую, напряженность которой равна бесконечности. И если бы в мире действовала такая, с бесконечным напряжением, сила, то она парализовала бы все другие силы и все их подчинила бы себе. Однако такой силы в мире нет, т. к. напряженность любой силы в каждом отдельном объеме исчисляется конкретными величинами. Таким образом, мир конечен в каждом пункте своего бытия, а значит, конечен вообще.
Возражение, что мир, будучи конечным в отдельных пунктах, бесконечен как целое, как сумма конечных величин, несостоятельно, т. к. действие этой суммы во всяком пункте должно быть бесконечно. «Ни логика, ни математика не соглашаются с допущением бесконечной силы, разлагающейся на конечные образующиеся элементы, а значит, те начала, из взаимодействия которых образуется мир, конечны — каждое в отдельности и все в своей сумме» (Глаголев, 1904б, 276). Поэтому, если что-то конечно, то оно должно иметь начало, а отсюда следует вывод, что мир не существует от вечности, а что не существует от вечности — несамобытно, не может дать себе бытия. Следовательно, бытие мира имеет свою причину в ином, Высшем бытии, не связанном с этим миром необходимой связью и не подчиненном ему.
Здесь С. С. Глаголев намечает путь преодоления пантеизма космологического доказательства. Происхождение мира нельзя представлять аналогичным происхождению различных вещей. Говоря о происхождении, следует разуметь, что бытие — сущность, прежде не существовавшая, которая стала быть. Нельзя понимать, что Высшее Начало образовало мир из Себя, что мир возник путем эманации из какого-то Первого Принципа. Если мир возник через отделение от сущности этого Начала, то мы должны допустить, что Оно разделилось, изменилось, а значит, Оно сложное, как и наше бытие, и, в свою очередь, произошло от некоего другого Высшего Начала. Но т. к. regressus infinitum невозможен, остается предположить, что наше бытие произведено бытием бесконечным. Выражение же «изменяющаяся бесконечность» содержит в себе, по мнению С. С. Глаголева, внутреннее противоречие, поскольку у бесконечного нет конечных частей, изменения в смысле приращения или убавления в бесконечном быть не может, не может в бесконечном происходить перемещения частей, ибо все его части бесконечны, точнее, в нем нет частей. Бесконечное — это полнота бытия, и каждое из его бесконечных свойств всегда существует во всей своей бесконечной полноте (Глаголев, 1904б, 290). Таким образом, заключает проф. Глаголев, бесконечное произвело наше бытие, не отделяя от себя части, т. е. не путем эманации, а путем творения, а значит, мы необходимо приходим к библейскому учению о творении мира.
Характеристика фундаментально-теологического наследия С. С. Глаголева
Анализ предметной структуры лекций по «Введению в круг богословских наук» и по «Основному богословию» С. С. Глаголева показывает, что курс московского профессора, несмотря на различие в названиях, понимался им именно как основное богословие, поскольку с самого начала его преподавания соответствовал тематическому наполнению данного богословского предмета, в большей или меньшей степени охватывая его традиционные разделы.
При этом результатом многолетних научных и преподавательских трудов С. С. Глаголева в данной области теологического знания стало создание им собственной системы основного богословия, структурно (не тематически) несколько отличавшейся от традиционной схемы данной дисциплины.
Следуя собственной логике разумного обоснования истинности православной христианской веры, С. С. Глаголев при проведении своих фундаментально-теологических исследований особое внимание уделил проблематике истории религий, философии религии и взаимоотношения богословия и естественнонаучного знания. При этом если тематика исторического изучения религий со времени еп. Хрисанфа (Ретивцева) стала в отечественном основном богословии неотъемлемой частью его второго раздела — «Об Откровении» (здесь Глаголев в целом следует уже сложившейся традиции), то вопросы философского осмысления феномена религии и отношения ее к эмпирической науке, прежде входившие в первый раздел дисциплины — «О религии», в системе С. С. Глаголева приобретают статус специальных разделов. Таким образом, вместо четырех традиционных разделов система основного богословия С. С. Глаголева представлена пятью частями: 1) О религии; 2) Религия в ее исторических формах; 3) Философия религии; 4) Об истинности христианства и о Церкви; 5) Христианство и антихристианские учения нашего времени.
Также к отличительным особенностям системы С. С. Глаголева можно отнести то, что раздел «Об Откровении» в той его части, где речь идет об обосновании истинности христианства, объединен с разделом о Церкви, а раздел «О принципах богословского знания», или «Вера и разум», как специальный в ней не представлен, хотя тематика его и разрабатывалась автором в некоторых научных публикациях.
Сборник «Из чтений о религии», содержащий практически все разделы академического курса лекций С. С. Глаголева, можно считать наиболее полно отображающим разработанную автором систему основного богословия. Исключением является раздел «О Церкви», который представлен в данном сборнике только в виде отдельной темы, завершающей раздел, посвященный историческому изучению религий. Как полноценный раздел дисциплины он появился в программе лекций С. С. Глаголева несколько позже выхода сборника, после введения Устава 1910 г., и, можно предположить, содержательно во многом был основан на выводах докторской диссертации автора.
За сочинение «Из чтений о религии» С. С. Глаголев, также как и за свою докторскую диссертацию, был удостоен Макарьевской премии (От Учебного комитета, 1908, 183).
Отзывы современников о С. С. Глаголеве
В сохранившемся в Российском государственном историческом архиве отзыве на данный труд профессора Казанской духовной академии М. А. Машанова (1852– 1924) (РГИА: Машанов, 1905. Л. 98-140 об.) отмечается, что своим содержанием сочинение проф. Глаголева «обнимает собой почти все предметы, которые входят обычно в курс христианской апологетики… и представляет скорее энциклопедический словарь по апологетике христианства, чем органически целостное исследование» (РГИА: Ма-шанов , 1905. Л. 99). Поскольку «каждая религия, каждый философский взгляд у автора представлен в виде отдельной краткой статьи, имеющей самостоятельное значение, но не значение звена в общей цепи предмета исследования» (РГИА: Машанов , 1905. Л. 99), автор отзыва характеризует сочинение С. С. Глаголева скорее как сборник, механически объединяющий ранее опубликованные статьи в четыре неодинаковых как по объему, так и по основательности исследования и научной ценности раздела (РГИА: Машанов, 1905. Л. 99-100). Так, например, рецензент указывает на то, что параграф «Христианство», по своему предмету обнимающий существенные черты почти всей христианской апологетики, написан проф. Глаголевым «как-то слегка». Между тем данная глава, по мнению рецензента, могла бы получить вполне научный характер и иметь большую убедительность, если бы автор обосновал ее как результат предшествующего исторического обзора естественных религий, а не представил как самостоятельную статью, не имеющую почти никакого отношения к предшествующему основательно проведенному исследованию (РГИА: Машанов , 1905. Л. 101).
В целом, проф. М. А. Машанов сожалеет о том, что собранные в рецензируемом им сочинении ранее опубликованные статьи «не были подвергнуты автором такой переработке, чтобы из них получилось нечто целое органически связанное» (РГИА: Ма-шанов , 1905. Л. 112). Поэтому, соглашаясь с мнением профессора КазДА, мы не можем считать сборник «Из чтений о религии» полноценным учебным изданием, несмотря на то что представленная в нем фундаментально-теологическая тематика во многом соответствовала программе академического курса лекций С. С. Глаголева.
Протоиерей Павел Светлов, профессор основного богословия Киевского императорского университета, по обыкновению весьма критически рассматривавший современные ему апологетические сочинения, дает восторженную характеристику докторской диссертации С. С. Глаголева, называя ее выдающимся по своему достоинству апологетическим сочинением (см.: [Светлов, 1903, 375]). По его мнению, труд проф. Глаголева выгодно отличается от большинства отечественных апологетических исследований тем, что его автор обнаруживает широкое и основательное знакомство с современным естествознанием и «является перед нами хозяином, способным не только быть посредником между богословием и наукой, но и вносит поправки в те или иные господствующие научные понятия или в то, что выдают за науку, пользуясь незнанием ее» [Светлов, 1903, 375].
Также прот. Павел Светлов отмечает, что «в обеих частях своего исследования автор стоит на высоте современной научной литературы тех разнообразных предметов, которых касается его сочинение, и везде дает свежие и верные научнофактические сведения» [Светлов, 1903, 375], при этом «в сочинении проф. Глаголева мы имеем дело не с мертвой самодовлеющей ученостью, ничего не говорящим уму и сердцу читателей механическим нагромождением знаний, а с того рода ученостью, где знания одухотворены высоко-настроенной и глубоко-прочувствованной православной богословской мыслью и служат послушным орудием ее» [Светлов, 1903, 476].
По мнению прот. Павла Светлова, положительное значение и ценность диссертации С. С. Глаголева для отечественной апологетической науки и духовного просвещения обуславливается еще и тем, что она не есть только апологетическая монография, посвященная разработке одного специального вопроса, как считал сам автор, но представляет собой определенного рода введение в православное богословие, научное оправдание христианства не в одной какой-либо истине, а в его целом, как теистического мировоззрения (см.: [Светлов, 1903, 483-484]). Поэтому с появлением апологетики С. С. Глаголева русская апологетическая литература, несомненно, обогатилась крупным и самобытным сочинением, которое имеет право на одно из самых почетных в ней мест (см.: [Светлов, 1903, 484, 487]).
Экстраординарный профессор по кафедре патристики Московской духовной академии И. В. Попов (1867-1938)7, один из официальных оппонентов докторской диссертации С. С. Глаголева, приводя в своем отзыве немало критических замечаний, все же дает общую положительную оценку сочинению, которое называет «целым кругом христианской апологетики», могущим быть хорошим пособием для преподавателей семинарий (см.: (Журналы Совета, 1902, 43, 45)). В числе достоинств работы проф. Попов отмечает то, что ее автор, во-первых, проявил выдающееся знание текста Св. Писания, своеобразность и оригинальность его понимания, остроумие и находчивость в сближении таких библейских данных, которые с первого взгляда представляются совершенно чуждыми друг другу; во-вторых, хорошо знаком с естественными науками и умеет пользоваться ими для целей апологетики; в-третьих, не столько опровергает мнения противников христианства, сколько излагает и философски обосновывает положительное учение Церкви, обнаруживая этим наличие целостного и стройного миросозерцания (см.: (Журналы Совета, 1902, 44–45)).
Второй официальный оппонент диссертации, экстраординарный профессор по кафедре Священного Писания Ветхого Завета В. Н. Мышцын (1866–1936) отмечает, что полное фактов и положительных выводов сочинение С. С. Глаголева на каждой странице дает нечто новое, свежее и положительное. Постоянные экскурсы автора в область разнообразнейших естественных наук и истории свидетельствуют о его громадной начитанности и редком для богослова знакомстве с наукой вообще в ее теперешнем виде. «Свои доводы и аргументы автор не выуживает из случайных книг, неизвестно кем и когда написанных, не справляясь с судьбой этих аргументов в настоящее время. Нет, он свободно распоряжается фактами, как посвященный в тайны науки. Это богатство, разнообразие и свежесть научного материала составляет главное, весьма ценное достоинство книги г. Глаголева. Другое бесспорное ее достоинство, это — чрезвычайно живое, захватывающее, по местам блестящее изложение» (Журналы Совета, 1902, 24).
Отметим, что докторская диссертация С. С. Глаголева не утратила своей актуальности и для современных исследований в области основного богословия. В нынешнюю эпоху политкорректности, когда, начиная с последней четверти XX в. в западном мире была осуществлена «переоценка всех ценностей» и «стало считаться противоестественным предполагать не только, что есть одна истинная религия, но даже что какая-либо из них может быть хоть немного истиннее какой-либо другой» [Шохин, 2018, 184], религиозный эксклюзивизм С. С Глаголева, которого он придерживался и который философски обосновывал в своем сочинении, приобретает особое апологетическое значение.
Предложенный С. С. Глаголевым эксклюзивистский модус отношения к «религиозному другому» ни в коей мере нельзя считать безоглядным, основанным на духовным эгоизме и высокомерии, а также оправдывающим религиозную нетерпимость и насилие. В рамках эксклюзивизма проф. Глаголева, объединяющего в себе требования логического мышления («закон исключенного третьего») и новозаветное учение (Сам Иисус говорит о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь; и никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6)), утверждается, что никто не лишен возможности познания Бога, а также вполне допускается законность «разных точек отправления» к единому Пути. Такой эксклюзивизм, согласно классификации В. К. Шохина, скорее можно назвать дифференцированным или контекстуальным, но он, однако, неприемлем или сильно мешает тем, кто называет себя религиозными плюралистами, настаивающими на равенстве религий. Между тем сама теология плюрализма, основывающаяся на принципе эволюции религиозных взглядов и требующая от христианства «перевоспитания» и отказа от своей идентичности, как это ни парадоксально, становится своего рода религией со своим эксклюзивизмом (подр. см.: [Шохин, 2018, 188]).
Что касается разработанной в докторской диссертации С. С. Глаголева новой формы космологического доказательства, то, по мнению И. Оренбургского (автора специального исследования, посвященного проблематике доказательств бытия Божия в русской богословско-философской литературе того времени), предложенная профессором форма доказательства не является безупречной и может иметь лишь условную ценность. Прежде всего, «доказательство страдает односторонностью, оно дает нам понятие только об онтологических свойствах первопричины, но вовсе почти не говорит об ее идеальных духовных свойствах… оно предполагает реальное значение категории причинности, ее господства не только в области феноменального бытия, но и вещей в себе, с другой стороны, предполагает некоторую познаваемость сущности вещей» [Оренбургский, 1909, 754]. Другими словами, предполагаемое и требуемое в доказательстве распространение категории причинности на вещи-в-себе, что указывает на некоторую познавательность их сущности, остается у Глаголева недоказанным.
Можно предположить, что это слабое место космологического доказательства, пожалуй, навсегда останется непреодолимым, потому что заключается в вере в объективное значение закона причинности и возможности богопознания, когда прежде самого доказательства предполагается вера в существование трансцендентного мира. Однако заслугой С. С. Глаголева для отечественного основного богословия можно считать то, что он указал на саму возможность научной формулировки космологического доказательства после его критики Кантом.
В целом данное сочинение С. С. Глаголева можно считать одним из самых удачных опытов фундаментально-теологических исследований синодальной эпохи, наглядно демонстрирующим интегративный характер дисциплины, когда знания из других сфер науки умело используются автором для решения ее главной задачи — обоснования истинности православной христианской веры.
Заслуженный ординарный профессор МДА М. Д. Муретов (1851–1917) в своем отзыве на «Пособие к изучению Основного богословия» С. С. Глаголева указывает, что данное сочинение обнаруживает энциклопедическую ученость автора в богословии, философии, науках исторических и естественных, а также свидетельствует о глубине его богословских созерцаний. Наиболее выдающимися качествами данного труда проф. Муретов считает, во-первых, ясность и отчетливость в постановке трактуемых вопросов, основательность опровержения противохристианских теорий и убедительность апологии христианства; во-вторых, оригинальность некоторых объяснений и предположений в целях защиты истины Христовой; в-третьих, краткость, ясность и увлекательность изложения (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 66). В целом же, по мнению М. Д. Муретова, «главенствующим и наиболее характерным достоинством всех вообще работ проф. Глаголева должно признать то, что они служат гранью или звеном, соединяющим религиозно-богословские области созерцания и разумения с науками естественными или экспериментальными, т. е. веру с разумом или знанием» (ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5047. Л. 66).
Заключение
В заключение отметим, что богатое научное наследие, создание собственной системы основного богословия (хотя и не сведенной воедино), международное признание как специалиста в области изучения религии по праву позволяют считать проф. С. С. Глаголева одним из наиболее ярких представителей отечественного духовно-академического основного богословия синодального периода. Феномен его успеха в данной области теологического знания может быть объяснен как его личными качествами (талантом преподавателя, неутомимым усердием ученого), так и фактом формирования его предшественниками по Московской духовной академии теоретической базы8, позволившей С. С. Глаголеву получить необходимую специальную подготовку для проведения плодотворных научных исследований и осуществления высококвалифицированной преподавательской деятельности.