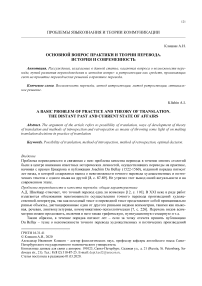Основной вопрос практики и теории перевода. История и современность
Автор: Клишин Александр Иванович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Проблемы языкознания и теории коммуникации
Статья в выпуске: 3 (123), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассуждения, излагаемые в данной статье, касаются вопроса о возможности перевода, путей развития переводоведения и методов интро- и ретроспекции как средств, проливающих свет на принятие переводческих решений в практике перевода.
Возможность перевода, метод интроспекции, метод ретроспекции, оптимальное решение
Короткий адрес: https://sciup.org/148320163
IDR: 148320163
Текст научной статьи Основной вопрос практики и теории перевода. История и современность
Проблема переводимости и связанная с нею проблема качества перевода в течение многих столетий были в центре внимания известных исторических личностей, осуществлявших переводы на практике, начиная с времен Цицерона и публикации Joachim Du Bellay (1522-1560), изданной порядка пятисот лет назад, в которой содержится вывод о невозможности точного перевода художественных и поэтических текстов с одного языка на другой [8, с. 87-89]. Не утратил этот вывод своей актуальности и на современном этапе.
Проблемы переводимости и качества перевода: общая характеристика
А.Д. Швейцер отмечает, что точный перевод едва ли возможен [12, c. 110]. В XXI веке в ряде работ излагаются обоснования невозможности осуществления точного перевода произведений художественной литературы, так как исходный текст и переводной текст представляют собой принципиально разные объекты, дистанцированные один от другого разными видами асимметрии, такими как языковая, речевая, лингвокультурная, коммуникативно-психологическая [7, c. 226]. Перечень видов асимметрии можно продолжить, включив в него также графическую, пунктуационную гендерную и т.д.
Таким образом, в течение порядка пятисот лет – если за точку отсчета принять публикацию Du Bellay – тезис о невозможности точного перевода художественных и поэтических произведений
ГРНТИ 16.31.41
Александр Иванович Клишин – доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Статья поступила в редакцию 01.03.2020.
не утрачивал своей актуальности. В этой связи примечательным представляется наблюдение О.И. Костиковой о том, что «С момента возникновения перевода до настоящего времени переводчики решают аналогичные задачи, споря об одних и тех же проблемах» [9, c. 15].
Что касается современной научной мысли, то она добыла лишь научно обоснованные доказательства, подтверждающие тезис, сформулированный почти пять веков тому назад. Так, Ю. Лотман пишет, что возможность перевода некоторого текста с языка моего «я» на язык твоего «ты» обусловлена лишь частичным пересечением кодов участников коммуникации, а это предполагает потерю части сообщения, и «я» подвергается трансформации в ходе перевода на язык «ты» [10, c. 653]. Такое определение носит достаточно общий характер, однако оно предполагает наличие некой сферы ментальной деятельности в сознании переводчика, в пределах которой и происходит осуществление перевода с языка моего «я» на язык твоего «ты».
Отдельные современные исследователи изучают данный вопрос через призму нейропсихолингвистики. Так, согласно выводам автора одной докторской диссертации, о «точном» в математическом смысле слова переводе не может быть речи, поскольку «любой смысл, вкладываемый во внешнюю речь, – это … прошедшая через когнитивные структуры значимость – значимость, которая не может быть тождественной у двух индивидов внутри одной культуры, не говоря об интеркультуре» [5, c. 253]. Автор, основываясь на нейропсихолингвистике, отмечает далее, что тождество при переводе возможно только при идентичной активации нейронных соединений в сознании отправителя и получателя сообщения, а это достижимо только в вымышленном мире [5, c. 303].
В теоретической литературе по переводоведению иногда можно встретить словосочетание «черный ящик», благодаря которому переводчиком осуществляются переводы, многие из которых признаны верхом совершенства переводческого мастерства. Заслуживают изучения с точки зрения практики и теории перевода переводные произведения В.М. Топер (1890-1964), С.Я. Маршака (1887-1964), И.Ф. Анненского (1856-1909), Б.Л. Пастернака (1890-1960), Р.Я. Райт-Ковалевой (1898-1998).
Следует также назвать имя английской переводчицы произведений русской классической литературы – Констанс Гарнетт (1862-1946). Благодаря ей англоязычные страны познакомились с произведениями В.Г. Короленко, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. Возвращаясь к имени В.М. Топер, следует привести оценку ее перевода романа Э. Хэмингуэя «Фиеста» Норой Галь: « Сегодня каждая строка романа в русском переводе кажется такой естественной, что, пожалуй, подумаешь: да ведь это само собой разумеется, иначе и сказать нельзя» [4, с. 55]. Механизм принятия переводческих решений
Представляется, что основным вопросом теории и практики перевода является то, КАК осуществляются переводы-шедевры. Успешность выполненного перевода определяется адекватной, реалистичной, полноценной и т.д. передачей слов, словосочетаний, предложений, сверхфразовых единств и текста оригинала в целом средствами языка перевода, а все это зависит от принятия переводческих решений. Таким образом, исследование практики принятия переводческих решений способно пролить определенный свет на процессы, протекающие в ходе перевода в так называемом черном ящике переводчика, или его профессиональном сознании.
По нашему мнению, исследование такого рода может проводиться за счет применения двух методов, а именно, интроспективного и ретроспективного. Метод интроспекции (от латинского introspecto – смотрю внутрь), то есть, самонаблюдения [1, с. 343] представляет собой сознательное фиксирование переводчиком хода своих рассуждений в процессе выработки им переводческого решения, касающегося передачи на языке перевода слова, словосочетания и т.д. оригинала.
На наш взгляд, принятие переводческого решения является важнейшей составляющей процесса перевода, так как именно удачные переводческие решения определяют степень качества перевода, как результата деятельности переводчика. Ниже предлагается описание возможного алгоритма выработки переводческого решения с использованием метода интроспекции. Такой алгоритм может быть представлен в виде ряда следующих шагов:
-
1. Концентрация внимания на фрагменте (слове, словосочетании и т.д.) переводимого текста;
-
2. Выстраивание совокупности лексических средств языка перевода для передачи избранного фрагмента переводимого текста на языке перевода. Такая совокупность выстраивается за счет собственного словарного запаса переводчика и использования словарных источников;
-
3. Оценка степени пригодности каждого лексического средства языка перевода путем анализа микро-, макроконтекста переводимого произведения, а также собственных фоновых знаний;
-
4. Выбор лексического средства языка перевода, которое, с точки зрения переводчика, способно со значительной степенью адекватности выразить коммуникативную интенцию отправителя информации, то есть автора переводимого произведения, и произвести соответствующий коммуникативный эффект на получателя.
Проиллюстрируем процедуру принятия переводческого решения на конкретном примере.
I took five minutes to shake down the place but wasted each minute [14, p. 168]. Предположим, что внимание переводчика сосредоточено на передаче средствами русского языка глагола to shake down. Основные значения данного глагола – вымогать деньги путем угроз и тщательно искать. Так как микроконтекстными показателями являются словосочетания five minutes и существительное the place, указывающие на ограниченный отрезок времени и некое физическое пространство, то переводчик однозначно останавливает выбор на втором приведенном выше значении.
Разветвленная система флексий русского языка предлагает следующую морфологическую парадигму глагола искать – обыскивать, производить обыск, отыскивать, вести поиск, разыскивать. В словаре И.Р. Гальперина содержится также и синоним обшаривать [3, c. 409] . Такой достаточно широкий выбор лексических средств русского языка может быть дополнен за счет фоновых знаний переводчика глаголом сниженного разговорного стиля (об)шмонать , используемым в криминальных кругах. Перед переводчиком возникает проблема выбора из выявленного репертуара лексических средств оптимального варианта.
Решая данную проблему, переводчик оценивает степень пригодности каждого варианта. Глаголы обыскивать и производить обыск не соответствуют макроконтексту произведения в целом. Персонаж, о котором идет речь в произведении, является агентом спецслужбы, действующим без прикрытия, у которого, естественно, нет ордера на осуществление данных действий. Глагол отыскивать противоречит контексту предложения, поскольку результаты поиска ни к чему не привели. Глаголы вести поиск и разыскивать также неприемлемы, так как контекст предложения свидетельствует о том, что поиск, длившийся пять минут, завершен. Неприемлем также и глагол (об)шмонать , используемый в криминальной среде, к которым данный персонаж не принадлежал. Таким образом, наиболее рациональным представляется выбор глагола обшарить , относящегося к разговорному стилю и указывающему на тщательность поиска, предпринятого неофициально и по собственной инициативе. В словаре Longman дефиниция одного из значений глагола to shake down содержит компонент thoroughly – тщательным образом [13, p. 1406]. Учитывая все сказанное выше, перевод анализируемого предложения можно представить в следующей форме: За пять минут я обшарил все помещение, однако это было потерянное время.
Обратимся к обсуждению метода ретроспекции (от латинского retro – назад и specio – смотрю) [2, c. 53]. В современном переводоведении имеются публикации, затрагивающие применение данного метода, впрочем, он не называется при этом ретроспективным. Речь в таких публикациях идет о соотношении формы и содержания подлинника или оригинального текста с формой и содержанием его перевода или переводов. Среди сравнительно недавних работ на данную тему можно назвать публикацию Н.М. Димитровой, в которой выделяется четыре типа соотношения, а именно [6, c. 167]:
-
1. Сглаживание, обезличивание своеобразия подлинника в соответствии с требованиями определенного литературного направления и литературной нормы языка перевода;
-
2. Точное воспроизведение отдельных частей подлинника вопреки требованиям языка перевода;
-
3. Искажение своеобразия языка подлинника вопреки требованиям языка перевода; искажение своеобразия подлинника за счет произвольной замены переводчиком одних особенностей оригинала другими;
-
4. Полноценная передача своеобразия подлинника и требований языка перевода.
Иначе говоря, первый тип соотношения укладывается в рамки подхода, именуемого термином «доместикация», второй тип – «форенизация», третий тип может относиться к так называемому «вольному переводу» или «украшательному», идейным вдохновителем которого был Вольтер. Что касается четвертого типа, то – как дипломатично указывает А.Д. Швейцер – это далеко не всегда достижимый идеал [12, c. 110].
Независимо от стратегии, выбранной переводчиком, приоритетная роль, как представляется, отводится принятию переводческого решения, направленного на передачу на языке перевода какого-либо отрезка исходного текста. Естественно, что переводческие решения в обобщенном плане можно разграничить на «более оптимальные», передающие, как говорил В.Гумбольдт, дух оригинального текста, и «менее оптимальные». В данном случае условимся считать, что «степень оптимальности» определяется специалистами в области практики и теории перевода.
Покажем применение ретроспективного метода на примере перевода отдельных отрезков повести Дж. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», переводчиками М. Салье, М. Донским, Э. Линецкой, М. Силантьевым. Анализ переводческих решений и комментарии принадлежат московскому лингвисту Н.К. Цыбе [11, c. 425-435].
Одной из самых значительных трудностей, возникающих у переводчика, является передача комического эффекта на языке перевода. В указанном произведении повествование идет о путешествии трех лондонских аристократов. Один из них ради времяпрепровождения пролистывает медицинский справочник и обнаруживает у себя признаки всех болезней кроме одной, а именно, housemade̕ knee. А. Салье переводит это словосочетание, воспользовавшись его словарным значением, содержащимся в медицинском словаре – воспаление сумки подколенника. В этом случае, как комментирует Н.К. Цыба, теряется комический эффект, который, как известно, должен развеселить русскоязычного читателя.
Такой же вариант перевода избран М. Силантьевым. В обоих случаях, как пишет Н.К. Цыба, такой перевод вызывает не смех, а недоумение читателя [11, c. 427]. Таким образом, переводческое решение, принятое указанными переводчиками, нельзя признать оптимальным, точное воспроизведение данного отрезка текста на языке перевода не оправдало себя. Вместе с тем, у британского читателя название этой болезни, отсутствующей у персонажа произведения, способно вызвать улыбку. Дело в том, как далее комментирует Н.К. Цыба, что такая болезнь в прошлом могла возникнуть у горничных, которые мыли каменные полы в замках стоя на коленях, что и вызывало этот недуг.
Естественно, что такая болезнь и не могла появиться у обеспеченного аристократа. Оптимальным признается вариант перевода, выбранный М. Донским и Э. Линецкой, которые «заменили» ради достижения комического эффекта название одного болезненного состояния на другое – родильную горячку [11, c. 426]. Однако в этом случае речь идет о третьем типе соотношения между оригиналом и переводом – искажении своеобразия подлинника за счет замены переводчиком одних особенностей оригинала другими. Тем не менее, в результате такого отклонения от текста оригинала переводчикам удалось передать комический эффект. Таким образом, коммуникативная установка переводчиков оправдывает себя.
Ретроспективный метод предполагает отбор минимум двух переводных текстов одного и того же исходного текста. Оба перевода – если остановить выбор на таком количестве – разделены временной дистанцией разной протяженности, начиная, возможно, от нескольких лет и до целых столетий. При сопоставлении переводов, выполненных в разные периоды, необходимо учитывать конвенциальную норму перевода, которая варьирует от эпохи к эпохе.
Так, в 386-406 годах (перевод Библии, выполненный Иеронимом Стридонским) и в средневековье, охватывающем период с 1100 до 1500 гг., преобладала тенденция дословного перевода. В эпоху классицизма – с XVII до начала XVIII века доминировал вольный перевод. Следует также указать на идею «украшательного перевода», которой следовали переводчики во Франции в XVIII веке, вносившие по своему усмотрению изменения в свои переводы, сознательно опуская отдельные фрагменты переводимого текста.
В России того же века проявлялась тенденция русификации текста в переводе. В настоящее время утвердилась новая норма перевода, согласно которой выдвинуто требование максимальной близости переводного текста исходному тексту, как в целом, так и в отдельных деталях. Максимальное соответствие переводного текста исходному тексту может быть достигнуто, по нашему мнению, именно за счет оптимальных переводческих решений.
Заключение
Подводя итог, следует указать, что применение методов интроспекции и ретроспекции способно в той или иной мере прояснить представление о том, что представляет собой перевод как процесс принятия переводческих решений. Исследования этого важного вопроса могут внести существенный вклад в дальнейшее развитие теории перевода и методику подготовки специалистов в области практики перевода.
Список литературы Основной вопрос практики и теории перевода. История и современность
- Большая советская энциклопедия. Т. 10. М., 1972.
- Большая советская энциклопедия. Т. 22. М., 1975.
- Гальперин И.Р. Большой англо-русский словарь. М., 1979. Т. 2, M-Z.
- Галь Н. Слово живое и мертвое: от "Маленького принца" до "Короля дураков". М., 2001. 368 с.
- Дашинимаева П.П. Теория значимости как основа психонейролингвистической концепции непереводимости: дисс. … д-ра филологических наук. Улан-Удэ, 2010.