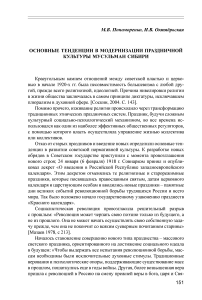Основные тенденции в модернизации праздничной культуры мусульман Сибири
Автор: Пономоренко М.В., Октябрьская И.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521274
IDR: 14521274
Текст статьи Основные тенденции в модернизации праздничной культуры мусульман Сибири
Краеугольным камнем отношений между советской властью и церковью в начале 1920-х гг. была несовместимость большевизма с любой другой, прежде всего религиозной, идеологией. Причина нивелировки религии в жизни общества заключалась в самом принципе диктатуры, исключавшем плюрализм в духовной сфере. [Соскин, 2004. С. 143].
Помимо прочего, изживание религии происходило через трансформацию традиционных этнических праздничных систем. Праздник, будучи сложным культурный социально-психологический механизмом, во все времена использовался как один из наиболее эффективных общественных регуляторов, с помощью которого власть осуществляла управление жизнью коллектива или коллективов.
Отказ от старых праздников и введение новых определили основные тенденции в развитии советской нормативной культуры. К разработке новых обрядов в Советском государстве приступили с момента провозглашения нового строя; 24 января (6 февраля) 1918 г. Совнарком принял и опубликовал декрет «О введении в Российской Республике западноевропейского календаря». Этим декретом отменялись те религиозные и старорежимные праздники, которые посвящались православным святым, датам церковного календаря и царствующим особам и вводились новые праздники – памятные дни великих событий революционной борьбы трудящихся России и всего мира. Так было положено начало государственному узаконению празднеств «Красного календаря».
Социалистическая революция провозгласила решительный разрыв с прошлым: «Революция может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины» [Мазаев 1978, с 213].
Началось становление совершенно нового типа празднества – массового светского праздника, ориентированного на достижение социального идеала в будущем: «Чтобы выдержать все испытания революционной борьбы, массам необходимы были исключительные духовные стимулы. Традиционные верования и психологические опоры, поддерживающие существование масс в прошлом, пошатнулись еще в годы войны. Другая, более возвышенная вера пришла с революцией в Россию на смену прежней веры в бога, царя и Свя- тую Русь. Это была идея социальной справедливости, равенства и свободы, внесенная партией большевиков в сознание масс» [Мазаев, 1978, с. 246].
Новая власть стимулировала распад единого и целостного феномена традиционной праздничности, соединяющей прошлое и настоящее, личность и общество, религию, игру и социальную акцентированность, на две противоположные области: с одной стороны – полное огосударствление праздника, превращение его в официально-парадное торжество, с другой – «обытовле-ние» праздника, что означало уход этой формы культуры в интимную сферу исключительно домашнего быта.
Из культуры стал исчезать массовый народный (этнически и религиозно значимый) праздник. Советской власти предстояла сложная задача модернизации национальных традиций. Чрезвычайно остро эта проблема стояла в отношении тех тюркских народов, которые формировались под сильным влиянием ислама.
К началу XX в. национальное самосознание ряда сибирских народов – прежде всего татар – приняло этноконфессиональную окраску. Ислам стал восприниматься как едва ли не главный этнический признак, вследствие чего в начале XX в. этноним «татары» стал отождествляться с понятием «мусульманин» [Шерстова, 1999. С. 373-383]. С целью модернизации традиционных нормативных практик партийные органы ЦК РКП (б) инициировали активную агитационную деятельность среди мусульманского населения Сибири.
В начале 1920-х гг. на постоянную работу в Сибирский регион было направлено значительное количество партийных работников, перед которыми была поставлена задача: обратившись к самосознанию тюрков найти в нем идею, способную послужить платформой для их объединения при нивелировке религиозного фактора. Для осуществления поставленных задач при губернских комитетах был создан отдел национальных меньшинств, включивший в себя татаро-киргизскую секцию.
Развернувшаяся пропаганда была направленная на дискредитацию ислама. Она воплощалась в антирелигиозные кампании, которые были приурочены к постам и праздникам мусульманского календаря. Впервые «Комсомольский Байрам» – месячник «ознакомления членов РКСМ татаро-башкир и не союзной молодежи с сущностью и происхождением религии ислам» был проведен в 1923 г. [ЦХАФ АК, Ф. П-2, Оп.1, Д. 298, л.35].
Все вообще советские празднества противопоставлялись тогда еще очень живым традициям культуры, пронизанной религиозным содержанием. Антирелигиозная агитационная функция в создании новых праздничных норм выступала в качестве главной и определяющей. Антитеза старого и нового как противопоставление религиозности и социалистической идеологии нашла свое отражение в программных документах советской власти, политика которой была направлена на искоренение ислама в среде тюркского населения Сибири.
Так, в «Примерном плане работ по проведению антирелигиозного праздника Комсомол-Гайт», направленном ЦК РКСМ в виде циркуляра
(18/VII 1924г.) в Барнаул Алтайскому Губкому говорилось: «Лозунгами праздника являются в городах и рабочих районах: «Против религиозного дурмана, против суеверий, против духовной школы, за знание, за овладе-вание молодежью наукой, за поднятие ее квалификации, за новый быт». В деревнях: «Против слепой веры, суеверий, за знание, за ликвидацию сельскохозяйственной безграмотности, за грамоту и школу». [ЦХАФ АК, Ф. 9, Оп. 5, Д.50, л.9].
В тезисах к докладу «Антирелигиозная пропаганда» (автор- тов. Батыров), представленных во время Томского губсовещания татработников РКП и РКСМ 1923 г., отмечалось, что «РКП… неуклонно стремится к освобождению трудящихся масс от духовного порабощения – от влияния религий и верований», а также подчеркивалось, что «наши пропагандисты безбо-жества знанием самой религии должны доказать татаро-башкирским массам бессмысленность, бессодержательность, бесполезность использования в жизни религии». Кроме того, «распространение естествознания среди крестьянства является основной задачей татчленов РКП и РКСМ в деревне», т.к. «ссылка крестьянских масс на божественность («кару за грехи людей») при стихийных бедствиях (засуха, неурожай, градобитие хлеба, появление вредителей и др.) объясняется невежеством и непониманием природных явлений». В общем, «антирелигиозная пропаганда должна вестись под углом распространения естественнонаучных знаний и побуждения к материалистическому взгляду на жизнь и явлений окружающей нас природы». [ЦДНИ ТО, Ф.1, Оп.1, д.1523, л.38].
В 1928г. АПО ЦК ВЛКСМ по регионам России и Сибири была разослана копия директивы ЦК ЛКСМ Узбекистана «Как провести борьбу с религией во время Рузы «Байрама» как пример того, как следует подходить к антирелигиозной работе, исходя из хозяйственных и культурно-бытовых особенностей отдельных народов: «Основными лозунгами для этого периода должны явиться: «На борьбу против религии и духовенства»; «Против религиозных обрядов, против Рузы Байрама»; «Комсомолец не поститься, не носит фитри Рузы, не молиться и призывает к этому своих товарищей»; «За науку, за знания, за радио, электричество, трактор, за книгу, против суеверия, темноты и невежества». [ЦДНИ ТО, Ф. 78, Оп.1, Д. 371, л.16].
В одном из пунктов подготовительной работы по проведению антирелигиозного праздника «Курбан-Байрам» в Барнауле (18/VII 1924г.) рекомендовалось «При возможности, изготовить карикатуры следующего содержания: а) старая школа, рядом с ней мечеть. Из школы выходят к жизни неспособные люди-фанатики. б) Новая школа, рядом с ней клуб, библиотека. Из них выходят жизнеспособные: инженеры, агрономы, педагоги, врачи». [ЦХАФ АК, Ф. 9, Оп. 5, Д.50, л. 10].
Шел процесс построения системы советских праздников, костяк которой составляли революционные праздники: 1 Мая, годовщина Октябрьской социалистической революции, День Красной армии. В 1924г. всем организациям РКСМ и секциям национальных меньшинств было разослано указание по проведению Первомайского праздника следующего содержания: «1. Праздник мирового пролетариата, праздник борьбы рабочего класса с капитализмом – 1 мая в Сибири, как части СССР, где трудящиеся национальные меньшинства, освободившиеся от национального гнета, проходит под лозунгами, связанными с заветами В.И. Ленина: «Долой национально-религиозные праздники», «Да здравствует интернационал и революционные праздники» и «Объединение трудящихся всего мира под знаменем III Коминтерна»... Классовый принцип объединения трудящихся масс всех народов должен быть противопоставлен национально-клерикальному объединению, сбрасывая маски националистов, стремящихся затушевать классовые противоречивые интересы великих и малых национальностей. 3.Первое мая в этом году совпадает с мусульманским религиозным праздником «Кадер-Кичаси» и накануне Байрама «Рамазан Гай-ди». Поэтому наряду с освещением возникновения и истории интернационального праздника Первое мая среди тат-киргиз молодежи и вообще трудящихся тат-киргиз, необходимо дать научное объяснение происхождения религиозных праздников и о преследуемых целях всевозможных «священных дней, праздников». Кроме того, было необходимо «вовлечь всю молодежь национальных меньшинств в проведение партией первомайских мероприятий. Национальные группы демонстрантов должны участвовать отдельными колоннами со специально приготовленными плакатами-лозунгами на национальных языках»… такими как: «Трудящаяся молодежь Советского союза надежный отряд Коминтерна и Советской Республики; Трудящаяся молодежь национальных меньшинств идет под знаменем братского единения пролетариев всего мира; В первомайский праздник шлем привет угнетенным братьям Востока; Наше знамя – III Коммунистический Интернационал; Красная молодежь Востока борется за освобождение угнетенных капитализмом трудящихся всех стран за мировой Союз Советских Республик; Красная молодежь Востока борется под знаменем Коминтерна молодежи». [ГАНО, Фонд п-2, опись 1, дело №357, лл. 117-119].