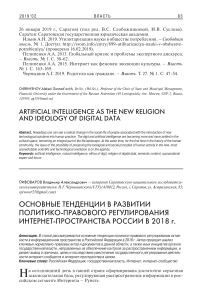Основные тенденции в развитии политико-правового регулирования интернет-пространства России в 2018 г
Автор: Пивоваров Владимир Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные тенденции политико-правового регулирования активности в информационном пространстве в Российской Федерации в 2018 г. Автор проводит анализ ключевых нормативно-правовых актов и документов в данной области, а также иных инициатив органов государственной власти, направленных на обеспечение контроля за распространением информации и делает вывод о причинах, целях и последствиях ужесточения государственного регулирования деятельности интернет-сообществ и интернет-пространства в целом.
Российская федерация, государственная власть, интернет, интернет-сообщество
Короткий адрес: https://sciup.org/170170921
IDR: 170170921 | DOI: 10.31171/vlast.v27i2.6302
Текст научной статьи Основные тенденции в развитии политико-правового регулирования интернет-пространства России в 2018 г
Н а сегодняшний день в нашей стране сформирована достаточно серьезная законодательная база, регулирующая распространение информации в российском сегменте Интернета – Рунете.
Следует отметить, что в силу особой специфики объекта регулирования законодательство в информационной сфере нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании, что обусловливает динамичность и высокую частоту внесения изменений в нормативно-правовые акты.
При этом важно понимать, что данные изменения опираются на базовый в этой области документ – Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы (далее – Стратегия). Красной нитью через весь документ проходит идея необходимости совершенствования законодательного регулирования в информационной сфере. Так или иначе все изменения в законодательстве в этой сфере осуществляются с опорой на п. 24 Стратегии: «Целями формирования информационного пространства, основанного на знаниях (далее – информационное пространство знаний), являются обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении кругозора»1.
Еще в 2012 г. в контексте законодательного регулирования интернет-актив-ности был задан общий вектор, направленный на создание эффективного юридического и политического инструментария, предназначенного для установления контроля над интернет-пространством. Сегодня данный вектор остается актуальным.
В ряде случаев такие инициативы представляются особенно актуальными и востребованными обществом. Так, отличительной чертой любого демократического государства является необходимость защиты подрастающего поколения своих граждан от непроверенной, спорной, а порой и вовсе опасной информации. Наличие этой объективной потребности стало причиной принятия 18 декабря 2018 г. федерального закона, в соответствии с которым были внесены изменения в федеральные законы «Об информации» и «О защите детей от вредной информации»2. Был значительно расширен перечень запрещенных для распространения среди детей видов информации. Более того, теперь блокировке подлежат не только сами информационные ресурсы, распространяющие вредоносную информацию, например нацеленную на привлечение лиц, не достигших 18 лет, к участию в противоправных деяниях, но и любой контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья самих детей либо других людей. Постоянное увеличение числа блогеров, интернет-медиа-издательств, занимающихся в т.ч. распространением критических воззрений на политические действия представителей российской власти, спровоцировало принятие ряда законов, предусматривающих определенную ответственность за отказ от удаления той или иной информации, способной нанести репутационный и другие виды урона тем или иным лицам.
Так, в апреле 2018 г. был принят закон о внесении изменений в федеральный закон «Об исполнительном производстве» и федеральный закон «Об информации», который наделял судебных приставов правомочием принимать решение об ограничении доступа к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица1.
В сентябре 2018 г. был принят еще один закон, в соответствии с которым были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, а также Кодекс об административных правонарушениях РФ. Изменения заключаются в ужесточении наказания за неисполнение требований решений судов, обязывающих прекратить распространение незаконной информации, и, более того, подразумевают наступление и уголовной ответственности для тех лиц, которые уже подвергались ранее административному наказанию за соответствующее правонарушение, с наказанием в форме ареста на срок до 3 месяцев или лишения свободы на срок до 2 лет2. В конце сентября 2018 г. вступил в силу закон о штрафах для поисковиков и хостеров за неисполнение закона о регулировании VPN , прокси, анонимайзеров и поисковиков. Игнорирование закона о запрете обхода блокировок3 теперь грозит операторам административной ответственностью4.
В данном контексте не лишним будет вспомнить о таких принципах информационной политики в России, обозначенных в Стратегии, как обеспечение прав граждан на доступ к информации и обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией5. На наш взгляд, рассмотренные изменения в российском законодательстве не в полной мере соответствуют названным принципам.
Комплекс законов и подзаконных актов, известный как пакет Яровой, также получил свое развитие в 2018 г. Так, пакет антитеррористических законов, принятый в июле 2016 г., обязал операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, с последующим предоставлением их при необходимости по запросу спецслужб. 1 июля 2018 г. эти нормы вступили в силу: операторы связи и интернет-компании теперь обязаны хранить весь трафик в течение полугода6.
Процесс реализации пакета Яровой уже привел к росту тарифов на все виды связи. Если принять во внимание непростую экономическую обстановку в стране, а также негативную реакцию бизнес-сообщества, простых граждан и частоту внесения изменений в данный комплекс законов и подзаконных актов, становится очевидной слабость качественной составляющей прогноза последствий, привнесенных процессом реализации пакета Яровой.
Еще одна проблема связана с уголовным преследованием интернет-пользо-вателей за репосты и лайки в социальных сетях, что вызвало в 2018 г. широкий общественный резонанс.
Данная проблема освещалась всеми российскими СМИ и была предметом дискуссии в социальных сетях в течение более полугода. Российские власти не могли не отреагировать, и уже в октябре 2018 г. президент РФ внес в Госдуму два законопроекта, подразумевавших частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»1. Так, в соответствии с внесенными по инициативе главы государства поправками, экстремистские высказывания в Интернете теперь влекут за собой административную, а не уголовную ответственность, а в КоАП была включена соответствующая статья 20.31 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»2. Уголовная же ответственность наступит только в случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года3.
Важно отметить, что названные законы о декриминализации ст. 282 УК РФ наделены обратной силой. Следовательно, все текущие уголовные дела за лайки и репосты будут рассматриваться с учетом внесенных поправок, а все вступившие в силу приговоры по ст. 282 УК РФ будут пересмотрены.
Говоря о законодательном регулировании интернет-пространства, сказать следует и о не менее нашумевшем в конце 2018 г. законопроекте, нацеленном на обеспечение безопасного и устойчивого функционирования сети Интернет на территории РФ (спонсорами законопроекта выступили члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой)4. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что акт «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». 12 февраля 2019 г. законопроект был принят Государственной думой в первом чтении: за принятие проекта закона проголосовали 334 депутата, против – 47. Среди проголосовавших против есть представители всех фракций, кроме «Единой России»5.
Важнейшая роль Интернета сегодня не столько информационная, сколько коммуникативная. Безусловно, в условиях глобальных информационных войн любому государству необходимы инструменты для эффективной защиты населения от негативного информационного влияния. Вместе с тем не стоит забывать, что, возможно, лучший метод защиты – не возведение «цифровых» защитных сооружений, но просвещение, повышение информационной грамотности населения страны.
В декабре 2018 г. А. Клишас и Л. Бокова внесли в Госдуму еще два законопроекта – № 606594-7 и № 606596-7, – устанавливающих наказание за оскорбление государственных символов и органов власти. Так, согласно данной инициативе, те пользователи, которые выражают в Интернете в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству и государственным органам, могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов или ареста на срок до 15 суток1. 24 января 2019 г. законопроект был принят Государственной думой в первом чтении и также вызвал неоднозначную реакцию общества, поскольку принятие подобного закона подразумевает ограничение возможностей выражения своей политической позиции, критики действующей власти со стороны, к примеру, политической оппозиции, что не вполне соотносится с одним из основополагающих принципов функционирования демократического государства – принципом плюрализма мнений.
Растущее влияние различных интернет-сообществ, подтверждаемое повышенным вниманием к ним со стороны властных структур, находит отражение в активизации законотворческой деятельности в этой области. Поэтому совершенно логичным было бы предположить, что в 2019 г. заданный курс, направленный на «регулирование Интернета», будет продолжен. Однако известные результаты такой информационной политики российского правительства и последствия – как социально-экономические, так и политические – представляются крайне неоднозначными.