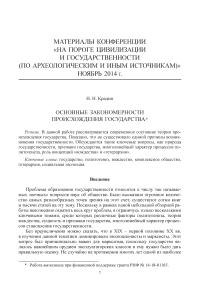Основные закономерности происхождения государства
Автор: Крадин Н.Н.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 239, 2015 года.
Бесплатный доступ
В данной работе рассматривается современное состояние теории происхождения государства. Показано, что не существовало единой причины возникновения государственности. Обсуждаются такие ключевые вопросы, как природа государственности, признаки государства, многолинейный характер процессов по-литогенеза, роль концепций «вождества» и «гетерархии»
Государство, политогенез, вождество, комплексное общество, гетерархия, социальная эволюция
Короткий адрес: https://sciup.org/14328194
IDR: 14328194
Текст научной статьи Основные закономерности происхождения государства
Проблема образования государственности относится к числу так называемых «вечных» вопросов наук об обществе. Было высказано огромное количество самых разнообразных точек зрения на этот счет, существуют сотни книг и тысячи статей на эту тему. Поскольку в рамках одной небольшой обзорной работы невозможно охватить весь круг проблем, я ограничусь только несколькими ключевыми темами, среди которых различные факторы политогенеза, теория вождества, сущность и признаки государства, многолинейный характер процессов становления государственности.
Без преувеличения можно сказать, что в XIX – первой половине ХХ вв. в изучении данной тематики доминировали эволюционисты и марксисты. Этот вопрос был принципиально важен для марксизма, поскольку государство являлось важнейшим орудием эксплуататорских классов и ему нужно было дать правильную оценку. Не случайно на протяжении многих лет одной из наиболее влиятельных работ в этой области была книга Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», написанная в 1884 г. Она оказала огромное влияние на советскую науку. Основные точки зрения, высказывавшиеся в отечественной литературе, не раз были предметом специального рассмотрения (Проблемы истории…, 1968; Становление классов…, 1976; Хазанов, 1979; От доклассовых обществ…, 1987; Куббель, 1988; Ранние формы…, 1995; и др.). Поэтому я не буду останавливаться на этом вопросе и уделю внимание его рассмотрению в зарубежной литературе. В период между двумя мировыми войнами данная проблематика еще не была особенно актуальной для зарубежных ученых. Наиболее влиятельной в указанный период была точка зрения Г. Чайлда, которая под влиянием симпатий к марксизму обозначена им как «городская революция» (Childe, 1942; 1950).
Активизация изучения тематики происхождения государства произошла после Второй мировой войны, начиная с 1950-х гг. Это было обусловлено несколькими причинами: накоплением нового фактического, главным образом археологического и этнографического материала, определенным усилением влияния марксизма и началом второй дискуссии об азиатском способе производства, появлением таких важных на Западе теоретических направлений, как «новая», или процессуальная, археология в изучении доистории и неоэволюционизм в культурной антропологии и этнографии.
Первоначально в фокусе внимания исследователей были проблемы типологии и классификации процессов политогенеза. Советские ученые свой вклад воплотили в дискуссии о различных путях к государственности и раннеклассовому обществу, дискуссии о типологии генезиса феодализма, природе «дофеодальной» стадии, военной демократии и т. д. (Проблемы истории…, 1968; Хазанов , 1968; 1979; Павленко , 1989; Крадин , 1991; и др.). В западной культурной антропологии на первый план вышли вопросы типологии форм доисторических и архаических обществ от локальных групп охотников-собирателей до раннего государства. Среди особенно важных достижений следует отметить создание теории вождества (chiefdom) и теории раннего государства, дебаты о месте племени в ряду форм политической интеграции ( Service , 1962; 1975; Fried , 1967; 1975; The Early…, 1978; The Study…, 1981; etc.).
Постепенно исследователи осознали бесперспективность бесконечных типологических баталий, и внимание сместилось на анализ факторов и процессов политогенеза. Справедливости ради следует сказать, что роль тех или иных причин появления государства отмечалась исследователями и ранее (теории «общественного договора» Нового времени, широко распространенная с конца XIX в. так называемая «завоевательная» теория, роль неравенства и классов (согласно марксизму), ирригационная теории К. Витфогеля и др.). Однако примерно в последней трети ХХ столетия появились весьма популярные «демографическая» ( Boserup , 1965), «стрессовая» ( Wright, Johnson , 1975), «торговая» ( Webb , 1975; Ekholm , 1977; Friedman, Rowlands , 1977) и «ограничительная» ( Carneiro , 1970) теории, а также ряд других интерпретаций.
В целом, как показали сравнительно-исторические исследования последних десятилетий, процесс политогенеза – сложное многофакторное явление, обусловленное как внутренними (экология, система хозяйства, рост народо- населения, технологические инновации, война, идеология и др.), так и внешними (война, внешнее давление, торговля, диффузия и др.) факторами. Как весьма справедливо заметил по данному поводу Дж. Хаас, многие из теорий адекватно объясняют возникновение государственности применительно лишь к случаям, которые служат иллюстрациями для подтверждения тех или иных взглядов (Haas, 1982. P. 130). В то же время ни один из вышеперечисленных факторов не является универсальным. В настоящее время большинство историков, антропологов и археологов признают, что возникновение государственности является сложным многовариантным процессом, зависимым от большого числа разнообразных переменных.
Теория вождества
Теория вождества принадлежит к числу наиболее ярких достижений западной политантропологии. Наибольший вклад в ее разработку внесли неоэволюционисты «второй волны» – Э. Сервис ( Service , 1962; 1971), М. Салинз (1999) и Р. Кар-нейро ( Carneiro , 1981). Последующий прогресс связан с фундаментальными статьями и книгами Т. Эрла ( Earle , 1987; 1997; 2002). Вождество понимается как первая форма общественной иерархии, которая предшествует появлению государства. Существует ряд работ, в которых подробно раскрыты основные положения данной теории ( Carneiro , 1981; Earle , 1987; 1997; Крадин , 1995). Исследователи выделяют следующие основные признаки этой формы социополитической организации: 1) существование иерархической организации власти, которая по археологическим данным отражается в разных размерах поселений; 2) наличие социальной стратификации и ограничение доступа к ключевым ресурсам, имеются тенденции к отделению эндогамной элиты от простых масс в замкнутое сословие; 3) существование (в вождестве) редистрибуции – перераспределения прибавочного продукта и подарков по вертикали. Власть вождя основана на престижной экономике; 4) вождество характеризуется общей идеологической системой и/или общими культами и ритуалами. Некоторые исследователи полагали, что верховная власть в вождестве имеет сакрализованный, теократический характер.
По количеству уровней иерархии вождества могли быть «простыми» и «сложными». В простых вождествах имеется один уровень иерархии. Это группа общинных поселений, иерархически подчиненных резиденции вождя – как правило, более крупному поселению. Численность простого вождества – несколько тысяч человек. Сложное вождество – это более крупная политическая единица, которая состояла из нескольких простых вождеств. Их численность измерялась уже десятками тысяч человек. К числу типичных черт сложных вождеств можно также отнести этническую гетерогенность, исключение управленческой элиты и ряда других социальных групп из непосредственной производственной деятельности. В некоторых случаях сложные вождества могли объединяться в суперсложные вождества. Обычно суперсложные вождества в 4–5 уровней иерархии существовали у кочевников скотоводов ( Крадин , 2007). В земледельческих обществах при таком количестве иерархических ступеней, как правило, возникало государство.
Однако вождество отличалось от государства не только высотой пирамиды власти. По мнению одних исследователей, в государстве правительство может осуществлять санкции с помощью легитимизированного насилия ( Fried , 1967. P. 230, 235; Service , 1975. Р. 16; The Early…, 1978. P. 639, 640), тогда как правитель вож-дества обладал лишь «консенсуальной властью», т. е. авторитетом. В случае злоупотребления своим статусом положение вождей было незавидным ( Салинз , 1999. С. 137–141). Однако, по мнению Э. Геллнера и Р. Карнейро, многим государствам (не только ранним) не хватает монополии на использование силы ( Carneiro , 1981. P. 68; Геллнер , 1991. С. 28). Поэтому было бы правильнее делать акцент не столько на легитимном насилии, сколько на появлении особого аппарата власти.
Интеграция общества на государственном уровне требует специализированной бюрократии, единой религии, судопроизводства и полицейской машины. Государство предполагает наличие особых специализированных учреждений, предназначенных для управления. Гражданские чиновники ответственны за мобилизацию ресурсов, управление, контроль информационными потоками. Военные ответственны за завоевания и оборону от врагов, а иногда на них возлагается поддержание внутренней стабильности. Религия предназначена для создания общей идентичности и освящения существующего строя ( Earle , 2002. P. 16).
Пик популярности теории в Европе и США пришелся на последнюю треть ХХ в. В отечественную науку термин вошел на рубеже 1970–1980-х гг. А. М. Хазанов предложил использовать при рассмотрении вопросов становления государственности термин «вождество» – аналог английскому «чифдом» ( Хазанов , 1979), а Л. С. Васильев в двух обзорах подробно изложил суть данной концепции ( Васильев , 1980; 1981). Двадцать лет назад автор этих строк написал многостраничный обзор, посвященный теории вождества ( Крадин , 1995). В настоящее время термин достаточно часто используется в работах отечественных ученых, он вошел в учебники, пособия и справочные издания. В последнем варианте «Большой российской энциклопедии» ему посвящена большая вдумчивая статья В. А. Попова (2006).
Основными археологическими признаками вождества являются наличие иерархии поселений и развитая стратификация в погребальном обряде. Как соотносятся летописные сведения, например, о различных «княжениях» с конкретным археологическим материалом, могут дать ответ только специальные археологические обследования конкретных регионов (так называемые survey studies). Однако опыт изучения разных районов мира показывает, что чем больше новых археологических данных, тем сложнее их интерпретировать в рамках простых объяснительных схем. По мере накопления фактического материала археологические интерпретации демонстрируют очень большое разнообразие политических систем, которые могли возникать в однотипных экологических условиях ( Березкин , 2013). На одном полюсе сложные общества без ярко выраженной иерархической структуры, на другом – классические вождества разной степени сложности и ранние государства. Между ними располагается немалое число промежуточных форм с различной экономической базой, политической организацией, идеологическими институтами. Поэтому в настоящее время исследователи склонны использовать более нейтральные термины – среднемасштабное общество, комплексное (сложное) общество и т. д. ( Chapman , 2008; etc.).
Сущность государства
В политантропологической литературе выделяются два основных подхода к пониманию ранней государственности. Согласно « интегративной » ( функционалистской ) версии политогенеза архаическое государство возникает вследствие организационных нужд, с которыми вождеская организация власти не может справиться. При этом раннегосударственная власть имеет не насильственный, а консенсуальный характер. Она основана на сакральной (т. е. священной) идеологии ( Service , 1962; 1971; 1975). По мнению сторонников « конфликтной » версии политогенеза, государственность – это результат культурной адаптации и стабилизации стратифицированного общества от предотвращения конфликтов в борьбе между различными группами за ключевые ресурсы жизнеобеспечения. Эта версия объясняет происхождение государства исходя из отношений эксплуатации, классовой борьбы, войны и межэтнического доминирования ( Fried , 1967).
Один из главных идеологов функционалистской версии политогенеза Э. Сервис рассматривал создание государства с точки зрения «выгоды», которую оно несет своим гражданам. Он признавал, что подданным приходится платить определенную «цену» управителям за то, что они выполняют свои организационные обязанности. Однако Сервис отказывался видеть в этой «цене» эксплуатацию, полагая, что выгоды от объединения усилий очевидны и превышают плату за услуги. Он мотивировал это тем, что ему неизвестны случаи восстаний в ранних государствах. Эти аргументы нашли развитие в концепции «взаимной эксплуатации», согласно которой в раннем государстве складывается религиозно-идеологическая доктрина взаимного обмена услугами между производящими массами и правящей элитой. Первые обязуются исправно платить налоги и повинности, а вторые считаются ответственными за охрану и благосостояние подданных, выполняя управленческие функции в соответствии со своими сверхъестественными способностями ( Service , 1975).
Конфликтный подход предполагает рассмотрение государства как политической организации, предназначенной для решения внутренних и внешних конфликтов и упорядочивания структуры на принципиально новом уровне интеграции. Одни исследователи (сторонники «завоевательной» теории) привлекали внимание к насильственному, военному решению экономических проблем; другие – обращали внимание на то, что в результате неравного доступа к ресурсам назревают конфликты, которые предотвращаются методами физического и идеологического контроля; третьи (марксистские авторы) – акцентируют внимание на том, что государство является институтом эксплуататорского, классового общества.
В настоящее время мало кто из исследователей готов безоговорочно принять ту или иную сторону. Всем очевидно, что это крайние полюса единого процесса. В реальности и интеграция, и конфликт одновременно присутствуют в природе государства. Государственность действительно выполняет важные социальные функции (защищает жителей от внешних врагов, преступников, выполняет организационные функции и т. д.). В то же самое время носители власти имеют расширенный доступ к ресурсам и различным благам, а подданные вынуждены соглашаться со своим более низким статусом. В литературе много писалось об амбивалентности власти. Государство – орудие власти. Оно столь же двулико, что и сама власть. Оно одновременно и помогает, и наказывает. Даже в классической древности существовало амбивалентное отношение к государству, оно воспринималось как неизбежное, но все-таки зло (Якобсон, 2012).
В этой связи, ключевые вопросы, которыми задавались многие исследователи, – как меньшинство достигает контроля над большинством и как оно умудряется поддерживать статус-кво ( Mann , 1986; Feinman , 1995; Earle , 1997; Haas , 2001; Flannery, Marcus , 2012). Можно говорить, наверное, о трех ключевых каналах достижения власти – экономика, война и идеология. Экономическая власть основана на контроле над ключевыми секторами экономики и ресурсами, а также доступе к перераспределению ресурсами. Т. Эрл предлагает выделять основные финансы и финансы богатства ( Earle , 2002. P. 192–194). В первом случае имеется в виду контроль над реальными секторами экономики и их результатами – производством пищи, специализированным ремеслом, общественными работами и др. Финансы богатства представляют собой совокупность предметов, которые обычно не имеют утилитарного значения (ценные вещи, изделия из благородных металлов, драгоценности, первобытные деньги, монеты и др.). Поэтому во втором случае речь должна идти о поддержке ремесленников, производивших значимые для статуса товары (Specialization, exchange…, 1987), или о контроле над внешней торговлей ( Ekholm , 1977; Sáenz , 1991).
Военный фактор проявляется прежде всего в наличии у лидера вооруженных и, как правило, хорошо обученных сторонников, которые могут оказать помощь в борьбе против конкурентов. Помимо этого, война предполагала возможность завоевания и порабощения или запугивания с целью гарантировать поддержку и защиту. Р. Кайнейро в своей «теории ограничения» синтезировал экологический подход с военным фактором. В условиях, когда территория расселения популяции имеет границы, рост населения не может быть решен путем миграции. В такой ситуации возникает конкуренция за ресурсы и институализируется лидерство. Группы начинают вести войны за ресурсы и порабощение ( Carneiro , 1970). Данная концепция вызвала много споров среди исследователей. Полемика не утихает до сих пор. Не так давно журнал «Социальная эволюция и история» (Social Evolution & History) выпустил целый номер, посвященный современному видению этой темы (№ 2 за 2012 г.).
Идеология предполагает обеспечение доминирования через культурно значимые для общества символы. Она имеет очень важное значение для интеграции группы. Коллективные ценности реализуются как в рамках каждодневных действий («габитус»), так и через публичные ритуалы и церемонии, совместные трапезы и праздники. Как очень точно подметил М. Ман, успешная идеология предполагает взгляд, делающий боль жизни и неравенство более терпимыми ( Mann , 1986. P. 23). Важное место в этой связи имеют различные дарообменные механизмы, которые камуфлируют реальную иерархию идеологическими одеждами, создают иллюзию сопричастности подданных и правителей. Светская, военная и сакральная власть могла быть как разделенной между различными группами элиты, так и интегрированной в той или иной комбинации.
Критерии государства
В отечественной литературе традиционно этот вопрос решался в соответствии с критериями государства, которые были предложены еще Ф. Энгельсом в его работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», написанной в 1884 г. Как известно, Энгельс выделял три главных признака: территориальное деление, налоги и формирование особого аппарата управления. Эта «триада» до сих пор считается классической в политической и юридической науках. Нет сомнения, это справедливо в отношении развитых современных государств. В то же время исследования антропологов показали, что многие уже сформировавшиеся доиндустриальные государства (например, в Африке) оставались основанными на родоплеменном делении. Граница между редистрибуцией и налогами очень условна. Наконец, не всегда можно провести грань между зачаточными органами управления в вождестве и ранней формой государства ( Куббель , 1988).
Традиция выделения данных признаков происходит из концепции суверенитета, появившейся в Европе в Новое время. Однако, если посмотреть вглубь времен, население, территория и независимость – это черты любого самостоятельного коллектива, в том числе и первобытного. Любая группа охотников-собирателей представляет собой население . Любая община проживает на некоторой территории , контролирует ее и защищает от непрошеных чужаков. Если вспомнить еще один часто упоминаемый признак – политический суверенитет , то любое вождество рассматривается в качестве предмета исследования только как независимая политическая единица (в противном случае это уже не вож-дество, а дистрикт сложного вождества). Из вышеперечисленных черт только один признак может служить настоящим признаком государства – это наличие институтов управления.
Интеграция общества на государственном уровне требует специализированной бюрократии, единой религии, судопроизводства и полицейской машины. Государство предполагает наличие особых специализированных учреждений, предназначенных для управления. Исходя из вышеизложенного, лиц занятых управлением необходимо делить на: 1) общих функционеров, деятельность которых может охватывать несколько видов занятий; 2) специальных функционеров, выполняющих обязанности только в какой-то одной области управления; 3) неформальных лиц, чья профессия напрямую не связана с управлением, однако они в силу своего статуса или иных причин могут оказывать влияние на принятие решений (родственники, придворные, священники и т. д.). Поскольку общие функционеры и неформальные лица могут существовать не только в ранних (архаических) государствах, но, например, в вождествах, только категория специальных функционеров может служить критерием государственности. Возможно, это единственный универсальный критерий государственного общества. С предельной лаконичностью суть этого выразил Карл Витфогель: государство – это управление профессионалов ( Wittfogel , 1957. P. 239).
Кроме того, мы можем назвать организацию управления государством только в том случае, если она состоит из большого количества людей. Государство – это не отдельные лица, занимающиеся управленческой деятельностью, а аппарат управления, т. е. совокупность определенных организаций и учреждений. Данные учреждения имеют внутреннюю структуру и состоят из определенного количества сотрудников, получающих вознаграждение за выполнение специальных обязанностей, имеющих схожие системы ценностей и установок (габитус). Структура может быть разделена на специализированные подразделения или ведомства (министерства, канцелярии и т. д.) либо в принципе не быть институализирована и находится при дворе, ставке («штабе» – в концепции М. Вебера) правителя.
В данном случае речь идет, как правило, о сложившейся государственности, т. е. таком аппарате управления, который оформился в институализированные формы. Однако такие феномены, как государственность (в форме особого аппарата управления), классовая структура и частная собственность, формируются в процессе длительной эволюции. По этой причине ряд исследователей в разных странах и, возможно, независимо друг от друга пришли к мнению, что целесообразно выделять некоторые промежуточные фазы между доиерархическими безгосударственными обществами и сложившимися доиндустриальными государствами (цивилизациями). Ключевое место в этом ряду занимает такая форма политической организации, как раннее государство.
Раннее государство
Разработку теории раннего государства принято связывать с именем голландского политантрополога Х. Дж. М. Классена и его школой. Наиболее полно главные положения теории были сформулированы в томе «Раннее государство», изданном под его редакцией совместно с чешским антропологом-африканистом П. Скальником (The Early State, 1978), и впоследствии углублены и развиты в целом ряде специальных тематических изданий. Теория «раннего государства» включила достижения неоэволюционистской и структуралистской антропологии, а также творческого марксизма. Она оказала значительное влияние на развитие отечественной политической антропологии последней трети ХХ – начала XXI в. (на Л. Е. Куббеля, А. М. Хазанова, Л. С. Васильева, а через их работы и идеи на следующее поколение отечественных политантропологов).
Раннее государство понимается как «централизованная социополитическая организация для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном, по крайней мере, на два основных страта, или возникающих социальных класса – на управителей и управляемых, отношения между которыми характеризуются политическим господством первых и данническими обязанностями вторых; законность этих отношений, основной принцип которых составляет взаимный обмен услугами, освящена единой идеологией» (Ibid. P. 640).
Изначально авторы выделили по степени зрелости три типа ранних государств – зачаточные (inchoate), типичные (typical) и переходные (transitional). Для типичного раннего государства характерно: 1) сохранение кланово-ли-ниджных связей, но при некотором развитии внеклановых отношений на высших уровнях управления; 2) источником существования должностных лиц являются как кормления за счет вверенных подданных, так и жалованье из центра; 3) письменно зафиксированный свод законов; 4) появление специального аппарата судей, которые уже разбирают большинство юридических вопросов; 5) изъятие доли прибавочного продукта «управителями» имеет «точно установленный характер» и осуществляется как путем взимания дани, так и посредством принудительного труда; 6) появление специальных чиновников и лиц им помогающих (The Early State, 1978. P. 22, 641).
Поскольку ранним государствам не хватало монополии на применение законного насилия, чтобы противостоять сепаратизму, персона сакрализованного правителя являлась фигурой консолидирующей и объединяющей общество. Правитель («священный царь») являлся «посредником» между божествами и подданными, обеспечивал, благодаря своим сакральным способностям, стабильность и процветание обществу, объединял посредством дарений социальные коммуникации в единую сеть. Только с формированием эффективной системы аппарата власти отпадала необходимость в данных функциях «священного царя» ( Claessen , 1986). На этой стадии ранние государства трансформировались в зрелое доинду-стриальное государство (mature state), в котором имеется развитый бюрократический аппарат и частная собственность ( Гринин , 2007; 2007б; 2007в).
Концепция «раннего государства» по-прежнему вызывает интерес среди исследователей. С течением времени возникла необходимость пересмотреть типологию и отказаться от выделения так называемых зачаточных и переходных ранних государств. Первые соответствуют критериям вождеств, а последние попадают под признаки зрелых доиндустриальных государств с развитым бюрократическим аппаратом ( Крадин , 2006). Кросс-культурный анализ концепции позволил скорректировать признаки типичного раннего государства и показал, что именно на этой стадии появляются такие важные признаки, как специальные чиновники, аппарат судей, письменный свод законов и др. ( Bondarenko , Korotayev , 2003). В 2008 г. журнал «Социальная эволюция и история» (№ 1) организовал специальную дискуссию, посвященную состоянию теории раннего государства и приуроченную к тридцатилетию выхода книги «Раннее государство». Роль теории «раннего государства» в современной археологической и антропологической науке показана также в обстоятельной обзорной статье П. Скальника ( Skalnik , 2009).
Археологические критерии
Со времени публикации знаковой статьи Г. Чайлда о «городской революции» началась дискуссия об археологических критериях разграничения предгосудар-ственного общества и стадии государства. Для ее обозначения Чайлд использовал термин «цивилизация». Он выделил список из 10 черт: появление городских центров; возникновение классов, занятых вне производства пищи (ремесленники, торговцы, жрецы, чиновники и пр.) и живущих в городах; значительный прибавочный продукт, изымаемый элитой; наличие монументальных культовых, дворцовых и общественных сооружений; обособление правящих групп, наличие фиксируемой в археологических источниках резкой социальной стратификации;
появление письменности и зачатков математики; развитие изысканного художественного стиля; появление торговли на дальние расстояния; образование государства; взимание налогов или дани ( Childe , 1950).
Используя археологические источники, необходимо иметь в виду, что понятие город очень неопределенно, такие признаки, как письменность, наличие высокоразвитой торговли и ремесла, монументальная и урбанистическая архитектура, могут встречаться еще в догосударственном обществе и наоборот – их может не быть в раннегосударственных структурах. Многие ранние государства Африки не знали письменности, однако известны безгосударственные общества, имевшие письменность (кельты, иберы). Социальная стратификация, фиксируемая в погребальном обряде, характерна как для государств, так и для вождеств. Едва ли можно точно определить по уровню развития ремесла, торговли или числу уровней иерархии, является данное общество вождеством или государством. Монументальные сооружения характерны не только для цивилизаций, но встречаются и в вождествах (Стоунхендж).
Впоследствии список Чайлда неоднократно уточнялся. В настоящее время существует много работ, в которых перечисляется широкий набор признаков цивилизации. В табл. 1 представлены некоторые важные работы, которые посвящены обсуждению этого вопроса. При этом представляется очевидным, что универсальных признаков государственности нет – должна присутствовать некоторая совокупность. Но сколько признаков могут составлять систему? Два из трех, три из пяти, или возможно какое-то иное их соотношение?
Нетрудно заметить, что такие признаки, как «город», «монументальная архитектура», «высокоразвитое ремесло», «стратификация погребений», встречаются более чем в половине процитированных работ, другие критерии – несколько реже. Это, конечно, не говорит о том, что остальные признаки ошибочные. С одной стороны, исследователи руководствуются при составлении списка признаков традицией, идущей от Чайлда. С другой стороны, в той или иной степени каждый опирается на свой конкретный материал и опыт того региона, который ему знаком лучше всего.
В этой связи важно иметь в виду некоторые методологические идеи относительно возможности использования археологических источников для изучения процессов политогенеза. Их (источники) целесообразно рассматривать в контексте процесса материализации. Под материализацией в современной археологии понимается преобразование идей, значений и символов в физическую реальность ( DeMarrais et al ., 1996; Archaeologies…, 2005; etc.). Она может существовать в форме символических объектов, монументальных конструкций, иконографии, письменности и др. Фундаментальными свойствами материализации является то, что она обеспечивает широкий доступ (говоря в рамках более привычных нам понятий, словами В. И. Ленина, – «массовость»), который формирует идеологический контроль элиты над сознанием индивидов.
Материализация может реализовываться в общественных церемониях – различных важных для группы ритуалах, пирах, иных действиях. Церемонии – это самая простая форма поддержания идентичности и идеологии, которая имеет значение для самых разных общественных групп от первобытных охотников и собирателей до археологов, периодически собирающихся на свои съезды.
Таблица 1. Археологические признаки
|
i о Co <м |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
8 c^" g 3 oo £ У ^ ■E s 2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
oo К O\ Q —1 ^ |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
t. |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||
|
и oo |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||
|
Co (M Q OO |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||
|
0< |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||
|
© a |
© a ^ © H s и a © © © H © ^ © s |
H о л C |
X |
© © a © © H s © ^ |
© a a к |
a c >s У © to a c |
« s я © t© © a © к к s a © s ■e a Й a H U |
>s © о c © X © a S |
© X a © © 1 a F |
© s © О |
© § g g 8 © g-ffl s |
Й & о a 2 и |
ч © a о a a H |
s S о a |
s c & 5 s ^> n a о ч “ s c § к s. |
s S s |
>s © X m s Й m |
a § S 4 О C |
I a о © ^ S а о е |
1© а © © со S © и |
© m |
Крупные церемонии требуют ресурсов и сплоченности группы. Кроме того, церемония не самая удачная форма материализации. Ее эффективность во многом зависит от повторения. Поэтому должны существовать другие компоненты, в которых могла бы быть воплощена значимая для группы культурная информация.
В первую очередь это различные символические объекты (например, христианский крест). Их компактность, возможность копирования и распространения делает их очень значимыми средствами осуществления идеологии. Во-вторых, это монументальные архитектурные объекты. Они создаются таким образом, чтобы господствовать над пространством и в материальной форме утверждать наличие общественного неравенства, а также напоминать о его незыблемости. Вне всякого сомнения, монументальная архитектура представляет собой своеобразную материализацию коллективной памяти общества. Она присутствует как своеобразное напоминание о прошлом, но одновременно может выполнять политический заказ, формировать новые смыслы и значения. Монументальные ландшафты также могут преобразовываться и служить идеологическим целям ( Smith A. , 2003; Smith M. , 2014). Иными словами, их можно рассматривать как важный ресурс формирования «символического капитала» (по П. Бурдье).
Альтернативные пути политогенеза
В отечественной литературе наряду с однолинейными представлениями о генезисе государственности существует развитая многолинейная традиция. Ее истоки в идеях К. Маркса об азиатском способе производства и двух путях к государственности. Наиболее последовательно она была изложена в трудах Л. С. Васильева, который полагает, что Восток развивался другим путем, нежели чем Запад ( Васильев , 1983 и др.; см. также: Феномен восточного…, 1993). В этом Васильев следует авторитетным идеям К. Витфотеля, согласно которому для западного пути характерно формирование общества с частной собственностью, политическим равноправием граждан, ограниченным законами правовым государством. Наиболее ярко данная модель эволюции была воплощена в античных полисах. Для восточного общества частная собственность имеет подчиненное значение, положение человека определяет его власть, место в иерархии управления. В обществе нет граждан, есть только подданные ( Wittfogel , 1957).
Другая точка зрения предполагает отказаться от старой дихотомии Запад – Восток. В ее основе лежит принцип выделения двух разных стратегий в политической эволюции. Первая (иерархическая, или сетевая) стратегия основана на вертикали власти и централизации. Для нее характерны концентрация богатства у элиты, наличие сетей зависимости и патронажа, отражение социальной дифференциации в погребальной обрядности, контроль элиты над торговлей предметами престижного потребления, развитие ремесла для потребностей верхов, наличие культов вождей, их предков, отражение статусов и иерархии в идеологической системе и архитектуре. Для второй (гетерархической, или корпоративной) стратегии характерны большее распределение богатства и власти, более умеренное накопление, сегментарная социальная организация, экономические усилия общества, направленные на решение коллективных целей (производство пищи, строительство фортификации, храмов и др.), универсализирующая космология, религиозные культы и обряды. Архитектура подчеркивает стандартизированный образ жизни.
Более популярный термин гетерархия обозначает способ взаимоотношений элементов в сложной системе, когда они не ранжированы иерархически или связаны сетями сложных связей ( Crumley , 2001. P. 24). Судя по всему, первым, кто пришел к этой идее, был К. Ренфрю ( Renfrew , 1974). Однако он писал о двух вариантах вождеств, и далеко не все сразу осознали важность данной идеи. Только позднее стало ясно, что это был важный подход, который примерно в одно время, но на разных исторических материалах и в разной терминологии разрабатывали М. Агларов (Кавказ), Ю. Е. Березкин (Передний Восток, Средняя Азия и Новый Свет), А. В. Коротаев (горцы), К. Крэмли (железный век Западной Европы), Г. Фэйнман и С. Ковалевски (Мезоамерика) и др. ( Агларов , 1988; Березкин , 1995; 2013; Коротаев , 1995; Crumley , 1995; 2001; Blanton et al. , 1996; Бондаренко, Коротаев , 1999; Берент , 2000; Ковалевски , 2000; Уасон, Балдиа , 2000; Feinman , 2001; Бондаренко , 2006; Гринин , 2007а; 2007б; 2007в; и многие др.). Все это позволяет сделать вывод , что параллельно с созданием иерархических обществ (вождеств и государств) существует другая линия социальной эволюции – неиерархические общества. Следовательно, социальная эволюция является многолинейной .
В последние десятилетия стадиальные схемы, выработанные неоэволюционистами и процессуальными археологами, стали подвергаться сильной критике. По большому счету постмодернистская и постколониальная критика привела к тому, что использовать социальные типы в антропологии стало немодным ( Harvey , 1989; Kuznar , 2008). Особенно много нападок было сделано против концепции «вождества». Критика была положительно воспринята в англо-американской археологии ( Yoffee , 2005; Pauketat , 2007; Routledge , 2014). Однако за едкой критикой нет новых концептуальных идей, как очень точно подметил Д. Вебстер, рецензируя книгу Н. Йофе, его выводы относительно происхождения государства очень близки к тем, кого он критикует: «Мало кто не согласился бы с этим 30 или 40 лет назад» ( Webster , 2005. P. 263).
Вместе с тем, при всем моем личном достаточно отрицательном отношении к постмодернизму, следует отметить, что критиками были выдвинуты важные аргументы, которые нельзя не учитывать. Это и критика западоцентристского и расистского взгляда на мировую историю, призыв к учету роли гендера, ошибочность прямолинейных сопоставлений доисторических сообществ и их этнографических аналогий.
В некотором роде можно сказать, что западная антропология и археология вернулись к временам доминирования антиисторизма и эмпиризма, подобно эпохе исторического партикуляризма К. Боаса. Трудно судить, насколько долго данный тренд продлится в антропологическом и археологическом сообществе. В книге К. Кристиансена, посвященной доисторической Европе, конфликт между процессуалистами и постмодернистами графически изображен в виде оптимистичной циклической линии ( Kristiansen , 1998. P. 39). Ряд видных американских специалистов подтверждают, что в литературе все чаще фиксируется возрождение интереса к социальным типам ( Neitzel, Earle , 2014. P. 182). Хотелось бы надеяться на перемены.
Заключение
Современные представления о генезисе государства имеют немало отличий от классических теорий, излагаемых в многочисленных трудах и учебниках по истории, политологии и юриспруденции. Во-первых, было выяснено, что существует большое число причин, которые влияли на развитие политической централизации. Во-вторых, современные историки, археологи и антропологи (этнологи) склонны считать, что генезис государства обусловлен двумя взаимосвязанными процессами – необходимостью общественной консолидации по мере усложнения общества («интегративная» теория) и необходимостью урегулирования в обществе конфликтных ситуаций («конфликтный» подход, «классовая» теория). В-третьих, современная наука не склонна интерпретировать становление и развитие государства как однолинейный процесс. Существует несколько наиболее популярных теорий, раскрывающих различные пути возникновения государства. Наиболее часто исследователи противопоставляют развитие западных и восточных обществ. Однако в последнее время ряд авторов полагают, что сложность общества далеко не всегда связана с формированием государственности. Они придерживаются многолинейной теории социальной эволюции и выделяют несколько альтернативных государству форм политического устройства.
Все эти вопросы наиболее активно разрабатываются в исторической науке. Более того, представляется, что ощутимый прогресс в данной области может быть связан в первую очередь не с историей и антропологией, а с археологией, где возможно появление новых источников в рассматриваемой проблематике. Однако другие науки, касающиеся данной темы (политология, юриспруденция) не должны оставаться в стороне от новых концепций. Это позволит не только обогатить процесс преподавания классических дисциплин свежими идеями, но и придаст новые импульсы для развития теоретических представлений о государстве в рамках данных наук. Многие современные стороны проблемы теории государства и права могут быть правильно осмыслены и истолкованы только в связи с историей возникновения и развития данных явлений.
Список литературы Основные закономерности происхождения государства
- Агларов М. А., 1988. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII -начале XIX в. М.: Наука. 243 с.
- Березкин Ю. Е., 1995. Вождества и акефальные сложные общества: данные археологии и этнографические параллели//Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности/Отв. ред. В. А. Попов. М.: Наука. С. 165-187.
- Березкин Ю. Е., 2013. Между общиной и государством: Среднемасштабные общества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. СПб.: Наука. 256 с.
- Берент М., 2000. Безгосударственный полис. Раннее государство и древнегреческое общество//Альтернативные пути к цивилизации/Отв. ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев. В. А. Лынша. М.: Логос. С. 235-258.
- Бондаренко Д. М., 2006. Гомоархия как принцип построения социально-политической организации//Раннее государство, его альтернативы и аналоги/Отв. ред. Л. Е. Гринин, Д. М. Бондаренко, А. В. Коротаев, Н. Н. Крадин. Волгоград: Учитель. С. 164-183.
- Бондаренко Д. М., 2014. Государство как феномен социальной истории: сущность и отличительные признаки//Историческая психология и социология истории. № 2. С. 164-188.
- Бондаренко Д. М., Коротаев А. В., 1999. Политогенез, «гомологические ряды» и нелинейные модели социальной эволюции//Общественные науки и современность. № 5. С. 128-138.
- Васильев Л. С., 1980. Становление политической администрации (от локальной группы охотников собирателей к протогосударству-чифдом)//Народы Азии и Африки. № 1. С. 177-186.
- Васильев Л. С., 1981. Протогосударство-чифдом как политическая структура//Народы Азии и Африки. № 6. С. 157-175. Васильев Л. С., 1983.
- Проблемы генезиса китайского государства. М.: Наука. 326 с.
- Геллнер Э., 1991. Нации и национализм. М.: Прогресс. 320 с.
- Гринин Л. Е., 2007а. Государство и исторический процесс. М.: Комкнига. Кн. 1: Эпоха формирования государства: Общий контекст социальной эволюции при образовании государства. 271 с.
- Гринин Л. Е., 2007б. Государство и исторический процесс. М.: Комкнига. Кн. 2: Эволюция государственности: от раннего государства к зрелому. 363 с.
- Гринин Л. Е., 2007в. Государство и исторический процесс. М.: Комкнига. Кн. 3: Политический срез исторического процесса. 236 с.
- Ковалевски С., 2000. Циклические трансформации в Северо-Американской доистории//Альтернативные пути к цивилизации/Отв. ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, В. А. Лынша. М.: Логос. С. 171-185.
- Коротаев А. В., 1995. Горы и демократия//Альтернативные пути к ранней государственности/Отв. ред. Н. Н. Крадин, В. А. Лынша. Владивосток: Дальнаука. С. 77-93.
- Крадин Н. Н., 1991. Политогенез//Архаическое общество: Узловые проблемы социологии развития/Отв. ред. А. В. Коротаев, В. В. Чубаров. М.: Ин-т истории СССР. Вып. 2. С. 261-300.
- Крадин Н. Н., 1995. Вождество: современное состояние и проблемы изучения//Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности/Отв. ред. В. А. Попов. М.: Восточная литература. С. 11-61.
- Крадин Н. Н., 2006. Археологические признаки цивилизации//Раннее государство, его альтернативы и аналоги/Отв. ред. Л. Е. Гринин, Д. М. Бондаренко, А. В. Коротаев, Н. Н. Крадин. Волгоград: Учитель. С. 184-208.
- Крадин Н. Н., 2007. Кочевники Евразии. Алматы: Дайк-Пресс. 416 с.
- Куббель Л. Е., 1988. Очерки потестарно-политической этнографии. М.: Наука. 171 с.
- Массон В. М., 1989. Первые цивилизации. Л.: Наука. 268 с.
- От доклассовых обществ., 1987.
- От доклассовых обществ к раннеклассовым/Ред. Б. А. Рыбаков. М.: Наука. 242 с.
- Павленко Ю. В., 1989. Раннеклассовые общества (генезис и пути развития). Киев: Наукова Думка. 287 с.
- Попов В. А., 2006. Вождество//БРЭ: В 30 т. М.: БРЭ. Т. 5: Великий князь -Восходящий узел орбиты. С. 557.
- Проблемы истории докапиталистических обществ/Ред. Л. В. Данилова. М.: Наука. 673 с.
- Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности/Ред. В. А. Попов. М.: Восточная литература. 356 с.
- Салинз М., 1999. Экономика каменного века. М.: ОГИ. 295 с.
- Становление классов и государства/Ред. А. И. Першиц. М.: Наука. 351 с.
- Уасон П., Балдиа М., 2000. Религия, коммуникация и генезис сложной социальной организации в неолитической Европе//Альтернативные пути к цивилизации/Отв. ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, В. А. Лынша. М.: Логос. С. 219-234.
- Феномен восточного деспотизма: структура общества и власти/Отв. ред. Н. А. Иванов. М.: Наука. 390 с.
- Хазанов А. М., 1968. Военная демократия и эпоха классообразования//ВИ. № 12. С. 87-97.
- Хазанов А. М., 1979. Классообразование: факторы и механизмы//Исследования по общей этнографии/Отв. ред. Ю. В. Бромлей. М. С. 125-177.
- Якобсон В. А., 2012. Введение в историю бюрократии//ВДИ. № 1. С. 81-125.
- Adams R. McC., 1966. The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehispanic Mexico. Chicago: Aldine. 191 p.
- Archaeologies of Materiality/Ed. L. Meskell. Oxford: Blackwell. 229 p.
- Archaic states/Eds G. Feinman, J. Marcus. Santa Fe: School of American Research. 440 p.
- Blanton R. E., Fienman G. M., Kowalewski S. A., Peregrine P. N., 1996. A Dual-Process. Theory for the Evolution of Mesoamerican Civilization//Current Anthropology. Vol. 37. No. 1. P. 1-14, 73-86.
- Bondarenko D. M., Korotayev A. V., 2003. «Early State» in Cross-Cultural Perspective: A Statistical ReAnalysis of Henri J. M. Claessen’s Database. Cross-Cultural Research//The Journal of Comparative Social Science. Vol. 37. No. 1. P. 105-132.
- Boserup E., 1965. The conditions of agricultural growth. Chicago: Aldine. 137 p.
- Carneiro R., 1970. A theory of the origin of the state//Science. Vol. 169. No. 3947. P. 733-738.
- Carneiro R., 1981. The chiefdom as precursor of the state//The Transition to Statehood in the New World. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 37-79.
- Chapman R., 2008. Alternative States//Evaluating Multiple Narratives: Beyond Nationalist, Colonialist, Imperialist Archaeologies/Eds J. Habu, C. Fawcett, J. M. Matsunaga. New York: Springer. P. 144-165.
- Childe V. G., 1936. Man make himself. London: Wats and Co. 192 p.
- Childe V. G., 1942. What Happened in History. Harmondsworth: Pegnium Books. 304 p.
- Childe V. G., 1950. The Urban revolution//Town Planning Review. Vol. 21. P. 3-17.
- Claessen H. J. M., 1986. Kingship in the early state//Bijdragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde. Vol. 142. No. 1. P. 113-129.
- Crumley C., 1995. Heterarchy and the Analysis of Complex Societies//Heterarchy and the Analysis of Complex Societies/Eds R. M. Ehrenreich, C. L. Crumley, I. E. Levy. Washington, D. C.: American Anthropological Association. P. 1-5. (Archeological Papers of the American Anthropological Association; vol. 6, special issue.)
- Crumley C., 2001. Communication, Holism, and the Evolution of Sociopolitical Complexity//From leaders to rulers/Ed. J. Haas. New York: Kluwer Academic. P. 19-36.
- DeMarrais E., Castillo L., Earle T, 1996. Ideology, Materialization, and Power Strategies//Current Anthropology. Vol. 37. No. 1. P. 15-31.
- Earle T., 1987. Chiefdoms in archaeological and ethnohistorical perspective//Annual Review of Anthropology. Vol. 16. P. 279-308.
- Earle T., 1997. How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory. Stanford: Stanford Univ. Press. 1997. 268 p.
- Earle T., 2002. Bronze Age economics: The beginnings political economies. Boudler: Westview Press. 432 p.
- Ekholm K., 1977. External Exchange and the Transformation of Central African Social Systems//The Evolution of Social Systems: proceedings of a meeting of the Research Seminar in Archaeology and Related Subjects held at the Institute of Archaeology, London University 1974/Eds J. Friedman, M. Rowlands. London: Duckworth. P. 115-136.
- Feinman G., 1995. The Emergence of Inequality: A Focus on Strategies and Processes//Foundations of Social Inequality/Eds T. D. Price, G. M. Feinman. New York: Plenum Press. P. 255-279.
- Feinman G., 2001. Mesoamerican Political Complexity: The Corporate-Network Dimension//From leaders to rulers/Ed. J. Haas. New York: Kluwer Academic. P. 151-175.
- Flannery K. V., 1998. The Ground Plans of Archaic States//Archaic states/Eds G. Fienman, J. Marcus. Santa Fe: School of American Research. P. 15-57.
- Flannery K., Marcus J., 2012. The Creation of Inequality: How Our Prehistoric Ancestors Set the Stage for Monarchy, Slavery, and Empire. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 648 p.
- Fried M., 1967. The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology. New York: Random House. 270 p.
- Fried M., 1975. Notion of the Tribe. New York: Cummings Pub. Co. 136 p.
- Friedman J., Rowlands M., 1977. Notes toward and epigenetic model of the evolution of «civilization»//The Evolution of Social Systems: proceedings of a meeting of the Research Seminar in Archaeology and Related Subjects held at the Institute of Archaeology, London University 1974/Eds J. Friedman, M. Rowlands. London: Duckworth. P. 201-276.
- Haas J., 1982. The Evolution of the Prehistoric State. New York: Columbia Univ. press. 261 p.
- Haas J., 2001. From leaders to rulers. New York: Kluwer Academic: Plenum Publishers. 286 p.
- Harvey D., 1989. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford: Basil Blackwell. 392 p.
- Kristiansen K., 1998. Europe before History. Cambridge: Cambridge University Press. 540 p.
- Kuznar L. A., 2008. Reclaiming a Scientific Anthropology. Lanham, MD: Altamira. 266 p.
- Maisels Ch., 1999. Early civilizations of the Old World: The formative histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India, and China. New York: Routledge. 504 p.
- Mann M., 1986. The Sources of Social Power. Vol. I: A History of Power from the Beginning to A. D. 1760. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 560 p.
- Neitzel J. E., Erale T., 2014. Dual-tier approach to societal evolution and types//Journal of anthropological archaeology. Vol. 36. P. 181-195.
- Pauketat T., 2007. Chiefdoms and Others Archaeological Delusions. New York: AltaMira. XII. 257 p.
- Possehl G. L., 1998. Social Complexity Without the State: Ine Indus Civilization//Archaic States/Eds G. M. Feinman, J. Marcus. Santa Fe: School for American Research. P. 261-292.
- Renfrew C., 1972. The Emergence of Civilization: the Cyclades and Aegean in the third millenium B. C. London: Methuen. 650 p.
- Renfrew C., 1974. Beyond a subsistence economy, the evolution of social organization in prehistoric Europe//Reconstructing Complex Societies. Ann Arbor; Cambridge: American Schools of Oriental Research. P. 69-95. (Supplemt to the Bulletin of the American Schools of Oriental Research; 20.)
- Routledge B., 2014. Archaeology and State Theory: Subjects and Objects of Power. New York: Bloomsbury. 196 p.
- Sàenz C., 1991. Lords of the waste: predation, pastoral production and the process of stratification among the eastern Tuaregs//Chiefdoms, Power, Economy, and Ideology/Ed. T. Earle. Cambridge: Cambridge University Press. P. 100-118.
- Service E., 1962. Primitive Social Organization. New York: Radmon House (2nd ed. 1971). 211 p.
- Service E., 1971. Primitive Social Organization. 2nd ed. New York: Radmon House. 221 p.
- Service E., 1975. Origins of the State and Civilization. New York: W. W. Norton and Co. Inc. 388 p.
- Skalnik P., 2009. Early State Concept in Anthropological Theory//Social Evolution & History. Vol. 8. No. 1. P. 5-24.
- Smith A. T., 2003. The Political Landscape: Constellations of Authority in Early Complex Polities. Berkeley: University of California Press. 346 p.
- Smith M. L., 2014. The Archaeology of Urban Landscapes//Annual Review of Anthropology. Vol. 43. P. 307-323.
- Specialization, exchange, and complex societies/Eds E. M. Brumfield, T. Earle. Cambridge, etc.: Cambridge University Press. 160 p.
- The Early State/Eds H. J. M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: Mouton. 704 p.
- The Study of the State/Eds H. J. M. Claessen, P. Skalnik. The Hague: Mouton. 552 p.
- Webster D., 2005. States of mind//Cambridge Archaeological Journal. Vol. 15. No. 2. P. 260-264.
- Wittfogel K. A., 1957. Oriental Despotism. New Haven: Yale University Press. XX. 556 p.
- Wright H., Johnson G., 1975. Population, exchange and early state formation in Southwestern Iran//American Anthropologist. Vol. 77. No. 2. P. 267-289.
- Yoffee N., 2005. Myth of the Archaic State: Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations. Cambridge: Cambridge University Press. XIII. 277 p