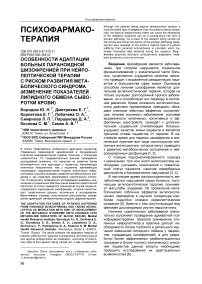Особенности адаптации больных параноидной шизофренией при нейролептической терапии с риском развития метаболического синдрома (изменение показателей липидного обмена сыворотки крови)
Автор: Бородюк Юлия Николаевна, Дмитриева Е.Г., Корнетова Е.Г., Лобачева О.А., Смирнова Л.П., Паршукова Д.А., Козлова С.М., Семке А.В.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Психофармакотерапия
Статья в выпуске: 2 (87), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены особенности адаптации пациентов, страдающих параноидной шизофренией и принимающих в качестве медикаментозной терапии типичные и атипичные нейролептики. По предварительным данным проводимого исследования выявлено, что несмотря на развитие более благоприятного типа адаптации у пациентов, принимающих атипичные нейролептики, чем у пациентов, принимающих галоперидол, медикаментозная терапия атипичными нейролептиками способна вызывать развитие метаболического синдрома и, как следствие, формировать соматическую патологию. В результате проводимого исследования выявлены клинические и социальные факторы риска развития соматической патологии. В статье приводится клинический случай пациента, страдающего параноидной шизофренией, который иллюстрирует теоретические данные, полученные в исследовании.
Психотические расстройства, шизофрения, адаптация, метаболические синдром, фармакотерапия
Короткий адрес: https://sciup.org/14295825
IDR: 14295825 | УДК: 616.895.8.87:615.21
Текст научной статьи Особенности адаптации больных параноидной шизофренией при нейролептической терапии с риском развития метаболического синдрома (изменение показателей липидного обмена сыворотки крови)
Введение. Шизофрения является заболеванием, при котором нарушается социальное функционирование у значительной части больных, существенно ухудшается качество жизни, что приводит к выраженной дезадаптации пациентов в большинстве сфер жизни. Основным способом лечения шизофрении является длительная антипсихотическая терапия, которая не только улучшает долгосрочный прогноз заболевания, но и способствует его переходу в состояние ремиссии. Кроме основного антипсихотического действия применяемые препараты обладают спектром побочных эффектов, осложняющих течение основного заболевания; усиливая выраженность негативных, когнитивных и аффективных расстройств, приводят к дополнительной социальной стигматизации больных, ухудшают качество жизни пациента и являются причиной отказа пациентов от терапии. В настоящее время для терапии шизофрении в клинической практике все чаще используются атипичные антипсихотики, которые могут приводить к развитию метаболических осложнений и нейроэндокринных дисфункций [1, 2].
С позиции персонализированного подхода к назначению того или иного антипсихотика необходимо учитывать психический и соматический статус пациента, наличие коморбидных расстройств и биохимических нарушений [3, 4].
В настоящее время распространенность метаболических нарушений среди больных, получающих антипсихотическую терапию, принимает масштабы эпидемии. Из проявлений метаболических побочных эффектов антипсихотических препаратов в научной литературе наиболее подробно описано нейролептическое ожирение [5]. Вместе с тем сопутствующий ему феномен дислипидемии изучен недостаточно.
Наличие соматических заболеваний значительно осложняет проведение адекватной психофармакотерапии. Широкое применение атипичных нейролептиков в практике диктует необходимость более глубокого и детального изучения изменений липидного обмена у пациентов, страдающих шизофренией, а для разработки более эффективных реабилитационных программ и более полного клинического описания пациентов данной когорты необходимо проводить исследования их адаптационных возможностей [6].
Обобщая приведенные выше факты, можно сделать вывод о том, что проблема повышения уровня социального функционирования у больных шизофренией является на сегодняшний день крайне актуальной. Психофармакотерапия становится значимым фактором, влияющим на уровень адаптации и качество жизни больных шизофренией [7, 8, 9]. Субъективная удовлетворенность пациента лечением становится залогом формирования терапевтического альянса и повышения комплаентности, что способствует снижению риска нарушения режима терапии и повторных госпитализаций [10, 11].
Цель исследования: изучить особенности адаптации больных параноидной шизофренией с изменившимися показателями липидного обмена сыворотки крови в процессе терапии атипичными нейролептиками и выявить факторы риска формирования метаболического синдрома у данной когорты пациентов.
Материалы и методы исследования . С этой целью на базе отделения эндогенных расстройств ФГБНУ НИИ психического здоровья с 2012 г. начато обследование пациентов, страдающих параноидной шизофренией, в возрасте не моложе 18 лет и с давностью катамне-за не менее 1 года. Диагноз выставлен на основании критериев МКБ-10. Исследование проведено с соблюдением протокола, утвержденного локальным этическим комитетом при ФГБНУ НИИ психического здоровья.
Все пациенты находились на стационарном лечении и в качестве терапии принимали атипичные нейролептики, блокирующие серотониновые и гистаминовые рецепторы (кветиапин, оланзапин, рисперидон) в дозировках: кветиапин 400—600 мг, оланзапин 10—20 мг, рисперидон 4—6 мг в сутки. Всем обследуемым больным дважды осуществлялся забор венозной крови утром натощак в количестве 10 мл. Первая точка – на момент поступления в стационар. Вторая точка – оценка показателей тех же пациентов через 45 дней после начала терапии с целью динамического исследования биохимических показателей: холестерина (ХС), триглицеридов, липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). На всех пациентов заполнялся модифицированный вариант базисной карты, стандартизированного описания больного шизофренией и родственника (Рицнер М. С., Логвинович Г. В., Корнетов Н. А., Красик Е. Д., Залев-ский Г. В., 1985), шкала оценки негативных расстройств у больных шизофренией в ремиссиях (Логвинович Г. В., 1990), шкала позитивных и негативных синдромов (PANSS), шкала глобальной терапевтической оценки (CGI), опросник оценки социального функционирования и качества жизни психически больных (Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., 1998).
Результаты и их обсуждение : Все обследованные пациенты поступали в стационар по показаниям – обострение шизофренического процесса или послабление ремиссии, возникающее в результате нарушения режима терапии (самостоятельное снижение дозировки препаратов, отмена препаратов, нерегулярный прием препаратов). Всего было обследовано 120 пациентов, они были распределены на две группы. В первую (основную) группу вошло 72 человека, которые в качестве терапии получали атипичные антипсихотики: кветиапин, оланзапин, рисперидон в терапевтических дозировках (кветиапин 400—600 мг, оланзапин 10—20 мг, рисперидон 4—6 мг в сутки). Во вторую группу (сравнения) включено 48 человек, которым в качестве терапии назначался галоперидол (10—20 мг), так же в терапевтических дозировках.
Наследственная отягощенность пробандов по шизофрении определялась по степени родства и количеству родственников. Анализировалась медицинская документация, проводился опрос пациентов, их родственников.
У большинства обследованных пациентов обеих групп отношения в семьях характеризовались эмоциональным отчуждением, псевдовзаимностью, расщеплением брака с последующим формированием коалиций, что в сочетании с маятникообразным типом воспитания приводило к чередованию периодов эмоциональной сверхвовлеченности с периодами критичного или безразличного отношения. При этом отношения к родителям отличались зачастую не характерной для их возраста зависимостью, несамостоятельностью, боязнью конфликта. Отношения со сверстниками в детско-подростковом возрасте отмечены отсутствием стремления к лидерству, подчиняемо-стью, отношениями по типу «жертвы».
Пациенты обеих групп не имели достоверных различий по возрасту и полу. Выявлено статистически значимое (p<0,05) преобладание больных в возрасте от 20 до 35 лет – 56,0 % в основной группе и 54,0 % в группе сравнения. Средний возраст начала инициального периода в группе пациентов, принимающих атипичные нейролептики, составил 19,2±6,3 года; в группе пациентов, принимающих галоперидол, – 18,3±7,2 года. При исследовании преморбид-ных особенностей личности обследованных было установлено, что среди пациентов, как в группе принимающих атипичные нейролептики (65 % случаев), так и в группе принимающих галоперидол (60 % случаев) преобладали пациенты с шизоидным складом личности. Преимущественно это были шизоиды мозаичные: в первой группе их было 28 человек, а во второй группе – 14 больных.
Данная группа лиц с шизоидными личностными особенностями характеризовалась таким сочетанием психестетической пропорции (по Кречмеру), при которой трудно было выделить преобладание гиперестетических черт над анестетическими. У этих больных ранимость сочеталась с холодностью, хрупкость с тупостью, взбудораженность с вялостью.
В качестве факторов, спровоцировавших манифестацию заболевания у пациентов обеих групп, чаще всего отмечались психогении на работе или учебе.
Длительность заболевания колебалась от 1 года до 32 лет в обеих группах; в среднем давность заболевания составляла 15,4±7,8 года в основной группе и 10,4±8,8 года в группе сравнения. Отмечалось статистически значимое (p<0,05) преобладание пациентов с давностью заболевания 7 и более лет – 76,3 % в основной группе и 72,2 % в группе сравнения. Отмечалось статистически значимое (p<0,05) преобладание пациентов, имеющих инвалидность по психическому заболеванию – 62 человека (86,1 %) в основной группе и 45 человек (93,7 %) в группе сравнения. В основной группе 43 человека в ремиссиях продолжали работать, в группе сравнения работающих пациентов не было. Характерно, что даже у продолжающих трудиться преобладает отрицательное или безразличное отношение к работе. Это можно объяснить выраженными на момент обследования болезненными изменениями в личностной сфере и негативными расстройствами, ведущими к снижению уровня адаптации и мотивации к сохранению социального и профессионального статуса, решению проблем.
Пациентов с группой инвалидности по соматическому заболеванию не обнаружено ни в одной из групп.
В первые годы активного течения заболевания (в первые 7 лет после возникновения расстройства) у пациентов обеих групп в качестве ведущего чаще всего отмечался синдром Кан-динского-Клерамбо – в первой группе у 58 человек (80,5 %), во второй группе у 32 человек (66,6 %).
Одним из показателей социального функционирования в преморбидном периоде является уровень образования. Отмечалось статистически значимое (p<0,05) преобладание пациентов в первой группе, имеющих среднеспециальное образование (48 человек – 66,6 %) и среднее общеобразовательное образование во второй группе (35 человек – 72,9 %). Анализ семейного статуса пациентов показал, что в начале заболевания в группах достоверно реже встречались женатые (замужние) пациенты, практически все проживали с родителями или одни. Следует отметить, что к моменту осмотра значительное количество пациентов, ра- нее состоявших в браке, развелись. На момент осмотра также статистически значимым было преобладание доли холостых (p<0,05).
Данный факт можно объяснить несколькими причинами: во-первых, у большинства пациентов отмечался ранний возраст начала психического заболевания, высокий темп прогредиентности эндогенного процесса, что в свою очередь приводило к большому количеству разводов; во-вторых, психологическими причинами, когда больные испытывали страх перед образованием собственной семьи, предпочитая оставаться с родителями.
Среди исследованных пациентов в обеих группах преобладали лица с индивидуальной компенсаторно-приспособительной защитой по типу укрытия под опекой – 53 человека (73,6 %) в первой группе и 41 человек (85,4 %) во второй группе.
Характерной особенностью для данного типа защиты является попытка пациентов решать свои проблемы путем регоспитализации, пытаясь найти укрытие под опекой врачей. Данный паттерн приводит к прогрессивной утрате социальных навыков, прекращению попыток самостоятельного совладания с проблемами и, как следствие, к нарастанию паранегативных расстройств и неспособности пациентов адаптироваться в экстрагоспитальном мире.
На момент осмотра среди пациентов, принимающих атипичные нейролептики, статистически значимым было преобладание лиц с экстравертным типом адаптации. Экстравертный вариант характеризовался относительной сохранностью или восстановлением социально полезных функций даже при неблагоприятных клинических предпосылках. Среди пациентов, принимающих галоперидол, напротив, преобладали лица с интравертным типом адаптации (когда у больных отмечался клинически необоснованный регресс социально полезной активности с одновременным формированием тенденций к существованию за счет окружающих), что можно объяснить более эффективным воздействием нейролептиков нового поколения.
Данные лабораторных исследований. Как показал анализ литературных данных, все полученные нами результаты явились следствием блокады используемыми атипичными нейролептиками гистаминовых и серотониновых рецепторов. Увеличение массы тела зафиксировано у 70 % больных первой группы и у 40 % больных второй группы, в среднем отмечалось повышение веса на 1–1,5 килограмма за 45 дней вне зависимости от пола пациентов.
При сравнении показателей липидного обмена достоверных различий между группами в процессе терапии не выявлено.
Исходный липидный профиль характеризовался сопоставимыми показателями. Концентрация холестерина и липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови больных параноидной шизофренией под действием терапии не изменялась и оставалась в пределах референтных значений как в первой, так и во второй группах. Хотя в литературе встречаются данные об увеличении у пациентов уровня холестерина при терапии галоперидолом [12].
До назначения терапии концентрация триглицеридов в сыворотке крови больных не превосходила таковую у здоровых лиц. После терапии атипичными антипсихотиками происходило достоверное (р=0,04) увеличение ТГ в сыворотке крови больных . Достоверное увеличение уровня ТГ у больных шизофренией под влиянием терапии атипичными антипсихотиками подтверждено и в работах других авторов [13, 14]. ТГ составляют основную массу резервных липидов организма, являются главным энергетическим резервом, и увеличение их количества напрямую связано с ростом массы тела. Уровень ТГ у пациентов, принимающих галоперидол, практически не изменяется.
В обеих группах пациентов не обнаружено достоверных отличий в уровне ЛПВП и проективных значений ЛПВП не достигают. Под влиянием терапии атипичными антипсихотиками происходит снижение концентрации ЛПВП, но отсутствие достоверных отличий не позволяет считать эту тенденцию значимой.
Уровень ЛПНП увеличен до лечения и после лечения у пациентов обеих групп по сравнению со здоровыми лицами.
Важной характеристикой считается отношение концентрации ХС и ЛПВП, по их соотношениям рассчитывается индекс атерогенности (ИА). У больных шизофренией обнаружено увеличение ИА до 3,1 в сравнении со здоровыми людьми (2,2) в обеих группах. После терапии ИА увеличивается до 4 в группе пациентов, принимающих атипичные нейролептики. Это значение считается превышающим норму (ИА<3) и свидетельствует о высоком риске развития атеросклероза.
Выводы. Несмотря на то что у пациентов первой группы преобладал экстравертный тип адаптации (при котором психические расстройства в ремиссиях не препятствуют восстановлению или сохранению социально полезных навыков в межприступный период), а у пациентов второй группы преобладал интравертный тип адаптации (при котором отмечается регресс социально полезной активности с одновременным формированием тенденции к существованию за счет окружающих), у больных первой группы выявлены изменения, затрагивающие практически все части липидного спектра в направлении ухудшения прогноза относительно развития соматической патологии (атеросклероза, ИБС, ожирения).
На основании полученных результатов нами были выявлены клинические факторы (в пре-морбиде шизоидный склад личности, давность заболевания 7 и более лет, индивидуальная компенсаторно-приспособительная защита «укрытие под опекой», экстравертный тип адаптации) и социальные факторы (молодой возраст манифестации – от 20 до 35 лет; наличие инвалидности по психическому заболеванию; низкий уровень образования – среднее или среднеспециальное; холостые), а также факторы изменений липидного обмена, являющиеся факторами риска развития соматической патологии. Знание данных факторов позволяет персо-нализированно подходить к процессу ведения больных параноидной шизофренией.
Клинический случай. Пациент С., 43 года.
Наследственность отягощена шизофренией бабушки по линии отца. Пациент родился первым ребенком из 2 детей в полной семье, раннее развитие протекало соответственно возрасту. В возрасте 8 лет был избит соседом. Считает, что с этого времени изменился по характеру, стал несколько замкнутым, предпочитал не участвовать в коллективных играх со сверстниками, а наблюдать за происходящим со стороны; опасался людей. В школе учился хорошо, однако отношения с одноклассниками не сложились, в старших классах терпел насмешки и издевки одноклассников. Предпочитал проводить время в одиночестве, размышлять на философские темы. Десятый класс окончил в другом городе, проживал у родственников.
По окончании школы поступил в Училище связи; окончив его, работал на радиотехническом участке. В 23 года женился, но детей не имеют по причине бесплодия супруги. Отношения в браке на протяжении всей жизни носят теплый, доверительный характер. В 20 лет был призван в армию, где был избит старослужащими, получил черепно-мозговую травму. После возвращения из армии родственники отметили, что пациент изменился по характеру: стал еще более замкнутым и несколько подозрительным. В возрасте 30 лет после переезда в многоквартирный дом начал высказывать подозрения, что соседи плохо к нему относятся, подслушивают, преследуют, подглядывают за ним. Заявлял, что отчетливо слышит «голоса» через стены, которые сообщают ему «много негативной информации». Временами становился агрессивным, бил кулаками по стене, кричал.
По собственному обращению лечился впервые в психиатрическом стационаре. Предполагался диагноз параноидной шизофрении, однако в реабилитационных целях был выставлен диагноз расстройства личности. После выписки чувствовал себя удовлетворительно, продол- жал работать, проживал с женой, занимался домашним хозяйством. Через год вновь был госпитализирован по самообращению. При обследовании сообщал, что слышит множественные голоса внутри головы, которые спорят, заставляют делать что-либо, зачастую противоположные вещи. Испытывал ощущение, что в голове «много мыслей», не может ими управлять, не может сосредоточиться. Считал, что окружающие плохо к нему относятся, считают его сумасшедшим, могут воздействовать на его мысли. Психический статус квалифицировался синдромом Кандинского-Клерамбо. Был выставлен диагноз параноидной шизофрении, однако принято решение остановиться на реабилитационном диагнозе: транзиторное психотическое расстройство. Был выписан с полной редукцией продуктивной симптоматики. После выписки на протяжении 2,5 лет находился в ремиссии, продолжал работать, с производственными обязанностями справлялся, проживал с женой.
Далее пациент госпитализировался в психиатрический стационар ежегодно, всего 21 госпитализация за 20 лет. В динамике продуктивная симптоматика по типу «клише», представленная однообразной фабулой, а именно идеями отношения с бредовой интерпретацией, неврозо- и психопатоподобной симптоматикой, микрокататоническими включениями по типу кратковременного психомоторного возбуждения, сменяющегося замедлением движений, маскообразностью лица и негативизмом в общении. Постепенно нарастали дефицитарные расстройства в виде эмоционально-волевого снижения, специфических расстройств в ассоциативной сфере, психопатоподобного дефекта, социальной дезадаптации. Через 4 года от начала заболевания реабилитационный диагноз заменен на диагноз параноидной шизофрении. Ещё через 3 года пациент получил инвалидность по психическому заболеванию, а в связи с преобладанием в состоянии негативной симптоматики диагноз изменен на резидуальную шизофрению.
В первые 7 лет заболевания в качестве постоянной поддерживающей терапии получал галоперидола деканоат с хорошим терапевтическим эффектом на остаточную параноидную, псевдоневротическую и психопатоподобную, микрокататоническую симптоматику. Однако с появлением нейролептического синдрома в виде тремора конечностей и неусидчивости был назначен корректор. Вес в этот период составлял 78–86 кг. В течение 3 последующих лет принимал участие в различных исследовательских программах, получал атипичные нейролептики (амисульприд, оланзапин). Терапевтический эффект был относительно параноидной симптоматики, но с сохранением псевдоневро- тических и психопатоподобных проявлений. Не отмечалось нейролепсии, однако пациент начинал набирать вес, который колебался в пределах 86—97 кг. Далее в течение 2 лет в связи с отсутствием в аптеках по месту жительства атипичных нейролептиков в качестве поддерживающей терапии принимал пролонгированную форму флюпентиксола с хорошим терапевтическим эффектом на остаточную параноидную, псевдоневротическую и психопатоподобную, микрокататоническую симптоматику. В связи с появлением нейролептического синдрома в виде тремора конечностей и неусидчивости принимал корректирующую терапию. Вес в этот период колебался в пределах 87–92 кг.
Последние 5 лет регулярно принимал рисперидон. На фоне его приема тремора конечностей и неусидчивости не испытывал. Терапевтический эффект отмечался относительно остаточной параноидной симптоматики, однако псевдоневротическая и психопатоподобная симптоматика, а особенно микрокататоническая, не только сохранялась, но и постепенно нарастала. Проявлялась в виде приступов тревоги, раздражительности, гневливости и эпизодов кратковременного психомоторного возбуждения, сменяющегося замедленностью движением, маско-образностью лица, негатививзмом в общении. Для того чтобы снять напряжение, начал эпизодически алкоголизироваться. В связи с нестабильностью состояния суточная доза рисперидона за это время была увеличена с 4 до 8 мг, к лечению были добавлены хлорпромазин, карбамазепин, однако без выраженного терапевтического эффекта. Кроме того, появились и нарастали расстройства сексуальной сферы, вновь начал набирать в весе (с 88 до 102 кг). Все это еще больше усиливало тревогу и дестабилизировало состояние. Пациент пытался ограничивать себя в приеме пищи, пил много кофе и курил до полутора пачек сигарет в день.
Во время последней госпитализации в связи с недостаточным терапевтическим эффектом, наличием пролактинемии и, как ее следствие, увеличением веса и сексуальной дисфункцией при приеме рисперидона пациент вновь был переведен на галоперидол в качестве постоянной поддерживающей терапии. На фоне его приема редуцировалась как отрывочная параноидная, так и псевдоневротическая, микрока-татоническая и частично психопатоподобная симптоматика. Вес пациента снизился до 89 кг, уменьшилась выраженность нарушений в сексуальной сфере. Хотя на фоне приема данного препарата у пациента отмечались легкий тремор конечностей и неусидчивость, которые в большей степени купировались приемом корректора, субъективно эти побочные проявления переживались пациентом легче, чем побочные эффекты рисперидона.
Список литературы Особенности адаптации больных параноидной шизофренией при нейролептической терапии с риском развития метаболического синдрома (изменение показателей липидного обмена сыворотки крови)
- Семке А. В., Рахмазова Л. Д., Лобачева О. А., Иванова С. А., Гуткевич Е. В. Клинические и биологические факторы формирования адаптации больных шизофренией//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2006. -№ 3. -С. 17-21.
- Корнетова Е. Г., Бойко А. С., Бородюк Ю. Н., Семке А. В. Тардивная дискинезия у больных шизофренией: клиника и факторы риска. -Томск: Изд-во ООО «Интегральный переплет», 2014. -106 с.
- Иванова С. А., Федоренко О. Ю., Смирнова Л. П., Семке А. В. Поиск биомаркеров и разработка фармакогенетических подходов к персонализированной терапии больных шизофренией//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2013. -№ 1. -С. 12-16.
- Семке А. В., Ветлугина Т. П., Иванова С. А., Евсеев С. В., Кабанов С. О., Лобачева О. А. Терапия пациентов с резидуальной шизофренией атипичным нейролептиком серковелем//Психиатрия и психофармакотерапия. -2004. -Т. 6, № 4. -С. 168-172.
- Горобец Л. Н. Нейроэндокринные дисфункции у больных шизофренией и шизоаффективным расстройством в условиях современной антипсихотической терапии (клинико-биохимическое исследование): автореф. дис.. д.м.н. -М., 2007. -50 с.
- Смирнова Л. П., Паршукова Д. А., Бородюк Ю. Н., Корнетова Е. Г., Ткачева Г. Д., Серегин А. А., Бурдовицина Т. Г., Семке А. В. Изменения липидного спектра и ЭКГ у больных параноидной шизофренией в процессе терапии атипичными антипсихотика-ми//Журнал неврологии и психиатрии. -2015. -№ 3. -С. 38-42.
- Корнетов А. Н. Оценка депрессивных расстройств у больных, страдающих соматическими заболеваниями, в условиях первичной медицинской сети//Рос. психиатр. журн. -2007. -№ 1. -С. 37-41.
- Kornetov A. Old age psychiatry: training in Siberia//Mental Health Reforms. -2002. -V. 7, № 2. -P. 7-8.
- Мухаметшина З. Ф. Социальное функционирование и качество жизни больных шизофренией (клинико-социальные и психологические аспекты): дис.. к.м.н. -М., 2009. -126 с.
- Дмитриева Е. Г., Даниленко О. А., Корнетова Е. Г., Семке А. В., Лобачева О. А., Гуткевич Е. В., Каткова М. Н. Комплаенс и его влияние на адаптацию пациентов с шизофренией//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2014. -№ 3 (84). -С. 18-23.
- Smith F. A., Wittmann C. W., Stern T. A. Medical complications of psychiatric treatment//Crit. Care. Clin. -2008. -V. 24 (4). -P. 635-656.
- Барденштейн Л. М., Мкртумян А. М., Алекшина Г. А. Состояние углеводного и липидного обмена у больных параноидной шизофренией при терапии атипичными антипсихотическими препаратами//Сахарный диабет. -2010. -№ 2. -С. 42-44.
- Мартынихин И. А. Метаболический синдром у больных шизофренией: Дис.. к.м.н. -СПб., 2009. -152 с.
- Озорнин А. С., Озорнина Н. В., Говорин Н. В. Некоторые патофизиологические механизмы изменения липидного спектра крови при антипсихотической терапии у больных острой шизофренией//Социальная и клиническая психиатрия. -2013. -№ 2. -С. 45-49.