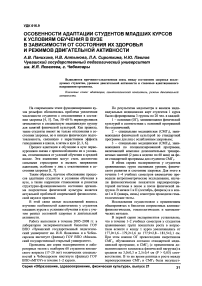Особенности адаптации студентов младших курсов к условиям обучения в вузе в зависимости от состояния их здоровья и режимов двигательной активности
Автор: Панихина А.В., Алтынова Н.В., Сироткина Л.А., Павлов Н.Ю.
Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu
Рубрика: Интегративная физиология
Статья в выпуске: 39 (172), 2009 года.
Бесплатный доступ
Выявляется причинно-следственная связь между состоянием здоровья исследуемых студентов, уровнем двигательной активности и степенью адаптационного напряжения организма.
Адаптация, гематологический показатель, режим двигательной активности
Короткий адрес: https://sciup.org/147152637
IDR: 147152637 | УДК: 616.9
Текст научной статьи Особенности адаптации студентов младших курсов к условиям обучения в вузе в зависимости от состояния их здоровья и режимов двигательной активности
На современном этапе функционирования вузов рельефно обозначилась проблема увеличения численности студентов с отклонениями в состоянии здоровья [4, 5]. Так, 50-60 % первокурсников зачисляются в специальную медицинскую группу для занятий физической культурой. Как правило, такие студенты имеют не только отклонения в состоянии здоровья, но и низкую физическую подготовленность, связанную с нарастанием эффекта гиподинамии в школе, а затем в вузе [2, 3,6].
Процесс адаптации к обучению в вузе первокурсников связан с приспособлением их к условиям, отличающимся от условий обучения в средней школе. Эти изменения могут стать достаточно сильными стрессорами и вызвать напряжение адаптации, особенно у лиц с отклонениями в состоянии здоровья [1,7].
Таким образом, научное обоснование процессов адаптации студентов к условиям обучения в вузе, а также коррекции становления и развития структурно-функционального состояния организма посредством физической культуры является актуальной проблемой современной физиологической науки и практики.
В этой связи целью исследований явилось изучение особенностей адаптогенеза у студентов младших курсов к условиям обучения в вузе с учетом разных состояний здоровья и двигательной активности.
Работу выполняли в течение 2005-2008 гг. в лаборатории экспериментальной биологии ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» и в Чебоксарском институте (филиал) ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет».
Проведены две серии экспериментов и лабораторных тестов с подбором 60 студентов юношеского возраста (17-20 лет) технических специальностей в Чебоксарском институте (филиал) ГОУ ВПО «МГОУ» в течение 1-2 курсов.
По результатам медосмотра и анализа индивидуальных медицинских карт студентов 1 курса были сформированы 3 группы по 20 чел. в каждой:
-
1 - основная (ОГ), занимающаяся физической культурой в соответствии с основной программой без ограничений;
-
2 - специальная медицинская (СМГ^, занимающаяся физической культурой по стандартной программе для лиц с ослабленным здоровьем;
-
3 - специальная медицинская (СМГ2), занимающаяся по специализированной программе, включающей комплекс дополнительных тренировочных занятий (2 раза в неделю по 60 мин) на фоне стандартной программы для студентов СМГЬ
В обеих сериях экспериментов у студентов сравниваемых групп оценивали уровень физического развития и состояние здоровья. Для этого в течение 1-4 учебных семестров ежемесячно проводили антропометрические исследования, изучали физиологические показатели кардиореспира-торной системы в покое и после физической нагрузки. В начале I и II (сентябрь, февраль) и в конце I и II (январь, июнь) семестров проводили гематологические тесты.
Исследования осуществляли с применением общепринятых в биологии современных клиникофизиологических, гематологических и математических методов.
В первой серии экспериментов установлено, что в течение 1-2 учебных семестров у студентов сравниваемых групп показатели роста в возрастном аспекте к концу 1 курса увеличивались от 177,0±1,6-179,2±1,6 до 177,9±2,8-181,5±2,1 см. При этом юноши ОГ превосходили сверстников СМГЬ обучавшихся согласно стандартной медицинской программе, и СМГ2 (с применением дополнительного комплекса физической нагрузки) в среднем на 3,0±0,3 и 2,5±0,4 см (Р > 0,05) соответственно. В то же время разница в росте между первокурсниками СМГ! и СМГ2 была несущест- венной и составила 0,5±0,2 см в пользу студентов СМГ2.
Характер изменений массы тела у исследуемых студентов в целом соответствовал динамике их ростовых показателей. Так, к концу 2 семестра у юношей ОГ масса тела составила 70,8±2,1 кг, СМГ1 - 67,7±1,5, СМГ2 - 70,5±2,3 кг (Р > 0,05).
Установлено, что значения индекса Кетле, характеризующего физиологическую избыточность или недостаточность массы тела, находились в пределах нормы для данной возрастной категории юношей (21,2±0,1 -22,5±0,1 кг/м2). Причем минимальные его значения были характерны для студенческой молодежи ОГ, а максимальные - для студентов СМГ2 (Р > 0,05).
На протяжении первых двух семестров окружность грудной клетки (ОГК) у юношей всех исследуемых групп имела тенденцию к увеличению в возрастном аспекте от 86,4±0,8- 89±1,1 до 88,0±0,5 - 92,8±0,8 см. Так, если в начале 1 учебного семестра разница между параметрами ОГК у студентов сопоставляемых групп была незначительной (1,2±0,3-2,6±0,5 см), то к концу 2 семестра она заметно увеличилась в пользу юношей из ОГ и СМГ2 (соответственно между первокурсниками ОГ и CMTi - 4,8±1,0 см; СМГ! и СМГ2 -4,5±1,1 см; Р> 0,05).
Отмечено, что от начала учебного года к его завершению силовой индекс кисти (СИ) у юношей сравниваемых групп возрастал: в ОГ от 62,5±4,2 до 64,2±2,5%; CMTi - от 60,1±3,1 до 61,5±2,1; СМГ2 - от 61,8±5,1 до 63,7±1,3 %. В то же время различие в этом показателе в обозначенные сроки исследований было недостоверным.
Аналогичная закономерность обнаружена в характере изменений силового индекса спины (СИС). Причем у юношей из ОГ и СМГ2, имевших большую двигательную активность по сравнению со студентами из СМГЬ увеличение СИС происходило более выразительно (на 1,8 %, Р > 0,05).
Если в начале первой серии экспериментов изучаемые студенты всех групп имели хорошее телосложение (индекс Пинье - 19,3±0,7 - 20,2±1,1), то в ее конце юноши ОГ имели среднее телосложение (21,1±0,9), а их ровесники CMTi и СМГ2 -исходный тип телосложения (ИП соответственно 20,7±1,5 и 20,9±0,4).
Выявлено, что число эритроцитов в крови у первокурсников ОГ в течение исследований колебалось от 4,6±0,2 до 5,1±0,1 млн/мкл, СМГ1 -от 4,6±0,1 до 4,9±0,2, СМГ2 - от 4,6±0,4 до 5,0±0,2 млн/мкл. При этом в июне у юношей из СМГ1 и СМГ2 оно по сравнению с таковым у их сверстников из ОГ было меньше соответственно на 5,9 и 3,9 % (Р < 0,05). В то же время студенческая молодежь из СМГ2 превосходила по данному гематологическому показателю студентов из СМГi на 2,0 % (Р > 0,05).
Характер изменений концентрации гемоглобина в крови у первокурсников сравниваемых групп в целом соответствовал динамике количества эритроцитов.
Установлено, что число лейкоцитов у юношей исследуемых групп на протяжении первого учебного года находилось в пределах колебаний физиологической нормы и волнообразно нарастало по мере их взросления (4,8±0,1 - 5,0±0,0 против 6,0±0,2 - 6,3±0,3 тыс/мкл; Р > 0,05).
Аналогичная закономерность отмечена в динамике скорость оседания эритроцитов (СОЭ), которая в начале исследований у юношей ОГ составила 1,9±0,3 мм/ч, СМГ! - 2,0±0,1, СМГ2 - 1,7±0,1, а к их концу - 2,0±0,1; 2,8±0,2 и 2,5±0,4 мм/ч соответственно. В конце 1 семестра (январь) у студентов из СМГ! и СМГ2 этот показатель был выше такового у юношей ОГ на 9,1 (Р < 0,05) и 0,1 % (Р > 0,05), а в конце 2 семестра (июнь) - на 28,6 и 20,0 % (Р < 0,05) соответственно.
Причем во все сроки исследований различие в СОЭ у юношей из CMTi и СМГ2 было недостоверным.
Установлено, что цветной показатель (ЦП) крови у первокурсников сопоставляемых групп по мере их взросления волнообразно нарастал к концу наблюдений от 0,98±0,00 - 0,99±0,00 до 0,99±0,00- 1,00±0,00 у. е. и разница в нем в межгрупповом разрезе была недостоверной.
Йтак, результаты первой серии исследований свидетельствуют о том, что у студенческой молодежи всех групп происходили адаптационные перестройки организма, выразившиеся в возрастании массы тела, роста, окружности грудной клетки, индекса ведущей кисти, спины и гематологического профиля. При этом выявленные особенности в соматометрических, физиометрических и гематологических параметрах у юношей ОГ, СМГ1 и СМГ2 свидетельствуют об их зависимости от состояния здоровья и уровня двигательной активности организма.
Установлено, что частота сердечных сокращений (ЧСС) у первокурсников сравниваемых групп волнообразно увеличивалась в возрастном аспекте как в покое (от 65,4±2,8 - 68,0±1,3 до 77,4±1,1 -79,4±1,2 уд/мин), так и после стандартной функциональной нагрузки (от 120,2±1,8-129,0±1,4 до 122,1±2,1 - 128,0±2,1 уд/мин). При этом в покое у студентов CMTi значения ЧСС в периоды зимней и летней экзаменационных сессий (февраль, июнь) превышали таковые у сверстников из ОГ на 2,8-3,2 % (Р < 0,05).
Динамика ЧСС после нагрузки у студенческой молодежи всех групп всецело соответствовала характеру изменений таковой в покое.
Значения пульсового давления (ПД) у изучаемых первокурсников волнообразно колебались на протяжении всего эксперимента: из ОГ от 53,8±2,1 до 48,7±2,3; CMTi от 55,0±1,1 до 59,1±1,4; СМГ2 от 56,9±1,0 до 55,3±1,1 мм рт. ст. При этом студенты СМГ2 превосходили по рассматриваемому параметру юношей ОГ в сентябре, декабре и июне соответственно на 5,4; 4,0 и 11,9% (Р < 0,05). Также отмечена достоверная разница в ПД в пользу юношей СМГ2 в марте и июне по отношению к сверстникам СМГ] (Р < 0,05).
Аналогичная закономерность в динамике анализируемого гемодинамического показателя выявлена до и после функциональной нагрузки на организм. Так, у юношей из СМГ2 к концу теоретического обучения 2 семестра (май) и летней экзаменационной сессии (июнь) отмечены более низкие значения ПД по сравнению с таковыми у ровесников из СМГ] соответственно на 4,5 и 4,1 % (Р < 0,05).
Значения АДС до стандартной нагрузки на организм у юношей ОГ, СМГ] и СМГ2 во все сроки исследований колебались волнообразно, которые были максимальными в январе (соответственно 132,0±1,8; 135,2±2,2 и 137,2±1,8 мм рт. ст.). На момент завершения 1 серии экспериментов у студентов ОГ они были ниже, чем таковые у сверстников СМГ] и СМГ2 на 11,9 и 6,9 мм рт. ст. (Р < 0,05) соответственно.
После функциональной нагрузки на организм отмечены волнообразные изменения показателей АДС от 129,1 ± 2,6 до 145,6 ± 2,3 мм рт. ст., которые в октябре, ноябре, декабре и июне были выше у юношей СМГ] в сравнении с их ровесниками СМГ2 и ОГ соответственно на 2,1 (Р > 0,05) - 8,8 % (Р < 0,05).
Значения АДС у юношей СМГ2 в сентябре, октябре и июне были меньше, чем таковые у их сверстников СМГ] (Р < 0,05).
Установлено, что до функциональной нагрузки на организм параметры АДД у юношей наблюдаемых групп повышались от начала первого семестра (сентябрь) до его завершения (январь) (69,4±1,271,2±1,7 против 76,1±2,1 - 78,4±2,2 мм рт. ст.) с последующим понижением к концу теоретического обучения 2 семестра (май) до70,0±1,5 -71,0±1,7 мм рт. ст. В то же время разница в АДД на протяжении 1 серии наблюдений между студентами ОГ, СМГ ] и СМГ2 была недостоверной.
Характер изменений АДД после функциональной нагрузки на организм в целом соответствовал динамике такового до стандартной нагрузки.
Выявлено, что у студентов всех групп значения систолического объема кровообращения (СОК) волнообразно уменьшались от начала к концу учебного года (75,4±1,4-75,9±1,4 против 70,6±1,8 -72,1±1,7 мл). При этом в марте у юношей СМГ] данный гемодинамический показатель был ниже такового у их сверстников ОГ и СМГ2 соответственно на 10,3 и 7,2 % (Р < 0,05), а в мае достоверное различие обнаружено между юношами из ОГ и СМГ] в пользу учащейся молодежи ОГ.
Динамика значений СОК после стандартной нагрузки на организм в целом соответствовала характеру их колебаний до нагрузки.
Установлено, что значения минутного объема кровообращения (МОК) до стандартной нагрузки на организм у исследуемых студентов на протяжении 1 серии экспериментов увеличивались от 4954,7±250,3 - 5123,8±235,4 до 5522,5±218,75619,9±220,5 мл. Причем в марте, апреле и мае изучаемый гемодинамический показатель у юношей из СМГ] и СМГ2 был выше, чем таковой у их сверстников из ОГ на 230,6-589,7 мл (Р < 0,05).
Иная закономерность выявлена в динамике значений МОК после функциональной нагрузки на организм, которые у исследуемых первокурсников волнообразно уменьшались от начала 1 серии экспериментов к их концу (9628,6±210,4 - 10032,4±283,2 против 9348,0±290,8 - 9447,4±290,6 мл).
Значения МОК у юношей из СМГ ] в октябре, ноябре, декабре, марте и мае были выше соответственно на 10,2; 4,4; 7,7; 5,2 и 5,3 % (Р < 0,05) по сравнению с таковыми у сверстников из ОГ. Причем первокурсники СМГ2 в сентябре имели значительно низкое значение МОК, нежели юноши ОГ (Р < 0,05). Также достоверная разница обнаружена в этом показателе в октябре, ноябре и декабре у студентов из СМГ2 по отношению к ровесникам из СМГ].
Установлено, что показатели пробы Руфье-Диксона у студентов всех групп колебались в пределах от 2,3±0,5 до 5,4±0,4 у. е., которые в СМГ] и СМГ2 были выше, чем таковые в ОГ на 9,8 (Р > 0,05) -42,5 % (Р < 0,05). В январе, феврале, мае и июне также выявлено достоверное различие в этом параметре в разрезе первокурсников специальных медицинских групп.
У студенческой молодежи сравниваемых групп во все сроки исследований жизненная емкость легких (ЖЕЛ) колебалась в пределах физиологической нормы для данной возрастной категории от 4649,8±19,3 до 4984,8±34,3 мл. При этом в феврале, апреле, мае и июне студенты СМГ ] имели меньшую ЖЕЛ по сравнению со сверстниками ОГ на 198,3, 195,5 и 241,3 мл (Р < 0,05) соответственно.
В течение 1 серии экспериментов значения жизненный индекс (ЖИ) у студентов изучаемых групп колебались от 68,2 ±0,1 до 70,6 ± 0,3 мл/кг (Р > 0,05).
Отмечено, что у юношей из ОГ показатели пробы Штанге увеличились от начала первого к концу второго семестров (51,9±9,2 против 56,7±5,2 с), СМГ] -(48,2±6,7 против 49,7±4,1), из СМГ2 - (50,1±8,2 против 52,1±5,2 с). Причем на протяжении исследований эти значения у студенческой молодежи ОГ были несколько выше, чем таковые у их сверстников СМГ2 и СМГ].
Аналогичная закономерность выявлена в характере колебаний значений пробы Генча.
Таким образом, выявленные особенности в динамике показателей кардиореспираторной системы у студентов адекватно отражали различный уровень ее функционирования в процессе адаптации организма к условиям обучения в вузе. При этом показатели функциональной деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем у юношей СМГ2 были более высокими по отношению к таковым у ровесников из СМГ i.
Установлено, что значения адаптационного потенциала (АП) у исследуемых студентов имели тенденцию к возрастанию от начала 1 семестра к его концу (1,3±0,1 -1,4±0,1 против 1,5±0,2- 1,6±0,2 у. е.). При этом в январе его значения были достоверно ниже у студенческой молодежи ОГ, нежели у их сверстников СМГi и СМГ2.
Аналогичная закономерность выявлена в характере колебаний параметров АП у юношей и в течение 2 учебного семестра.
Итак, у студентов-первокурсников сравниваемых групп в течение 1-2 учебных семестров разница в АП была незначительной (Р > 0,05), за исключением ровесников из CMTi и СМГ2 в период зимней (январь) и летней (июнь) экзаменационных сессий (Р < 0,05). Этот факт свидетельствует о наличии причинно-следственных отношений между состоянием здоровья изучаемых студентов, уровнем двигательной активности и адаптационного напряжения организма.
В ходе второй серии экспериментов у студентов сравниваемых групп рост и масса тела продолжали увеличиваться от начала учебного года к его завершению (соответственно 177,8±1,3 - 181,6=Ы,5 против 178,2±1,4- 182,0±1,4 см и 67,8±2,5 - 70,9±2,2 против 68,2±1,6-72,0±1,4 кг). При этом в конце четвертого семестра (июнь) разница в массе тела между студентами из СМГ! и СМГ2 составила 4,2 % (Р < 0,05).
Установлено, что значения ИК у второкурсников из ОГ волнообразно колебались в возрастном аспекте от 22,1±0,1 до 21,7±0,3 у. е., CMTi -от 21,6±0,1 до 22,5±0,3, СМГ2 - от 22,4±0,2 до 22,5±0,4 у. е. Причем в мае и июне данный индекс у юношей ОГ превышал таковой у ровесников СМГ 1 на 4,5 и 3,3 % (Р < 0,05) соответственно.
Выявлено, что динамика показателей ОГК в фазе вдоха и выдоха у студентов наблюдаемых групп имела тенденцию к увеличению от начала учебного года к его концу (90,3±0,7 - 94,6±0,7 против 92,1±0,8 - 94,8±1,0 см и 86,5±1,0 - 89,5±0,3 против 86,6±1,2 - 89,6±0,4 см; Р > 0,05). При этом параметры ОГК в период паузы у студенческой молодежи из ОГ в конце четвертого учебного семестра были больше на 5,3 (Р < 0,05) и 0,3 % (Р > 0,05) по сравнению с таковыми у сверстников из СМГ i и СМГ2. Также в июне юноши СМГ2 превосходили по изучаемому показателю оценки физического развития второкурсников из СМГi на 5,0 % (Р < 0,05).
Отмечено, что параметры СИ у второкурсников сравниваемых групп по мере их взросления увеличивались от 61,8±2,1 - 64,3±4,2 до 62,1±2,1 -65,1±3,1 %, которые у студентов ОГ в конце третьего (январь) и четвертого (июнь) семестров были выше на 4,2 и 4,6 % (Р < 0,05), чем у их сверстников из СМГЬ
Аналогичная закономерность обнаружена в динамике СИС, показатели которой у наблюдае мых юношей увеличивались от начала к концу 2 учебного года (69,8±1,5 - 72,1±2,2 против 69,8±0,9 -72,4±1,5 %).
Установлено, что если в начале третьего семестра (сентябрь) у второкурсников из ОГ, СМГ i и СМГ2 значения ИП составили 21,0±1,2, 21,2±0,9 и 21,0±1,1 у. е., то к его концу - 20,7±1,2, 20,4±1,0 и 20,4±0,3 у. е. соответственно. При этом у студентов ОГ и СМГ2 в январе значения данного индекса были меньше, чем таковые у их сверстников СМГi соответственно на 4,7 и 4,3 у. е. (Р < 0,05).
Количество эритроцитов в крови у второкурсников наблюдаемых групп увеличивалось от начала третьего к концу четвертого семестра (4,7±0,1 -5,0±0,1 против 4,9±0,4 - 5,2±0,4 млн/мкл). Причем юноши ОГ превосходили по данному гематологическому параметру сверстников CMTi в сентябре, январе и июне на 6,0, 4,0, 5,8 %, а СМГ2 - в сентябре и июне на 4,1-3,9 % (Р < 0,05) соответственно.
Иная картина установлена в динамике числа лейкоцитов в крови, которая имела тенденцию к снижению от начала к концу учебного года без существенных различий в межгрупповом разрезе (5,9±0,1 - 6,2±0,1 против 5,8±0,2 - 6,0±0,1 тыс/мкл).
Характер изменений уровня гемоглобина в целом соответствовал динамике количества эритроцитов.
Установлено, что в течение 3-4 учебных семестров у изучаемых второкурсников СОЭ увеличивалась в возрастном аспекте: в ОГ - от 1,9±0,2 до 2,0±0,2; СМГ! - от 2,0±0,3 до 2,3±0,3; СМГ2 -от 2,0±0,2 до 2,1±0,3 мм/ч. При этом юноши из СМГ 1 превосходили по данному гематологическому параметру сверстников из ОГ на 16,7 % (Р < 0,05).
Во второй серии экспериментов динамика ЦП у исследуемой студенческой молодежи в основном соответствовала характеру колебаний такового в первой серии исследований.
Таким образом, процесс адаптации студентов-второкурсников к условиям обучения в вузе сопровождался некоторым повышением показателей физического развития и гематологического профиля организма. Причем у юношей СМГ2, занимавшихся в соответствии со специальной медицинской программой для лиц с ослабленным здоровьем и с применением разработанного нами дополнительного комплекса физической нагрузки, изученные морфофизиологические показатели были более рельефными, нежели у сверстников СМГ ь
Выявлено, что у всех юношей ЧСС в покое в ходе наблюдений волнообразно увеличивалась по мере их взросления (75,4±1,2 - 78,0±1,2 против 76,6±1,6 -79,5±2,2 уд/мин). При этом в конце третьего и четвертого семестров у студентов-второкурсников ОГ она была меньше, нежели у их сверстников СМГ! и СМГ2, на 3,7-3,2 и 4,4 (Р < 0,05) -3,2 (Р > 0,05) уд/мин соответственно.
Аналогичная закономерность отмечена у исследуемых студентов в динамике ЧСС после функциональной нагрузки.
В течение второго учебного года выявленные значения ПД у студенческой молодежи из ОГ до функциональной нагрузки на организм волнообразно колебались с тенденцией к снижению к концу наблюдений соответственно от 50,1±1,1 до 48,6±1,3; СМГ] - от 56,9±1,2 до 56,5±1,6; из СМГ2 -от 54,8±1,1 до 52,2±1,6 мм рт. ст. Причем, в сентябре, январе и июне данный показатель у юношей ОГ был меньше такового у сверстников СМГ] на 12,0,11,3 и 14,0 % (Р < 0,05) соответственно.
Характер колебаний изучаемого гемодинамического параметра после нагрузки на организм в целом соответствовал динамике такового до нагрузки.
В ходе второй серии экспериментов значения АДС у студентов сравниваемых групп до функциональной нагрузки на них имели тенденцию к уменьшению в возрастном аспекте (122,1±1,2 -130,1±1,1 против 120,0±1,3 - 129,5±1,1 мм рт. ст). Следует отметить, что в начале учебного года (сентябрь), в конце третьего (январь) и четвертого (июнь) семестров у юношей из СМГ ] имело место превышение АДС по сравнению со сверстниками из ОГ соответственно на 8,0, 9,1 и 9,5 мм рт. ст (Р<0,05).
Аналогичная картина наблюдалась в динамике АДС после функциональной нагрузки на организм.
Установлено, что у студентов-второкурсников колебания значений АДС как до функциональной нагрузки на организм, так и после неё были в диапазоне изменений физиологической нормы, которые снижались от начала учебного года к его концу (73,0 ± 1,0-75,2 ± 1,3 против 72,8 ± 1,2-74,1 ± 1,5 мм рт. ст).
У юношей всех групп значения СОК до нагрузки волнообразно уменьшались от начала третьего к концу четвертого учебного семестров (71,8 ± 1,2-74,4 ± 1,5 против 71,4 ± 1,5-74,4 ± 1,0 мл), которые у студентов из СМГ i по отношению к таковым у ровесников из ОГ были достоверно выше (71,4 ± 1,5 против 74,4 ±1,0 мл). В остальные сроки исследований значительных различий в СОК в межгрупповом разрезе не выявлено (Р > 0,05).
Если значения СОК у юношей ОГ и СМГ2 после функциональной нагрузки волнообразно снижались от сентября к июню (76,0±2,4 - 76,6±2,1 против 75,1±2,9-76,2±2,7 мл), то у сверстников СМГь наоборот, увеличивались от 7б,8±2,5 до 77,4±2,0 мл (Р > 0,05).
Выявлено, что у исследуемых студентов МОК до нагрузки на организм волнообразно увеличивался от начала второго учебного года к его завершению (5410,0±305,2 — 5805,5±254,7 против 5466,2±345,1 - 5888,5±145,3 мл), который в январе и июне у юношей СМГ] был выше соответственно на 431,3 и 422,3 мл (Р < 0,05), чем в контроле. В то же время разница в данном показателе между ровесниками СМГ) и СМГ2 была несущественной (Р>0,05).
Анализ значений МОК у юношей из СМГ i и СМГ2 после функциональной нагрузки показал, что они несколько увеличивались в возрастном аспекте соответственно от 9735,7±215,6 до 9881,3±211,1 и от 9492,2±200,6 до 9555,5±127,8 мл, а у сверстников из ОГ, напротив, снижались от 9129,2±198,8 до 9083,5±213,5 мл. При этом в октябре, декабре, мае и июне студенческая молодежь ОГ имела относительно низкие показатели МОК, нежели их ровесники СМГ] и СМГ2, соответственно на 6,5-8,1 % и 1,1-5,7 % (Р < 0,05). Также отмечены более низкие значения изучаемого параметра у студентов СМГ2 в декабре и мае по сравнению с таковыми их сверстников СМГ ь которые были меньше соответственно на 668,5 и 454,2 мл (Р < 0,05).
Если параметры функциональной пробы Руфье-Диксона у юношей ОГ и СМГ2 медленно снижались от начала второго учебного года к его завершению (3,0±0,2 - 3,2±0,3 против 2,5±0,3 - 3,1±0,2 у. е.), то у ровесников СМГЬ наоборот, повышались от 4,2±0,2 до 5,5±0,1 у. е. Причем на протяжении наблюдений они у студенческой молодежи из СМГ] были выше, чем таковые у сверстников из ОГ и СМГ2 соответственно на 28,8 % (Р > 0,05) - 57,4 % (Р < 0,05).
Установлено, что у студентов-второкурсников ОГ в ходе 2 учебного года ЖЕЛ была несколько больше таковой, чем у их сверстников из специальных медицинских групп на 3,3-5,3 % (Р > 0,05).
У юношей сравниваемых групп значения ЖИ изменялись по мере их взросления от 68,6±0,1 -70,4±0,1 до 68,3±0,1-70,0±0,2 мл/кг, которые в ОГ были более высокими на 0,1-2,6 % (Р > 0,05), чем в специальных медицинских группах.
Отмечено, что значения пробы Штанге в течение 2 учебного года у студентов из ОГ волнообразно колебались от 54,8±0,9 до 57,5±0,5, из СМГ] -от 50,8±0,7 до 50,9±0,7, из СМГ2 - от 52,0±0,6 до 53,0±0,7 с. При этом у юношей СМГ] данная проба имела меньшие показатели, нежели у сверстников из СМГ2 и, особенно, из ОГ соответственно на 3,3 (Р > 0,05) - 12,3 % (Р < 0,05). Разница в значениях пробы Штанге между ровесниками специальных медицинских групп во все сроки исследований была несущественной.
Аналогичная закономерность выявлена в характере изменений параметров пробы Генче.
Таким образом, функциональное состояние кардиореспираторной системы студентов второго года обучения в основном соответствовало физиологическим показателям, присущим юношам данной возрастной группы. Причем необходимо отметить, что применение разработанного нами дополнительного комплекса физических упражнений для студентов младших курсов с ослабленным здоровьем вносит положительные коррективы в деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, что способствует успешной адаптации юношей к условиям обучения вузе.
Установлено, что в течение 3-4 учебных семестров у исследуемых юношей АП волнообразно колебался в возрастном аспекте от 1,4±0,2 - 1,5±0,2 до 1,3±0,2- 1,5±0,1 у. е., который в зимнюю (январь) и летнюю (июнь) экзаменационные сессии был ниже в ОГ по сравнению в СМГ! и СМГ2 соответственно на 9,0 (Р < 0,05) - 6,9 % (Р > 0,05) и 10,3 (Р < 0,05) - 6,8 % (Р > 0,05). При этом разница в АП между студентами-второкурсниками специальных медицинских групп на протяжении наблюдений была незначительной (Р > 0,05).
Таким образом, установлено, что в течение 1-4 учебных семестров у студентов младших курсов, срывов в реализации механизмов адаптации не наблюдалось. Причем у юношей из ОГ и СМГ2 по сравнению с ровесниками из СМГ i отмечалось относительно слабое напряжение морфофизиологических механизмов, направленных на успешную адаптацию организма к условиям обучения вузе.
Список литературы Особенности адаптации студентов младших курсов к условиям обучения в вузе в зависимости от состояния их здоровья и режимов двигательной активности
- Агафонов А. В. Особенности адаптации студентов к условиям обучения в вузе в зависимости от разных режимов двигательной активности/А. В. Агафонов, А. А. Шуканов//Вестник докторантов, аспирантов и студентов Чувашского госпедуниверститета. -Чебоксары, 2008. -№1(11).-Т.1.-С.36-42.
- Абзалова Д.М. Функциональная адаптация студентов к учебному процессу/Д.М. Абзалова, Т.В. Болтина//Физиологические механизмы адаптации растущего организма: материалы IX Всерос. науч.-теоретич. конф. -Казань, 2008. -С. 10-11.
- Вадиков А.Ф. Теория функциональных систем П.К. Анохина в изучении психофизиологических показателей результативной деятельности студентов/А.Ф. Вадиков, Е.В. Быкова, КВ. Кли-мина//Вестник Российской академии медицинских наук. -1997. -№12.-С. 45-49.
- Быков Е.В. Влияние уровня двигательной активности на функциональное состояние здоровья учащихся 12-17 лет и физиологическое обоснование оздоровительных программ: автореф. дис.... докт. мед. наук/Е.В. Быков. -Курган, 2002. -50 с.
- Kovanen V. Effect of age and life-time physical training of fibre composition of slow and skeletal muscle in rats/V. Kovanen//Pflugers Arch. -1997. -V. 400.-P. 543-551.
- Назмутдинова В.И. Динамика физического развития и функционального состояния кардио-респираторной системы у студентов вузов с различной двигательной активностью: автореф. дис.... канд. биол. наук/В.И. Назмутдинова. -Тюмень, 2006.-20 с.
- Симзяева Е.Н. Влияние двигательной активности на особенности адаптации организма студенток с отклонениями в состоянии здоровья к условиям обучения в вузе: дис.... канд. биол. наук/Е.Н. Симзяева. -Чебоксары, 2002. -121 с.