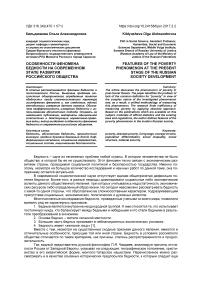Особенности феномена бедности на современном этапе развития российского общества
Автор: Кильдюшева Ольга Александровна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен бедности в постсоветской России. Выявлена проблема отсутствия общепринятого определения понятия «бедность» ввиду сложносоставного характера исследуемого феномена и, как следствие, единой методологии измерения данного явления. Обозначена неэффективность измерения бедности с использованием абсолютного подхода. Опираясь на имеющиеся публикации, материалы официальной статистики и действующие нормативно-правовые акты, автор выделяет особенности феномена бедности в современном российском обществе.
Короткий адрес: https://sciup.org/14938857
IDR: 14938857 | УДК: 316.342(470
Текст научной статьи Особенности феномена бедности на современном этапе развития российского общества
Бедность – одна из негативных проблем любой страны. В истории человечества не было общества, в которой бы ее не существовало. Этот феномен тесно связан с экономическим развитием страны, проводимой социальной политикой и безопасностью государства. Именно поэтому, несмотря на большое количество исследований и научных работ по данной теме, она по-прежнему остается актуальной.
В современной социологической науке отсутствует единая общепринятая дефиниция понятия бедности. Более того, в разные периоды доминировали социальные либо экономические аспекты данного общественного явления, при которых учитывались недостаточность экономических ресурсов либо определенный образ жизни. Но сегодня невозможно рассматривать бедность с какой-то одной стороны, что обусловлено ее сложносоставным характером, подразумевающим присутствие социальных, экономических, политических и духовных аспектов.
Многочисленные исследования бедности, проведенные учеными со всего мира, позволили выявить ряд ее характерных признаков:
-
1. Бедные являются внутренне неоднородной группой. К ним относятся те, кто испытывает постоянную нужду, кто балансирует между бедными и небедными и кто стали бедными в результате преобразований в экономике.
-
2. Основа бедных – жители сельской местности.
-
3. Бо̀ льшая часть бедных проживает в неблагоприятных экологических условиях.
-
4. Бедность имеет «женское лицо» [1].
Вместе с тем, несмотря на существенные сходные признаки данного явления, имеются и отличительные особенности, присущие той или иной стране. Бедность в условиях российского общества отличается по таким критериям, как причины, степень распространенности и продолжительность.
Так, видный представитель русской философии П.Я. Чаадаев, анализируя причины отсталости России от Западной Европы, указывал на следующие: географическое положение, христианство в его византийской форме, монголо-татарское нашествие. Перечисленное можно рассматривать и в качестве основных исторических предпосылок бедности, к которым следует еще отнести крепостное право. А с распадом СССР и трансформацией российского общества бедность приобрела беспрецедентные степень распространенности и продолжительность.
Обращаясь к данным статистики, следует отметить, что в 1995 г. уровень бедности в России составлял 24,8 % [2]. Пик уровня бедности пришелся на 1998–1999 гг. Финансовый кризис 1998 г. привел к тому, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 47 % населения страны, а годом позже достигла 56 % [3]. При этом социальный состав бедного населения был представлен теми категориями граждан, которые должны формировать фундамент среднего слоя, а именно пенсионеры и работники бюджетной сферы, в том числе врачи и учителя.
К 2010 г. численность бедного населения в стране сократилась и составила 12,5 %. В это же время подошел к концу двадцатипятилетний период масштабных реформ и процесс формирования новой социальной структуры. В этот период ученые высказывали надежду, что в результате преобразований Россия сможет поддерживать внутреннюю стабильность и быть конкурентоспособной на международной арене, но вместе с тем не отрицали и того, что в стране углубляется социальная дифференциация и нарастает социальное неравенство, обесценивающее все достижения последних лет [4].
В 2015 г. показатель бедности незначительно увеличился и стал равен 13,3 % [5]. Причинами выступили новые вызовы для российского общества, среди которых экономические санкции. В ответ на сложившуюся ситуацию в конце декабря 2015 г. принимается нормативно-правовой акт «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [6], согласно которому бедность – угроза национальной безопасности, а для снижения ее уровня необходим рост доходов населения.
Уровень доходов населения является одним из наиболее важных социальных факторов, влияющих на качество жизни (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика основных показателей уровня жизни населения России [7]
|
Показатели |
1995 |
2000 |
2005 |
2010 |
2015 |
|
Денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц), р. |
516 |
2 281 |
8 112 |
18 881 |
30 225 |
|
Покупательная способность среднедушевого денежного дохода, % |
195 |
198 |
269 |
333 |
312 |
|
Среднемесячная начисленная заработная плата работающих в экономике, р. |
472,4 |
2 223 |
8 555 |
20 952 |
34 030 |
|
Покупательная способность среднемесячной заработной платы, % |
159 |
168 |
263 |
341 |
325 |
|
Средний размер начисленных пенсий (в месяц), р. |
188,1 |
694,3 |
2 364 |
7 476 |
11 986 |
|
Покупательная способность средней пенсии, % |
101 |
76 |
98 |
165 |
151 |
|
Децильный коэффициент фондов |
13,5 |
13,9 |
15,2 |
16,6 |
15,6 |
|
Величина прожиточного минимума, р. |
264,1 |
1 210 |
3 018 |
5 688 |
9 701 |
Согласно данным таблицы 1 можно говорить о постепенном сокращении покупательной способности населения в период 2010–2015 гг., несмотря на увеличение размера пенсий, заработной платы и др. На продолжающуюся поляризацию общества указывает децильный коэффициент фондов, отражающий дифференциацию доходов населения или социально-экономическое неравенство. Он входит в число основных показателей, необходимых для оценки состояния национальной безопасности, и для развитых западных стран не превышает 4–5 раз.
Большой интерес представляет рассмотрение социального состава бедных в 2015 г. Так, по демографическим признакам большую часть бедных (40 %) составляли люди трудоспособного возраста – мужчины в возрасте 31–59 лет и женщины в возрасте 31–54 года (20 и 20 % соответственно), проживающие в городской местности (примерно 60 %). По уровню образования бедных можно сделать неутешительный вывод: большинство из них имеют среднее профессиональное образование (35–42,3 %). Большая часть бедных занята в экономике и составляет 63,8 %, а число безработных бедных равняется 2,8 % [8]. Такие показатели указывают на низкий уровень доходов, а в первую очередь на низкую заработную плату, не гарантирующую минимального прожиточного минимума (9 701 р.) [9] на каждого члена семьи.
В последнее время происходит поступательное увеличение размера заработной платы, пенсий и иных социальных выплат, но их рост нивелируется уровнем инфляции, а проблема низкого уровня доходов населения по-прежнему остается актуальной. По этой причине руководством страны для решения вопроса об обеспечении национальной безопасности ставятся задачи содействия сокращению бедности.
Анализируя сложившуюся ситуацию с феноменом бедности в современном российском обществе, необходимо указать на несовершенство методики измерения бедности, основанной на абсолютном подходе. Согласно абсолютной теории бедным считается население с доходами ниже прожиточного минимума, величина которого устанавливается с учетом потребительской корзины [10, ст. 4] и сегодня не отражает реальных потребностей населения. Например, в 2006 г.
бедных в стране по данным Росстата было 15,2 %, а директор Всероссийского центра уровня жизни В. Бобков приводит следующие данные: треть населения России составляли бедные, еще одну треть – низко- и среднеобеспеченные, только около 10 % – состоятельные и богатые. По данным Института социологии РАН, в 2006 г. более трети населения России жило за порогом или на грани бедности, а 7 % находились в состоянии крайней бедности, глубокой нищеты. Еще 14 % бедных фактически также прочно «застряли» в этом состоянии. Кроме того, 17 % населения пребывает в состоянии постоянного риска бедности, хотя пока им удается удерживаться «на плаву», балансируя на грани бедности и малообеспеченности, и численность этой «группы риска» возрастает [11].
Подобных взглядов на использование абсолютной теории бедности придерживаются и европейские специалисты. Так, по мнению доктора экономики, научного сотрудника Европейского института профсоюзов (Брюссель) Д. Буже, «нищие на улице, бездомные, дети, страдающие от недоедания, увеличение числа больных с инфекционными заболеваниями прошлой эры (туберкулез и т. д.) являются видимыми, усиливающимися признаками крайней бедности в европейских странах. Это напоминает картину бедности из предыдущих веков, предшествовавшую национальному экономическому развитию и введению систем социального обеспечения в Европе. …Коллективная надежда на исчезновение абсолютной бедности постепенно исчезала. Избавившись однажды от абсолютной бедности, мы вновь вынуждены исследовать это понятие, которое уже было подвергнуто серьезной критике в 1960–1970-х. Сегодня мы отмечаем, что фундаментальные потребности снова стали составляющими понятия бедности. …Существует тесная связь между потребностями и бедностью, особенностями этих потребностей и измерением абсолютной бедности. Основной категорией здесь выступает еда, которая является основной жизненно важной потребностью. Однако независимо от способа – теоретического или эмпирического – рассмотрения феномена абсолютной бедности согласно потребностям (включая жизненно важные) очевидно, что подобный анализ не позволит получить достоверную и полную картину, вследствие чего делаем вывод, что абсолютная бедность на самом деле является относительным показателем…» [12].
Таким образом, бедность присуща любому обществу и имеет общие характерные черты. Но любая степень сходства всегда предполагает определенные различия, что применительно к России проявляется не только в наличии исторических предпосылок и масштабов рассматриваемого феномена. Важно отметить, что отсутствие сегодня единого понимания бедности ведет к отсутствию единой методики измерения данного негативного явления. Этим можно объяснить существенные различия результатов исследований, построенных на официальных данных и данных, полученных в ходе опросов общественного мнения. Число бедных изменяется также при использовании разных методов измерения бедности, что свидетельствует о спорности любого из них. Следовательно, наиболее эффективной является комбинированная методика исследования бедности, основанная на сочетании нескольких концепций бедности. Главное при этом – разработать методологию для определения, кого можно назвать бедным и как вычислить тот уровень, за которым начинается бедность.
Ссылки и примечания:
-
1. Попова М.Б. Социальная дифференциация и бедность населения. Петрозаводск, 1998. С. 70–71.
-
2. Основные социально-экономические характеристики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Российский статистический ежегодник – 2012. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/01-01.htm (дата обращения: 26.01.2017).
-
3. Лайкам К. Государственные меры по регулированию дифференциации доходов населения и снижению уровня бедности // Общество и экономика. 2002. № 12. С. 30–49.
-
4. Горшков М.К. Реформы в зеркале общественного мнения // Социологические исследования. 2011. № 10. С. 6 ; Козырева П.М. Социальная адаптация населения России в постсоветский период // Там же. № 6. С. 32 ; Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества // Там же. № 5. С. 24.
-
5. Социально-экономические индикаторы бедности в 2012–2015 гг. [Электронный ресурс]. URL:
-
6. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента от 31 дек. 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.
-
7. Составлено по данным Росстата.
-
8. Социально-экономические индикаторы …
-
9. Там же.
-
10. О прожиточном минимуме в Российской Федерации : федер. закон от 24 окт. 1997 г. № 134-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 43. Ст. 4904.
-
11. Симонян Р.Х. Реформы 1990-х годов и современная социальная структура российского общества (к 20-летию экономических реформ) // Социологические исследования. 2012. № 1. С. 41.
-
12. Bouget D. Needs and the Concept of Absolute Poverty: Incompleteness and Relativism // Absolute Poverty in Europe. Salzburg, 2015. Р. 24–25.
(дата обращения: 14.01.2017).
Список литературы Особенности феномена бедности на современном этапе развития российского общества
- Попова М.Б. Социальная дифференциация и бедность населения. Петрозаводск, 1998. С. 70-71.
- Основные социально-экономические характеристики Российской Федерации //Российский статистический ежегодник -2012. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d1/01-01.htm (дата обращения: 26.01.2017).
- Лайкам К. Государственные меры по регулированию дифференциации доходов населения и снижению уровня бедности//Общество и экономика. 2002. № 12. С. 30-49.
- Горшков М.К. Реформы в зеркале общественного мнения//Социологические исследования. 2011. № 10. С. 6.
- Козырева П.М. Социальная адаптация населения России в постсоветский период//Социологические исследования. 2011. С. 32.
- Тихонова Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества//Социологические исследования. 2011. № 5. С. 24.
- Социально-экономические индикаторы бедности в 2012-2015 гг. . URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_110/Main.htm (дата обращения: 14.01.2017).
- О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента от 31 дек. 2015 г. № 683//Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.
- О прожиточном минимуме в Российской Федерации: федер. закон от 24 окт. 1997 г. № 134-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 1997. № 43. Ст. 4904.
- Симонян Р.Х. Реформы 1990-х годов и современная социальная структура российского общества (к 20-летию экономических реформ)//Социологические исследования. 2012. № 1. С. 41.
- Bouget D. Needs and the Concept of Absolute Poverty: Incompleteness and Relativism//Absolute Poverty in Europe. Salzburg, 2015. Р. 24-25.