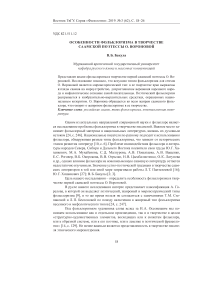Особенности фольклоризма в творчестве саамской поэтессы О. Вороновой
Автор: Бакула Виктория Борисовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Представлен анализ фольклоризма в творчестве первой саамской поэтессы О. Вороновой. Исследование показало, что ведущим типом фольклоризма для стихов О. Вороновой является мировоззренческий тип: в ее творчестве ярко выражены взгляды саамов на мироустройство, дохристианские верования коренного народа и мифологическое сознание самой писательницы. Поэтический фольклоризм раскрывается в изобразительно-выразительных средствах, окрашенных национальным колоритом. О. Воронова обращается ко всем жанрам саамского фольклора, что говорит о жанровом фольклоризме в ее творчестве.
Российские саамы, типы фольклоризма, новописьменная литература
Короткий адрес: https://sciup.org/146281486
IDR: 146281486 | УДК: 821.511.12
Текст научной статьи Особенности фольклоризма в творчестве саамской поэтессы О. Вороновой
Одним из актуальных направлений современной науки о фольклоре является исследование проблемы фольклоризма в творчестве писателей. Важное место занимает фольклорный материал в национальных литературах, являясь их духовным истоком [24, с. 246]. Национальные писатели по-разному подходят к использованию фольклора, обнаруживая разные типы фольклоризма, что зависит от исторических этапов развития литератур [10, с. 6]. Проблеме взаимодействия фольклора и литературы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока посвятили свои труды Ю. Г. Ха-занкович, М. А. Мукабенова, С. Д. Малзурова, А. В. Пошатаева, А. В. Ващенко, Е. С. Роговер, В. Б. Окорокова, В. В. Огрызко, Н. В. Цымбалистенко, О. К. Лагунова и др., однако влияние фольклора на новописьменную саамскую литературу остается недостаточно изученным. Значение устно-поэтической традиции в творчестве саамских литераторов в той или иной мере затрагивали работы Л. Т. Пантелеевой [16]; Ю. Г. Хазанкович [27]; В. Б. Бакулы [2; 3].
Цель нашего исследования – определить особенность фольклоризма в творчестве первой саамской поэтессы О. Вороновой.
В русле нашего исследования интерес представляет классификация А. Горелова, в которой он выделяет поэтический, жанровый и мировоззренческий типы фольклоризма [9], в то же время нельзя не согласиться с замечаниями Т. М. Степановой и Л. П. Бессоновой по поводу включения в жанровый тип фольклоризма песенного и мифологического типов [24, с. 247].
Под фольклоризмом художника слова вслед за И. А. Оссовецким мы понимаем использование как в отдельном произведении, так и в творчестве в целом «структурно-художественных элементов, восходящих или к сюжетам фольклора, или к образной системе, или к его поэтике, или к лексике и поэтической фразеологии» [14, с. 129]. Не менее важным является представленность в творчестве писателя этнического мировоззрения.
Октябрина Воронова (1934–1990) – первая саамская поэтесса, которая писала на саамском языке (иоканьгском диалекте). Окончила Институт народов Севера, филологический факультет. Под руководством молодого ученого Г.М. Керта, изучающего саамские диалекты, выезжала в фольклорные экспедиции на Кольский полуостров, где собирала языковой и фольклорный материал, обнаружив при этом филологическое чутье. Записывая саамские сказки, она передавала не только сюжет, но и образность языка – родного иоканьгского диалекта. Записанные ею сказки вошли в сборник Г. М. Керта «Образцы саамской речи» (1961). В 1977 году О. Воронова выступила с докладом об устном народном творчестве саамов на совещании в Кольском филиале Академии наук СССР.
Стихи О. Воронова писала только на саамском языке, печататься на русском языке начала в переводах разных поэтов, но главным ее переводчиком стал мурманский поэт В.А. Смирнов, который перевел больше 130 стихотворений и поэм саамской поэтессы. Стихи О. Вороновой в переводах В. Смирнова начали появляться с 1982 года в журналах «Север», «Дружба народов» и др., в газетах, в коллективных сборниках «Близок крайний север», «На семи ветрах», «Сполохи», «Северное сияние» и др. [1, с. 22]. В 1986 году на русском языке выходит ее первый сборник стихов – «Снежница», в 1987 – «Вольная птица». В 1989 году О. Воронова принята в Союз писателей России, а в 1990 г. вышла в свет ее поэтическая книга на саамском языке – «Ялла», что в переводе значит «Жизнь». Это событие обозначило рождение саамской литературы на родном языке. После смерти поэтессы вышли ее книги на русском языке в переводах В. Смирнова «Тайна Бабьего озера» (1995), «Поле жизни» (1995), «Хочу остаться на земле» (1995), «Чем ты притягиваешь, Родина» (1999). Других книг на иоканьгском диалекте не существует.
Художественный мир О. Вороновой, основные черты ее писательского стиля определяются не только обращением к устно-поэтической традиции, но и мифологическим мировоззрением самой писательницы, с детства впитавшей саамский фольклор, усвоившей традиции предков, наделенной поэтическим даром. О тонком чувствовании окружающего мира говорят ее воспоминания, написанные в разные годы: «Прошло уже больше сорока на свете прожитых лет, но до сих пор, как и тогда, хотела бы идти я по новым неизведанным путям. И сейчас я к земле обращаюсь: ты откликнись голосистым запевом жаворонка, полетом трясогузки, и пусть сосны напомнят отшумевшую мою весну…» [23, с. 9].
Мифологическому мировоззрению О. Вороновой свойственны «эмоциональность, образное восприятие мира, ассоциативность, а(до)логичность, склонность оживотворять (гилозоизм), одухотворять (аниматизм), одушевлять его отдельные части (анимизм)» [30, с. 17].
Для языческого мировоззрения саамов были характерны анимизм, шаманизм, фетишизм и тотемизм [6, с. 72; 32, с. 14; 29, с. 39–40]. С распространением христианства в XIV в. саамы еще долгое время оставались «полуязычниками», лишь формально соблюдая христианские обряды [28, с. 181; 25, с. 114.]. Дольше всего сохранялся анимизм (вера в духов и душу или всеобщую одухотворенность природы), до сих пор, идя в лес, саамы «выкупают» его дары: таежные добрые боги наполнят богатством корзинку мою [8, с. 120].
Одним из архаичных культов саамов был культ Матерей Природы, от которых зависело все живое [31, с. 267]. Земля у саамов отождествлялась с материнским началом, творцом всего живого и сама была живым существом. Образ земли – один из основных в стихах О. Вороновой. Поэтесса обращается к родной земле, природе на ты, как к очень близкому, хорошо знакомому человеку: Земля родная! Ты всегда красива...[8, с. 126]; Чем ты притягиваешь, родина, Чем ты влечешь, секрет открой [Там же, с. 188];расскажи мне, земля, почему же зимою мертва ты? [Там же, с. 68]. Такая форма обращения напоминает древние формы заклинаний.
Образ земли многозначен: это не только место обитания древнего народа, но и ее реки, озера, растения, птицы; земля – кормилица и лекарь.
О. Воронова вступает в диалог с природой, просит ее: сияй, светило, с вышины, Лучи раскидывай пошире [Там же, с. 115], расскажи мне, земля [Там же, с. 68], благодарит: я тебя благодарю, снежница-зима [7, с. 115]; объясняется в любви: на все чудесные края, что за лесами, за полями, мое родное Заполярье не променяю в жизни я [8, с. 160].
Природа в стихах О. Вороновой отвечает человеку взаимностью, вступая с ним в диалог. Тундра говорит голосом деревьев: И стоят деревца, / И звенят хрусталем что есть силы: / – Ах, красивы ли мы? / – Ну, конечно же, очень красивы!... [Там же, с. 98]; голосом ягеля: Вдруг громкий голос / Снизу из-под трав: / – Зачем ты ездишь так неосторожно? / Ты сбила шапку мне. / Вернись, поправь [Там же, с. 126].
Природа принимает участие в жизни тундрового человека, что естественно для мифологического представления о всеединстве и родственности человека и всего живого, ведь в мире все друг другу сродни [7, с. 83]: В тундру уезжают пастухи. Ласково им машут струйки дыма [8, с. 138]; солнце на небе смеется, народ на улицу маня [Там же, с. 191]; Плачет кувакса вместе со мной [Там же, с. 213]. Себя поэтесса воспринимает как органичную часть природы, ощущая родство со всеми живыми существами: Снегиря увижу рядом. Ты куда такой нарядный? Протрещи своей сестре, словно вереск на сосне [7, с. 22].
Не выделяя себя из окружающего природного мира, первобытный человек приписывал природным объектам «жизнь, человеческие страсти, сознательную, целесообразную хозяйственную деятельность, возможность выступать в человекообразном физическом облике, иметь социальную организацию и т. п.» [13], поэтому в стихах Октябрины в куваксу заходят сказки и садятся у огня [7, с. 29], робкий лучик солнца заявляет новый день [Там же, с. 30], вьюга то злится , засыпая глубокими снегами сосны, которые стонут от тяжести снега [Там же, с. 41], то заливается, хохоча над незадачливой женщиной [Там же, с. 54], дом в сугробах прячется до крыши [Там же, с. 48], и Только прорубь на реке застывшей / Синим оком смотрит на людей [Там же, с. 48]. Персонифицированное эхо, пересмешник-пустобрех , в диалоге с лирической героиней отвечает, подтверждает, хохочет, балагурит [Там же, с. 94], а деревьям снятся сны [Там же, с. 95]. Печалится ель [Там же, с. 106], дрожат уцелевшие листья , осина прижмется к крыльцу [Там же, с. 103], наблюдая за вековечным спором осени и зимы: у порога топчется зима, ей жилья не уступает осень [Там же, с. 95].
Природа в стихах Вороновой может быть активной и разрушительной, что достигается словосочетаниями с семантикой энергетики и аллитерацией звонких и сонорных звуков: взбудоражили ручьи, вздыбилась подковой, рвет оковы, прогонит зиму прочь, разбивалась о камни, накреня горизонт, или гармоничной и мирной, что подчеркивается эпитетами, сравнениями, развернутыми метафорами: слабый ветерок задул под вечер, / Распушил поземки снежной прядь, / Мягкую, как будто шерсть овечья, / Белую и теплую, хоть гладь [Там же, с. 48]; Только светом март наполнит / Голубую чашу дня, / О весне капель напомнит, / Дробью частою звеня, / Это ветер, теплый ветер /Дирижирует весной [Там же, с. 61].
Человек и природа вступают в определенные взаимоотношения на равных: с грядущим днем на первое свиданье спешит пастух по имени Егор [Там же, с. 34]; вместе с ветром / Прошел он через топи, валуны [Там же, с. 34]; У моря с тобою стояли мы, споря с грозой [Там же, с. 38].
Для поэзии Вороновой характерно олицетворение земного ландшафта, видение родных просторов в образе человека как авторский прием: вон сосёнка рученьки к небу вознесла [8, с. 104]; Роммаль – березка чуть выше кочки греет на солнце ладошки -листочки [Там же, с. 215]; И чернеет земли остывающей тело , не укрытое снегом [7, с. 88]; языки -лучи…вылизали землю, каждый куст [8, с. 67].
Мифологическое сознание, ярко отраженное в метафорах и сравнениях, передает национальную самобытность северного народа. Не только природа персонифицирована, но и человек сравнивается с ней и животным миром: Как ладен был он в молодые годы! / Высок и прям, как над рекой тальник [7, с. 34]; чтоб росла, как молодой лесок , / Чтобы… ручейком звенел твой голосок , / Будешь, словно резвый олененок, / В летней тундре набираться сил [Там же, с. 36]; Я одна, как кукушка [Там же, с. 117], Как вольная птица, я вырвусь весной [Там же, с. 78].
С красотой природного мира сравнивается красота женщины: куропаткою порхала, где кунице не пролезть [Там же, с. 56], Душа твоя распустится, / Как подснежники в лесу [Там же, с. 62], Душа … чиста, как вода ледниковая с гор [Там же, с. 114].
С тотемистическими представлениями саамов связан культ Солнца. В поэзии Вороновой солнце занимает важное место, образ его многозначен: это и явление природы, и символ любви, верности, человеческого бытия, и символ жизни самой поэтессы [16, с. 28].
Населяя весь окружающий мир духами, древние саамы искали способы общения с ними, обращались к ним за помощью, для чего в племени выделялись посредники – шаманы. Шаманы (нойды) могли повелевать погодой, управлять бурями, врачевать больных, предсказывать судьбу. Славой наиболее могущественных чародеев пользовались саамы Кольского полуострова [6, с. 72–73]. Колдовство шаманов не удивляло остальных саамов, так как колдовать способен был каждый. К шаманизму и магии отсылает нас строка Шаманом кричу надо льдом, Чтобы легче я стала [7, с. 64]. Это не просто художественный прием, а генетическая память поэтессы. По воспоминаниям В. Смирнова, Октябрина рассказывала ему, что в ее роду были шаманы [23, с. 14].
Для О. Вороновой характерен жанровый фольклоризм.
Единой классификации жанров саамского фольклора сегодня не существует, что вызвано многими объективными причинами, однако этнографу В.В. Чарно-лускому удалось записать названия жанров от саамов с их пояснениями: майнс – сказки различного содержания и формы; ловта – миф, легенда; сакки – рассказы на патриотические темы; байса – бывальщины и побасенки; муштоллы – рассказы о событиях дня [20, с. 12]. Исследователи не раз отмечали, что в старину муштоллы и ловты пелись, что говорит об архаичности саамского фольклора, выраженной в сохраненном синкретизме, и даже имели рифмованную форму, а циклы песен были объединены тематическим единством [20, с. 13; 21, с. 246; 11, с. 44–47.]. Все эти жанры саамы называли также сказками [16, с. 26], следуя русской традиции. Не случайно в стихотворении Вороновой старик говорит путникам: Пейте чай, а на дорогу / Я вам сказки пропою [23, с. 24]. Сказки могли петь как мужчины, так и женщины. О. Воронова сохранила песенную форму сказывания стихов. На творческом семинаре в Мурманске в 1983 году она свои стихи на саамском распевала. В процессе исторического развития саамский эпос утратил рифмованную форму [20, с. 12].
Собиратели саамского фольклора отмечали его эпический характер [28, с. 342–374], описательность саамских песен [15, с. 15], в которых саам повествовал о самых, казалось бы, незначительных, с точки зрения людей другой культуры, событиях [18, с. 252; 28, с. 380; 34, с. 26–27]. Эпичность свойственна и поэзии Вороновой, которая, следуя традициям саамской муштоллы, воспевает в своих стихах все, что видит вокруг, о чем узнает в течение дня. Эффект присутствия читателя / слушателя при пении / сказывании создают глаголы настоящего времени: снег лежит в сугробах пышных ; в печке чуть трещат поленья ; а река струится и струится; плещет неба синь далекая. Так рождаются строки о ловозерских горах, тундре, снеге, пении воробья, восходе солнца. Героем стихов О. Вороновой становятся обычные саамские люди с их вековечными заботами и надеждами. Бережно хранит она память о лучшей на Поное мастерице Прасковье; об ушедших на фронт и не успевших познать семейного счастья молодых саамских парнях Лазаре и пастухе Тарасике; о деде Веллес-Карносе и его жене, до глубоких седин проживших вместе; о деде Семене, который делится с молодыми саамскими парнями секретами пастушьей жизни; о пастухе Егоре, который гордится тем, что его сын не изменил призванию отца! и стал пастухом.
К особенностям саамских песен относится «игра» в песне словами-междометиями, что неоднократно отмечали этнографы [4, с. 483; 33, с. 211; 34, с. 26–27]. Этот прием использует О. Воронова, выбирая для повторов саамские слова со значением, усиливающим художественную мысль текста: Ара-ра-ра! Ара-ра-ра! в переводе на русский значит «постой, подумай» о вечном, истинно ценном – о величии северных вершин, которые покоряются так же, как жизни вершины ; вспомни о военном лихолетье, вынести которое помогли доброта, сила единения, труд женщин для фронта; о том, что жизненные опасности всегда рядом, как и пропасти северных гор [7, с. 15]. Повтор в стихотворении «Поной» саамского названия реки Олмэ-вар-да-ёгкын, что в переводе значит «река-путеводительница», звучит как заклинание не забывать о своих истоках, память о которых веками хранит и передает человеку река [Там же, с. 74]. Переживание одиночества лирической героиней, желание справиться с чувством грусти отражено в повторе вопросительного «Ну и что?». Горькое «Так оно, так оно, так оно и есть», рефреном звучащее после каждой строфы, подчеркивает горе матери, потерявшей на войне сына [Там же, с. 42].
Обращается Воронова и к жанру саамской сакки в поэме «Тайна Бабьего озера». В основе сюжета – рассказ о нападении разбойничьей шайки на саамский погост. О борьбе с врагами, которых саамы называли чудью, повествуют многие саамские исторические предания. Во время набегов чудь грабила и уничтожала погосты, убивала или угоняла в плен саамских женщин. В поэме отразились языческие представления саамов о сейдах, связанные с верой в возможность окаменения людей. Сейды – священные камни, в которых, по представлениям язычников, обитал дух-предок и даже родоначальник жителей какого-нибудь населенного пункта [32, с. 133], дух-хозяин определенной территории, от которого зависела удача в промыслах [12]; дух нойда [5, с. 458–459]. В сказках Кольского Севера появление сейдов объясняют обычно внезапным превращением людей в камни, то есть им приписыва- ется человеческое происхождение [22, с. 255]. Мотив окаменения является распространенным мотивом саамского фольклора [19, с. 6]. Легенду о происхождении одного из самых популярных сейдов на берегу озера Акияврь, или Бабозера [6, с. 74] взяла за основу сюжета своей поэмы «Тайна Бабьего озера» О. Воронова. В произведении соединены сюжеты из разных жанров фольклора, что было характерно для устного народного творчества саамов [17, с. 6].
В стихотворении «Васткивас» (васткивас – северное сияние) зарифмован этиологический миф (ловта) о северном сиянии: Знаешь ты, откуда / В небе васт-кивас? / Это развлекается под луною панна./ Видишь – развевается / Подол сарафана . С северным сиянием связаны древние поверья саамов: считалось, что на свист человека оно начинает светиться ярче и переливаться разными цветами, но свистеть во время северного сияния было опасно, объяснялось это тем, что красавица ненароком схватит [8 , с. 216].
Поэтесса обращается к жанру загадки, зарифмовывая ее: Не грузинский, не индийский, в пачках или развесной, – / Здесь нам чага пригодится, / Чай целебный, чай лесной [7 , с. 23]; Лишь ветер / Знает, да не говорит [Там же , с. 40]; Говорят, что, если изловчиться, / Можно солнце зачерпнуть ведром (об отражении в проруби) [Там же , с. 48]. Загадка становится основой метафоры: Кто раскрасил серебри-ном / Ткань морозного стекла? [Там же , с. 31]; Чьи это смелые краски и кисти? / Кто из художников чудо принес? / Будто погладили лапкою лисьей / Нежно-зеленые платья берез [Там же , с. 105].
Тонкий юмор характерен для саамских байс – коротких рассказов шуточного содержания, зарифмованных О. Вороновой: это рассказ о незадачливом Оце, который включил электрочайник в радиорозетку и удивлялся, почему тот так долго не закипает; повествование о Прасковье, впервые увидевшей телевизор и принявшей его за окошко, из которого видна половина мужчины; анекдотичные ситуации с мужем и женой, говорящих на разных диалектах и потому неправильно понимающих друг друга [Там же , с. 56].
Нравоучительность некоторых стихов Вороновой делает их близкими к жанру байсы – небольшого рассказа поучительного содержания [28 , с. 391 – 392]. Это и обращение к дочери: И учись – без лени и кручины. / А достигнешь осени своей – / успевай в работе, как мужчина, / и расти, как женщина, детей [8 , с. 31]; к молодым пастухам, строящим чум: строй на совесть, любо, чтоб доволен был и сам, и другие люди! [7 , с. 99]; это и наказ бабушки внучке: выйдешь, в жизнь влюбленная, скроешься вдали, не забудь зеленое перышко Земли [8 , с. 104]; и завещание лирической героини всем людям: любому я скажу – будь человеком, куда б ни шел – земле не навреди! [Там же , с. 126].
Из мифов и сказок черпает поэтесса и другие сюжеты своих произведений: о Чахкли – подземном жителе, герое волшебных сказок и легенд [Там же , с. 105]; в стихотворении «Ловозерские горы» звучат мотивы сохранившегося космогонического мифа: Это было давно. Уж не помнят и деды, как дрожала земля, сея ужас и страх, как сгорали куницы, олени, медведи в тех огромных и жарких всеядных кострах [7 , с. 20].
С мотивом оборотничества, характерным для мифологических представлений саамов, связан мотив перевоплощений лирической героини в разные природные явления: Я – родник, родничок, / По камушкам чок да чок… / Я – река, быстрая, широкая… / Я уже – Ловозеро… / Облаками я плыву… / Возвращусь в свои края / Капельками росными [8 , с. 96].
Таким образом, для поэзии О. Вороновой характерен антропоморфизм как глубинный принцип, заложенный на уровне мифологического сознания, идея гармонии человека и природы, человека и космоса. Свойственное поэтессе мифомыш-ление проявляется как в уподоблении планеты живому существу, так и в уподоблении человека природному миру. Метафорический смысл ее стихов помогает воссоздать архаическое мышление саамского этноса [26 , с. 52]. Для поэзии О. Вороновой характерны мировоззренческий, поэтический и жанровый фольклоризм.
Творчество О. Вороновой, неразрывно связанное с устной поэтической традицией кольских саамов, во многом определило основные тенденции развития новописьменной саамской литературы последующего периода.
Список литературы Особенности фольклоризма в творчестве саамской поэтессы О. Вороновой
- Антология саамской литературы / авт.-сост. Н. П. Большакова, В. Б. Бакула. Мурманск: Опимах, 2012. 384 с.
- Бакула В. Б. Мифо-фольклорная основа сказок сборника Н. Большаковой «Подарок чайки» // Вестник угроведения. 2017. № 1 (28). С. 7-15.
- Бакула В. Б. Философская сказка саамской писательницы Н. Фениной // Полиэтничный мир Евразии: проблемы взаимовосприятия: Сб. статей / Удмуртский институт истории, языка и литературы. Ижевск, 2016. С. 542-549.
- Визе В. Ю. Лопарская музыка // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1911. № 6. С. 481-486.
- Визе В. Ю. Лопарские сейды // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1912. № 10. С. 453-459.
- Волков Н. Н. Российские саамы: историко-этнографические очерки / Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Саамский ин-т. СПб., 1996. 106 с.
- Воронова О. В. Снежница: стихи. Мурманск: Мурм. кн. изд-во, 1986. 116 с.
- Воронова О. В. Хочу остаться на земле: стихи / Мурм. обл. науч. б-ка. Мурманск, 1995. 222 с.
- Горелов А. А. К истолкованию понятия «фольклоризм» литературы // Русский фольклор. Вопросы теории фольклора. Вып. XIX. Л.: Наука, 1979. С. 31-48.
- Далгат У. Б. Литература и фольклор. М.: Наука, 1981. 304 с.
- Кулинченко Г. А. Сказание о Мяндаше на камне // Саамская литература: материалы и исследования. М.: Лит. Россия, 2010. С. 44-47.
- Манюхин И. С. Археология Карелии. Петрозаводск, 1996 [Электронный ресурс] // Северная Традиция. Карелия 2022. URL: http://www.vottovaara.ru/verovaniya- svyazannie-s-seiedami.html (дата обращения 13.01.2014).
- Мелетинский Е. Поэтика мифа [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/melet1/02.php (дата обращения 10.02.2015).
- Оссовецкий И. А. Язык современной русской поэзии и традиционный фольклор // Языковые процессы современной художественной литературы: Поэзия. М.: Наука, 1977. С. 128-185.
- Островский Д. Н. Лопари и их предания // Известия Русского географического общества. 1889. Т. 25. С. 316-332.
- Пантелеева Л. Т. Фольклорные мотивы в поэзии Октябрины Вороновой // Наука и бизнес на Мурмане. 2005. № 5. С. 25-31.
- Пация Е. Я. Сказки саамов Кольского края // Саамские сказки. Мурманск: Кн. изд-во, 1980. С. 4-10.
- Пришвин М. М. За волшебным колобком: Из записок на Крайнем Севере России и Норвегии // Пришвин М. М. Собр. сочинений: В 8 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1982. С. 181-386.
- Саамские сказки. Мурманск: Кн. изд-во, 1959. 135 с.
- Саамские сказки. М.: Худож. лит., 1962. 304 с.
- Сенкевич-Гудкова В. В. К вопросу о трансформации саамского эпоса // Специфика фольклорных жанров / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М., 1973. С. 246-255.
- Симченко Ю. Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М.: Наука, 1976. 312 с.
- Смирнов В. А. Ночлег в пути // Воронова О. Хочу остаться на земле: стихи / Мурм. обл. науч. б-ка. Мурманск, 1995. С. 9-24.
- Степанова Т. М., Бессонова Л. П. Типология фольклоризма литературных текстов // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2. Филология и искусствоведение. 2007. № 2. С. 245-249.
- Ушаков И. Ф. Избранные произведения: в 3 т. Т. 1: Кольская земля. Мурманск: Кн. изд-во, 1997. 647 с.
- Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. 448 с.
- Хазанкович Ю. Г. За рамками автобиографии. Лопарские бывальщины от Надежды Большаковой // Саамская литература: Материалы и исследования. М.: Лит. Россия, 2010. С. 202-207.
- Харузин Н. Н. Русские Лопари (Очерки прошлаго и современнаго быта). М.: Тов-во Скоропечатни А. А. Левенсонъ, 1890. 472 с.
- Харузин Н. О нойдах у древних и современных лопарей // Этнографическое обозрение. М., 1889. № 1. С. 36-67.
- Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1981. 374 с.
- Чарнолуский В. В. В краю летучего камня. М.: Мысль, 1972. 271 с.
- Чарнолуский В. В. Легенда об олене-человеке. М.: Наука, 1965. 139 с.
- Черненкова Л. И. Песенные традиции ловозерских саамов Мурманской области // III Масловские чтения: Материалы региональной научно-практ. и литературно-худож. конф. / Мурманский гос. пед. ун-т. Мурманск, 2005. С. 210-212.
- Ященко А. Л. Несколько слов о Русской Лапландии (Из поездки) // Этнографическое обозрение. 1892. №1. С. 10-37.