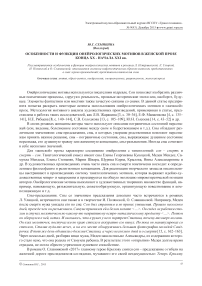Особенности и функции онейрологических мотивов в женской прозе конца XX - начала XXI вв
Автор: Семикина Юлия Геннадьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности и функции онейрологических мотивов в романах Л. Петрушевской, Л. Улицкой, И. Полянской и О. Славниковой. Описывается система мифопоэтических образов-символов, представленных в снах героев произведений. Представлена типология снов.
Мотив, образ-символ, онейрология, эмоциональное, рациональное, женская проза
Короткий адрес: https://sciup.org/14822427
IDR: 14822427
Текст научной статьи Особенности и функции онейрологических мотивов в женской прозе конца XX - начала XXI вв
Онейрологические мотивы используются писателями издревле. Сон позволяет изобразить различные психические процессы, «другую» реальность, прошлые исторические эпохи или, наоборот, будущее. Элементы фантастики или мистики также зачастую связаны со снами. В данной статье предпринята попытка раскрыть некоторые аспекты использования онейрологических мотивов в «женской» прозе. Методология мотивного анализа художественных произведений, примененная в статье, представлена в работах таких исследователей, как Л.В. Жаравина [3, с. 30–36], Е.Ф. Манаенкова [4, с. 135– 141], Н.Е. Рябцева [8, с. 140–144], С.В. Солодкова [13, с. 105–109], Ю.Н. Сысоева [14, с. 43–52] и др.
В своих романах женщины-авторы часто используют описание пограничных состояний персонажей (сон, видение, болезненное состояние между сном и бодрствованием и т.д.). Сны обладают различными значениями: сны-предсказания, сны, в которых умершие родственники помогают персонажам принять важное решение, сны – пограничные состояния, сны, выражающие душевное состояние персонажа, его душевную травму или жизненную концепцию, сны-разъяснения. Иногда сны сочетают в себе несколько значений.
Для «женской» прозы характерно соединение онейрологии с танатологией: сон – смерть и смерть – сон . Танатологический смысл имеют сны Елены Георгиевны Кукоцкой, Медеи Мендес, Самуила Мендеса, Елены Степанян, Марии Шварц, Шурика Корна, Крылова, Нины Александровны и др. В художественных произведениях очень часто связь сна и смерти генетически восходит к определенным философским и религиозным концепциям. Для реализации творческого замысла писательницы выстраивают в произведениях систему танатологических мотивов, которая выражает идейно-художественные микро- и макросвязи и проецируется на общую эволюцию мировоззренческой позиции авторов. Онейрологические мотивы выполняют в художественных творениях множество функций, например, намекающую, разъяснительную, сюжетообразующую, организующую повествование и композиционную и т.д.
Сны-предсказания. Сны со значением предсказания довольно часто встречаются в романах Л. Улицкой, встречаются они также и в творчестве И. Полянской, О. Славниковой. Например, Медея после смерти мужа увидела его во сне: Сон был странным и не принес утешения. Прошло несколько дней, прежде чем он разъяснился. Самуил приснился ей в белом халате <…>. Он сидел за рабочим столом и стучал молоточком по какому-то неприятному остро-металлическому предмету <…>. Потом он обернулся к ней, встал. И оказалось, что в руках у него портрет Сталина, почему-то вверх ногами. Он взял молоточек, постучал им по краю стекла и аккуратно его вынул. Но пока он манипулировал со стеклом, Сталин куда-то исчез, а на его месте обнаружилась большая фотография молодой Санд-рочки. В тот же день объявили о болезни Сталина, а через несколько дней и о смерти [15, с. 162–163]. Через несколько дней, разбирая вещи мужа, Медея нашла письмо Александры, из содержания которого стало ясно, что она родила от Самуила ребенка. В результате этого «открытия» Медея долгое время страдала, не могла обрести утраченное душевное спокойствие.
В романе О. Славниковой «2017» главному герою Крылову снится сон – предсказание о гибели на железной дороге преследователя-соглядатая, мучавшего его своей вездесущностью: Теперь Крылову вспомнился – даже не вспомнился, а проступил огромным призраком сквозь шершавую реальность – недавний сон: фантастически глубокое горное ущелье, очарование пропасти. <…> Он снова увидел далеко внизу нитку горного потока и похожие на стальную «молнию» крошечные рельсы, слышал тающий гул <…> [11, с. 31]. Ему снилось, что он упал в пропасть и под ним гранатой взорвалась пустота [Там же]. «Взрыв гранаты» символизировал опасность, исходившую от соглядатая, поскольку после гибели Крылов узнал в нем убийцу мастера Леонидыча. Мучительная попытка вспомнить, где он видел Завалихина раньше, увенчалась успехом. Осознание этого произошло не без помощи сна: Крылов был единственным свидетелем, видевшим убийцу. Паника орала ему в волосатые уши, чтобы он <…> быстро убирал опасного свидетеля. Он помирал со страху <…>. Они с Крыловым все это время будто перебрасывались гранатой с выдернутой чекой – а Крылов не понимал [Там же].
Сны, в которых умершие родственники помогают принять решение. В романе «Медея и ее дети» Елена Степанян написала Медее о том, что накануне спешной эвакуации семьи в ночь на семнадцатое ноября восемнадцатого года ей приснился (явился) дальний родственник, которого она никогда раньше не видела: Он как-то плавно приблизился ко мне и сказал внятно, певучим голосом: «Пусть все уезжают, а ты, деточка, оставайся. В Феодосию поедешь. Ничего не бойся» И тут я увидела, что он не полный человек, а только верхняя часть, а ниже туман, как будто призрак не успел целиком сложиться [15, с. 31]. Этот сон-предсказание спас Елену от возможной гибели. Самуил Мендес, предлагая Медее выйти за него замуж, рассказал ей, что видел на кануне во сне свою мать [Там же, с. 56].
Сон – пограничное состояние, которое воспринимается персонажами как сон наяву. В произведениях Л.Улицкой герои художественных произведений, впадая в пограничное состояние, часто встречаются со своими умершими родственниками. Например, Медея увидела своих родителей и сестру: На этом самом месте, в тени дикой оливы, посаженной над могилой Харлампия, <…> задремав на лавочке, Медея увидела всех троих <…>. Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе не дремала. Во всяком случае, никакого перехода от сна к бодрствованию она не заметила, а в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый [Там же, с. 29].
В романе «Казус Кукоцкого» Елена описывает свои пограничные состояния, в которых она встречается со своим дедом, бабушкой и другими персонажами произведения. В ночь после похорон Евгении Федоровны она «встретилась» с бабушкой, разговаривала с ней, пила чай. Что это было? Сон? Не то и не другое. Нечто третье. Не знаю, как назвать. То третье состояние, относительно которого и сон, и бодрствование равно далеко отстоят [16, с. 116].
В контексте произведения И. Полянской «Прохождение тени» процесс игры в шахматы ассоциируется с жизнью человека, который, пытаясь победить, ведет игру на чужой территории. Одна из сфер «чужой территории» – это инобытие. Главная героиня вспоминает легенду, согласно которой на обратной стороне луны живут умершие. Эти размышления связаны в тексте с воспоминанием о том, как она ходила ранним утром на кладбище: <…> увидела над собою вдруг такую же ослепительную, как солнце, луну <…> я опять, хоть у меня не было с собой закопченного осколка, оглянулась на луну, странным, вибрирующим потоком проливавшуюся на эту тьму, на меловые памятники, похожие на шахматные фигуры <…>. Безумный зрачок луны скользил по именам, впиваясь в каждую букву <…>: Лунев, Кривошеин, Коробейников <…>. Я знала эти имена, они значились в турнирных таблицах нашего шахматного кружка. Но как они попали сюда, неужели с той поры, как я отправилась искать свою птицу, прошли года и они все умерли? <…> Я забрела сюда не случайно: я должна отыскать под этой луной свое собственное имя [6, с. 55]. Жизнь и смерть сопряжены в этом эпизоде. Вторжение в мифологическое пространство выраженное состоянием между сном и явью не случайно, поскольку ситуация «игры на чужой территории» в контексте романа неоднократно трансформируется, но неизменно заканчивается духовной гибелью, ведущей к предательству.
В некоторых романах (Л. Улицкая «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети», Л. Петрушевская «Номер Один, или В садах других возможностей») сны связаны с пространственно-временной организацией текста, которая реализуется в том числе и посредством системы символов, взаимосвязанных между собой и пересекающихся с темами, мотивами и образами. Например, наиболее часто встречающиеся символы в снах Елены Георгиевны – это дверь, окно, вода, песок, свет, небо, переход по мосту через каменное русло иссохшей реки. Особое значение эти символы приобретают в сочетании с мотивом времени. Время в романе не просто связано с жизнью и смертью героев романа, оно тесно соотнесено с мифопоэтическими символами воды и песка, которые, в свою очередь являются своеобразными скрепами в произведении, соединяющими в единое целое сцены описания реального бытия и инобытия. Вода в романе является не просто символом, а в большей степени мифологемой. В романе «Казус Кукоцкого» мифологема воды связана с теми частями романа, в которых изображается бытие. Во второй части произведения («сон» Елены Георгиевны об инобытии, о жизни после смерти) функции воды выполняет песок. Ему присущ тот же мифологический контекст, что и воде [1, с. 240]. Двоякость мифологемы воды (а потом и песка) воплощается в романе в супружеской чете. Павел Алексеевич являет собой мужское порождающее начало (символична профессия героя произведения – врач, помогающий ребенку появиться на свет или лишающий ребенка жизни). Елена Георгиевна, соответственно, олицетворяет собой женское начало в романе [10, с. 93].
Мотив рождения и перерождения (как духовного, так и физического) связан в произведении с мифологемой воды, которая является границей между мирами – реальным и потусторонним. Беременная женщина может быть вместилищем иного, мифического пространства (ребенок рождается и переходит из мифического пространства в реальное). Вода может отождествляться с землёй как другим воплощением женского начала. Так возникает возможность в контексте романа сопоставить воду с песком в пустыне из сна Елены Георгиевны. Мифологема воды в романе Л. Улицкой имеет еще одну грань: вода – это свет в различных его проявлениях (в системе противопоставлений жизнь – смерть, свет -тьма). В жизни обыденной дети развиваются в чреве матери в воде, а в инобытии взрослые персонажи получают новое рождение в песке.
Таким образом, пустыня, в которой оказываются герои произведения и по которой они идут как бы бесцельно, может ассоциироваться в контексте романа с материнским чревом. В утробе матери человек проходит разные стадии развития, т. е. он выполняет особое «задание». Развитие всех детей во чреве унифицировано законами природы. В инобытии каждый персонаж романа, попавший в это пространство, имеет индивидуальное задание, порой ему самому неизвестное. Из текста романа читателям становится ясно, что это задание связано с предыдущей жизнью. Иудей произнес ключевые слова, объясняющие смысл пути после смерти: Всем надо заново родиться. Заново родить себя… [16, с. 221]. Герои переходят в инобытии в другое состояние только после испытания: они должны перейти по железному мосту странной конструкции через каменное русло иссохшей реки. Мост в мифопоэтической традиции является средством связи между разными ипостасями сакрального пространства. Мост является наиболее сложной частью пути для персонажей, находящихся в инобытии, поскольку он является последним испытанием, которое открывает путь в иное, более совершенное пространство и время, в другой жизненный цикл. В контексте сна Елены Георгиевны мост соотносится с фольклорным мотивом в соответствии с которым, пройдя через мост, души умерших людей попадают в рай [9, с. 169].
Автор, связывая смерть со сном, иногда описывает события, происходящие во сне, как реальные. В романе Л. Улицкой сны Елены Георгиевны представлены как пребывание в третьем измерении, то есть события могут восприниматься читателем как реальные. В снах Елены не существует жесткой грани между миром «физическим» и миром «психическим», между реальностью «внешней» и «внутренней». И потому, следуя за героиней, далеко не всегда можно быть уверенным, пересекаешь ли ты физические ландшафты или же совершаешь путешествие по кругам сознания персонажа. Иногда мнимая разница между бытием и небытием исчезает (события, происходившие в инобытии, опережают события, происходящие с персонажами романа в «реальной жизни», в привычной для нас системе координат). В снах Елены Георгиевны равновесие между внешним и внутренним мирами резко нарушено в пользу внутреннего, особенно в конце романа, когда описание внешних событий в жизни героини почти отсутствует.
Как уже отмечалось ранее, для понимания ценностных смыслов в произведении Л.Улицкой «Казус Кукоцкого» особое значение имеет вторая часть романа, в которой говорится о событиях, происходящих с персонажами в инобытии. Очень важен тот факт, что именно эта часть произведения в большей степени перекликается с эпиграфом и отражает его значение: «Истина лежит на стороне смерти» Симона Вайль. Каждый из героев произведения находясь в бытии, ищет свою истину, отражающую смысл его жизни: служение науке, людям, вера в Бога, поиски внешней и внутренней свободы и т.д. Основные персонажи произведения (Павел Алексеевич, Елена Георгиевна, Илья Гольдберг, Василиса, Сергей и др.) познают до конца истину, смысл жизни только в инобытии (во сне Елены Георгиевны), когда они «рождают себя заново».
В романе Л. Петрушевской «Номер Один, или В садах других возможностей» стихия льда (замерзшей воды) символизирует сферу инобытия Это место, где уходят в подземный мир, по ступеням вниз, <…> в вечные льды <…>. Никому не дано было видеть, мм, как души уходят туда, тихо уходят, со страданием, с болью протискиваясь, пролезая с трудом в эту дверцу, <…> трудно войти в эти льды непомерные, бесконечные, труден путь смерти <…> [5, с. 9]. В произведении используется поэтика страшного сна [7, с. 38]. Переход персонажа из мира живых в мир мертвых и наоборот, так же как и в романе Л. Улицкой, символизирует рождение к новой жизни.
Сон, выражающий душевное состояние персонажа, его душевную травму или жизненную концепцию. Иногда сны совмещают в себе несколько значений. Например, во время болезни в состоянии по-лусна-полузабытья Медея, глядя на ухаживающую за ней родственницу Нину, начинает воспринимать ее за свою дочь: <…> и в голову Медее приходила догадка, которой она как будто очень долго ждала, и теперь она наконец снизошла на нее, как откровение: Ниночка-то их дочь, Самуила и ее, Медеи, их девочка, про которую она всегда знала, но почему-то надолго забыла, а теперь вот вспомнила, какое счастье [15, с. 218]. Этот сон сопрягается в романе с размышлениями Медеи о несправедливости судьбы: Мужем она была оскорблена, сестрой предана, поругана даже самой судьбой, лишившей ее детей, а того, мужнего, ей предназначенного ребенка вложившей в сестринское веселое и легкое тело [15, с. 174].
В романе «Искренне Ваш Шурик» Л. Улицкая использует концептуально важное описание сна персонажей дважды. Вера Александровна Корн училась в Таировской театральной студии, в дальнейшем как актриса она не состоялась, но в свой первый учебный год <…> она раз и навсегда утратила ощущение границы между жизнью и театром, «четвертая стена» рухнула и отныне она играла спектакль своей собственной жизни [17, с. 10]. В те годы ей часто снился один и тот же сон: посреди какого-то совершенно бытового действия, например, чаепития с мамой за их овальным столиком, она вдруг обнаруживала, что в комнате нет одной стены, а вместо нее темнота уходящего в бесконечность зрительного зала, полного безмолвными и совершенно неподвижными зрителями [Там же]. Всю свою жизнь она соотносила с законами «сценической игры».
Сон Шурика Корна: Шурик был убежден, что бабушка умерла из-за того дикого забвения, которое нашло на него, когда он провожал Лилю в Израиль. Его взрослая жизнь началась от темных приступов сердечного страха, будивших среди ночи. Его внутренний враг, раненая совесть, посылала ему время от времени реалистические, невыносимые сны, главным сюжетом которых была его неспособность – или невозможность – помочь матери, которая в нем нуждалась [17, с. 104]. В произведении дано описание эротического сна Шурика: Так, ему приснилась голая Аля Тогусова, лежащая на железной кровати своей общежитейной комнаты, почему-то в остроносых белых ботиночках, которые в прошлом году носила Лиля Ласкина <…>. Он же стоит у подножия , тоже голый, и он знает, что сейчас ему нужно войти в нее, и что, как только он это сделает, она начнет превращаться в Лилю <…>. Многочисленные свидетели – девочки, которые живут в этой комнате, Стовба среди них, и профессор математики Израилевич, и Женя Розенцвейг, стоят вокруг кровати, ожидая превращения Али в Лилю. <…> Но тут начинает звонить телефон <…> и он знает, что его вызывают к маме в больницу, и ему нельзя медлить ни секунды, потому что иначе с Верой произойдет то, что произошло с бабушкой [17, с. 104-105]. Этот сон помогает читателям понять душевную неудовлетворенность персонажа: комплекс вины перед бабушкой и перед матерью, отсутствие собственной полноценной семьи, неспособность привести в гармонию собственную повышенную сексуальность и платоническую влюбленность в Лилю Ласкину, беспорядочные связи с женщинами и страх разоблачения (он же должен быть хорошим мальчиком), нереализованность в профессиональном плане (Шурик не доволен местом учебы и факультетом).
Сон-разъяснение зачастую помогает автору раскрыть духовный конфликт персонажа или выполняет сюжетообразующую функцию. Например, в романе О. Славниковой «Бессмертный» Нина Александровна и ее дочь Марина (каждая в свое время) попадают в ситуацию измены любимого человека. Эта ситуация является причиной глубокой духовной неудовлетворенности женщин, их сомнений в истинности жизни. Героини иногда находятся в пограничном состоянии (между сном и явью). Именно в таких эпизодах произведения проявляется мотив «жизни – сна», второй «реальности»: <…> постепенно Нина Александровна стала путать воображение с собственными снами. Вот здесь <…> она еще досматривала какие-то последние обрывки, остатки отснятого душою материала <…> [12, с. 110]. Неосознанная жажда любви проявляется в снах обеих женщин: Что же такое приснилось? Странное, острое, весеннее: оттаявшая земля, <…> на ней коротенькие цветочки <…>. Что-то, подступая все уверенней и ближе, обещало расшифровку счастья [Там же, с. 244]. Нина Александровна не понимала любви своего мужа, поскольку ждала от него эмоциональных доказательств его чувств к ней, выраженных в общепринятой форме речежестового поведения. Именно сон, разъяснивший события прошлого, помог ей понять, что эти чувства были , но мужчина, морально изуродованный на войне, не знал, как их выразить. Нина Александровна ретроспективно оценила свою жизнь, осознание того, что любовь, семья и дом были в ее жизни, способствовало разрешению духовного конфликта.
Другая героиня романа Марина постоянно в мыслях разговаривала с покинувшим ее мужем. Постепенно отрываясь от реальности, Марина видела просвечивающие, дневные сны, отделенные от яви только мутной молочной перепонкой, пропускающей звуки и основные краски. Казалось, будто муж оставляет ей эти сны посмотреть [12, с. 80]. Эта другая «реальность» компенсировала несостоявши-еся эмоции, но не помогла Марине выйти из травматического душевного состояния, вернуться к реальной действительности психологически готовой к сложившимся обстоятельствам и понять, что любви в ее жизни больше нет.
Таким образом, «пространство сна» в «женской» прозе очень обширно. Сны имеют различные значения и выполняют множество функций. Онейрологические мотивы в произведениях авторов-женщин обладают множеством художественных особенностей: через систему мифопоэтических образов-символов приобретают большое количество ценностных смыслов, которые обогащают тексты романов, включая их в контекст всемирной культуры и литературы. Сцены произведения, в которых есть описание сна, органично связаны со всеми остальными сценами романа: они дополняют, восполняют недостающую читателю информацию, структурируют произведение (пространственно-временная организация текста во многом связана с мотивом сна).
Список литературы Особенности и функции онейрологических мотивов в женской прозе конца XX - начала XXI вв
- Аверинцев С.С. Вода//Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2т./под ред. С.А. Токарева. М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. Т. 1.
- Арбатова М. Визит нестарой дамы: Вполне роман. М.: АСТ: АСТ Москва, 2008.
- Жаравина Л.В. Парадоксы национальной самоидентификации в прозе Варлама Шаламова//Филология и культура. 2009. № 16. С. 30-36.
- Манаенкова Е.Ф. Эмоциональный мир лирики М.Ю. Лермонтова пансионского периода//Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. 2013. № 6(81). С. 135-141.
- Петрушевская Л. С. Номер Один, или В садах других возможностей. М.: Изд-во Эксмо, 2004.
- Полянская И. Прохождение тени: роман, рассказы. М.: Вагриус, 1999.
- Прохорова Т.Г. Проза Л. Петрушевской как система дискурсов: автореф. дис.. д-ра. филол. наук. Казань: Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2009.
- Рябцева Н.Е. Топос детства в современной женской поэзии//Известия Волгогр. гос. пед. ун-та. 2013. № 4 (79). С. 140-144.
- Семикина Ю.Г. Антиномия «открытого» и «замкнутого» хронотопа в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»//Известия Волгогр.гос. пед. ун-та. 2008. № 2. С. 167-171.
- Семикина Ю.Г. Тема материнства в «женской» прозе (на материале произведений Л. Петрушевской, Л. Улицкой, И. Полянской, О. Славниковой, М. Арбатовой)//Гуманитарные исследования. 2010. № 2. С. 91-97.
- Славникова О.А. 2017: Роман. М.: Вагриус, 2008.
- Славникова О.А. Бессмертный: Роман. М.: Вагриус, 2008.
- Солодкова С.В. Православная метафизика в поэзии А.К. Толстого: «морской код» как художественный феномен//Известия Волгогр.гос. пед. ун-та. 2012. № 6(70). С. 105-109.
- Сысоева Ю.Н. Формы художественной репрезентации ментальности в романе Малкольма Брэдбери «В Эрмитаж!»//В мире научных открытий. 2012. № 11. С. 43-52.
- Улицкая Л. Медея и ее дети: Роман. М.: Изд-во Эксмо, 2005.
- Улицкая Л. Казус Кукоцкого: Роман. М.: Изд-во Эксмо, 2003.
- Улицкая Л. Искренне Ваш Шурик: Роман. М.: Изд-во Эксмо, 2005.