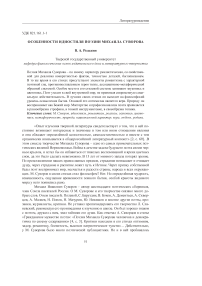Особенности идиостиля поэзии Михаила Суворова
Автор: Редькин Валерий Александрович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Поэзия Михаила Суворова - по своему характеру реалистическая, со свойственной для реализма конкретностью фактов, точностью деталей, бытописанием. В то же время в его стихах присутствуют элементы романтизма с характерной поэтикой сна, противопоставлением героя толпе, ассоциативно-метафорической образной системой. Особое место в его стилевой системе занимают звукопись и цветопись. Поэт уходит в свой внутренний мир, не принимая современную социальную действительность. В лучших своих стихах он выходит на философский уровень осмысления бытия. Основой его оптимизма является вера. Природу он воспринимает как Божий мир. Мастерство и профессионализм поэта проявляется в разнообразии строфики, в тонкой инструментовке, в своеобразии топики.
М. суворов, идиостиль, романтизм, реализм, звукопись, цветопись, метафоричность, природа, национальный характер, вера, любовь, родина
Короткий адрес: https://sciup.org/146281364
IDR: 146281364 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи Особенности идиостиля поэзии Михаила Суворова
«Опыт изучения тверской литературы свидетельствует о том, что в ней постоянно возникают интересные и значимые в том или ином отношении явления и она обладает определённой целостностью, самодостаточностью и вместе с тем органически вписывается в общероссийский литературный контекст» [2, с. 69]. .В этом смысле творчество Михаила Суворова – одно из самых примечательных поэтических явлений Верхневолжья. Война в детстве задела будущего поэта своим черным крылом, и хотел бы он избавиться от тяжелых воспоминаний и ярких цветных снов, да это было сделать невозможно. В 13 лет от минного запала потерял зрение. По представлениям наших православных предков, страдание возвышает и очищает душу, через страдание и распятие лежит путь к Истине. Через призму собственной беды поэт воспринимал мир, несчастья и радости страны, народа и всех окружающих. М. Суворов в своих стихах стал философом? Нет. Но определённая мудрость, взвешенность, ощущение временности земного бытия, особой красоты видимого мира у него появились рано.
Михаил Иванович Суворов – автор шестнадцати поэтических сборников, член Союза писателей России. О М. Суворове и его творчестве сказано много добрых слов. О нем писали Б. Полевой, С. Баруздин, В. Боков, А. Дементьев, А. Скворцов, А. Малеев, Н. Попов, Н. Мазурин, Ю. Никишов и многие другие поэты, прозаики, журналисты, критики. Не уставал пропагандировать его творчество Л. Сла-невский, рекомендуя его произведения к изучению в школе. Он был хорошо знаком с поэтом, дружил с ним, знал тайники его души. Как отмечал А. Скворцов в статье «Гражданское мужество поэта»: «Поэзия Михаила Суворова человечна и демократична по своему содержанию» [4, с. 3]. Критики находили в его стихах оптимизм, задор, романтику, боевитость, высокое патриотическое чувство… Действительно, у М. Суворова было много поэтической публицистики. Но и в ней пробивалось стремление защиты личности и национальной государственности. Отсюда внутренняя полемичность, неприятие некоторых мыслей, мнений, лозунгов, определенного поведения. Стихотворение «Все мы любим людей», открывавшее сборник «Капли зари» (1966), высмеивает внушаемое газетами абстрактное сочувствие индейцам, африканцам и жителям Европы. Помоги конкретному человеку: больному соседу, многодетной вдове, – фактически призывал поэт.
В 1980 году А. Дементьев писал: «Михаил Суворов по сути своей лирик. В его стихах живет неистощимое удивление от бесконечных открытий, которыми одаривает его жизнь. В стихах, посвященных природе Верхневолжья, чувствуется не только поэтическое осмысление вечности бытия, но и бесконечная влюбленность в мир, в его красоту и романтику» [1, с. 4].
«Свершает солнце поворот, / Не знает время передышки. / И вот по капле соки вышли, / И начинается полет. / По кругу вниз, по кругу вниз, / На землю, в землю, / Значит, к Богу…», – не о кленовом это листе, а о себе, конечно, о загадке жизни и смерти. «Туда стезя неблизкая, / Пора, пора домой! / Уже и солнце низкое / Погасло за спиной», – какие это пронзительные строки! «Сколько снега, сколько злого снега, / И сугробы, словно валуны! / Добреду ли нынче до ночлега? / Добреду ли завтра до весны…» – какая грусть! Обостренные чувства поэта не только помогали ему компенсировать отсутствие зрения и представлять мир ярким и красочным, но подчас ощущать и незримое. В стихотворении «Шаги» передается то ли сон, то ли явь, когда поэт слышит тихую поступь умершей матери, которою просто невозможно не узнать: «На меня кто-то влажно дохнул / И прошелся ознобом по телу. / Кто-то рядом рябину качнул, / – Долго-долго она шелестела…» [5, с. 63]. В поэзии М. Суворова есть целый смысловой пласт, который критики прежде старались не замечать и пафос которого заключен в отчаянном восклицании: «Бог ты мой, разгадать помоги…».
В глубине строки М. Суворова заключён скрытый смысл. Будто поэт знает какую-то тайну мироздания и только намекает на нее, а не говорит открыто: эта тайна – в трагическом мироощущении поэта. Эта тайна – в одиночестве. Обыкновенный обыватель старается не замечать своего одиночества в этом мире (он остро чувствует его, может быть, только в момент смерти), а человек, отрезанный от мира слепотой, чувствует его, наверное, постоянно и проникается трагическим ощущением отчуждения друг от друга всех и каждого. Тяжелы поэту «часы пустоты», тоски, невидимых миру слез: «…Часто в сердце слёзы закипают, как родник», – признается стихотворец, «и подкатывает к сердцу холод тройкой расписной», и хочется «…Богу помолиться истово тайком». «Таланты – всегда эмигранты», – искренне считает он. Не случайно смысл своего творчества поэт видит в том, чтоб «сдружить Одиночество природы / С одиночеством души» [Там же, с. 8]. Его приобщение к вечности, неприятие суеты, лучшие поэтические строки – всё это результат чувства одиночества (стихотворении «Одиночество»):
Я запрусь на засовы,
Жалюзи опущу, Драгоценное слово Для стихов отыщу. И заботы, и праздник Смоет пенная тишь. Я мечтал, только разве От себя убежишь [Там же, с. 53].
Реалистическая деталь приобретает у поэта значение символа, щелочки в иной, духовный мир. Капли росы, например, становятся каплями зари, солнца, частичками бесконечно прекрасной природы, радости жизни, любви: «Я люблю вас, ромашки, / Луговые ромашки, / Лучезарные, в каплях росы, / Тонконогие, словно девчонки. / А девчонок я очень люблю».
Для идиостиля Суворова характерна покоряющая искренность. М. Суворову удавалось создать немало ёмких, афористичных, значимых строк. Точная конкретика умножается здесь на многозначную символику. «Разломали храм однажды и забыли цель…». К сожалению, так и бывает, идет ли речь о старой церквушке, сложном государственном здании, социальной системе или храме души отдельного человека. Но, с точки зрения поэта, духовные ценности неуничтожимы: «Затопили колокольню, но звенят колокола».
С чем ассоциируется у М. Суворова труд поэта и с кем сам поэт? «Шоферы и поэты, / Мы сходны по судьбе», – восклицает он в стихотворении «Ночные рейсы». А позже соотнесет поэта с образом путника, ждущего подаяния: «Не для меня чужой уют – / Подайте бедному поэту! – / И, слава Богу, подают». И все-таки автор не верит, что спад внимания к поэзии, наступивший в переломные перестроечные годы, продлится долго.
Михаил Суворов – один из тех в нашей тверской поэзии, кто тщательно работал над формой. Главную роль в поэзии играет образный строй речи, слово в контексте смыслов и звуков. Выразить свое видение мира стремится и М. Суворов. Вот и появляются у него характерные только для него сравнения и метафорические выражения: «Но детская влюбленность / Как ранние рассветы: / Они еще туманны, / Но их не погасить», «…Земля /в синих лентах речек, / где купается заря, / Освежая плечи», «Я – береза, только слезы / Не ищи в моих глазах. / Я баюкаю морозы / На серебряных ветвях».
Для поэта особое значение имеет звучание стиха. Он не раз признавался, что в муках творчества немалое место занимает поиск созвучий: «То цветы ищу в полях, / То созвучия в словах…». Звуковые повторы, звуковые метафоры органичны и естественны в его стихах. Река Руза рифмуется с арбузом и лазурью. «А за горами громыхает гром, / И шар земной дымится под ногами», – заметим, как тонко с помощью инструментовки поэт передает грозное небесное начало (аллитерация «гр») и мягкое земное («С каждой утратой удары бо льн ей») – звуковой повтор ( тра – дар ) усиливает значение слова. Эпитет он подбирает не только по зрительному соответствию сути явления, но и звуковому: «литая сила», «размашистый маятник».
В замечательном по искренности и проникновенности стихотворении «Цвета и формы» М. Суворов пытается передать присущие ему способы познания мира – осязанием, обонянием, на вкус, «кровью сердца, чуткой кожей»:
Слышу звезды, слышу росы –
Звукам утра кто не рад?
На губах моих покосный
Незабытый аромат.
Наплывает густо, внятно
Горьковатая теплынь:
Здравствуй, медленная мята,
Здравствуй, мудрая полынь! [Там же, с. 8].
Характерно для поэта умение перевести свои ощущения в звучащее слово. «Медленная мята» – это как наплывы запаха аромата полей. «Невозможное возмож- но» в поэзии, так что стихотворец вправе заявить: цвета и формы мира «всем видны и мне видны». И, может быть, только у него возможна такая ассоциация: «Полная пустая тишина / Не таит ни запаха, ни вкуса – / Бузина стоит обнажена / И ветвями вздрагивает грустно». Тишина у него «лазурная», лист кленовый с ладони «скользит с печальным звоном».
В 50–60-е годы поэт рисовал особенно яркий цветовой, живописный мир, как будто пытался компенсировать вечную темноту слепого, как будто хотел, чтобы читатель не догадался о страшной личной беде. Вот строки стихов, взятых из сборника «Капли зари» и более поздних книг: «Звёзды считаю, как желтых цыплят», «небо синью плещется», «голубая тишина», «Красногрудым снегирем / На снегу заря играет», «на рябине рдеют гроздья, / Будто губы у тебя», «неба синь», «Белый куст сирени», «весна расплескалась голубою волной», «Она ступила гордо / На золотой песок», «Плечи розовели, / Облитые зарей» и т. д. Мы просто не замечаем этих ярких цветов окружающего мира, потому что привыкли к ним. Мир более ярким предстает в воспоминаниях и снах. Это просто та индивидуальность и неповторимость, которая так ценится в искусстве.
Тормозят машины: На шоссе закат.
Желтые осины
Свечками горят.
На рябине красной Ягоды желты.
Льется свет опасный, –
Хуже темноты [Там же, с. 21], – рисует поэт яркую импрессионистическую картину в стихотворении «На шоссе», заканчивая образом сарьяновской яркости: «Пляшут блики косо, / Словно апельсины / Скачут под колеса». Так и хочется воскликнуть: «Да полно, точно ли это наша среднерусская полоса, а не экзотические субтропики?» Но осины и рябины сомнения развеивают. Вот они, пронзительно щемящие воспоминания зрячего и зоркого детства: «А липа сыплет желтые цветы / На деда, на меня и на кусты, / Где я стою в рубашке синей-синей / И на ладонь ловлю медовый ливень». В стихотворениях 90-х годов мир поэта не то чтобы потускнел, а стал более реальным, не таким красочно-романтичным и броским. По словам С.Ю. Николаевой, «романтическое искусство предваряет историю реализма в русской литературе, служит в ряде случаев первоосновой его развития» [3, с. 67]. Это относится ко многим русским писателям. Именно в таком русле развивается и творчество М. Суворова.
Так же необычна и романтически выпукла у М. Суворова деталь окружающего мира. М. Суворов точно скажет, какие глаза у зайца: «Да, у зайца славные глаза – / Темные с коричневым отливом», а у скворца «Чуть отставлено крыло, / Отливает сталью». Широко используется поэтом психологическая деталь в изображении природы: «Над рекой растерянно / Бабочка порхала». На самом деле это растерян малыш, у которого нырнул и никак не вынырнет отец. Или: «Утро медленно веки открыло», яблоня «глядела печально вокруг, / Будто старая мать», «А заря умылась у реки, / Синевы в ладони нацедив…», «Лес без песен точно сирота» и т. д. И напротив, человек характеризуется образами из мира природы: «Метались жалкими птенцами / Глаза под крыльями бровей». Особое место в поэзии Суворова занимают образы нашего милого лесного зверья, домашних животных и птиц («Котенок», «Гусь», «Кукушка», «Сорока», «Скворец», «Бронзовый голубь», «Митинг»,
«Журавлиная строчка», «Заяц», «Волк», «Муравей»). Конечно, все они очеловечены, одухотворены, те же боли и радости, что и у людей, те же проблемы и трагедии: «Хорошо бы прилетели дети – / Почему-то страшно за детей». А вот и тягостное расставание с жизнью: «Птичка-невеличка, словно спичка, / Молча догорает под кустом».
И все-таки декларативность и лозунговость поначалу утомляла читателя: «Но выше страха – разум!», «Если есть в любви законы, / То должны быть нарушители», «Каждый также в свой черед / К солнцу с девушкой уйдет», «Где есть любовь, / Там нет покоя, / Где есть покой, / Там нет любви»; и просто: «Я любви хочу!». Позже, начиная с конца 60-х годов, М. Суворов стал чаще прибегать к декларации, основанной на метафоре, имеющей символический характер: «Пусть малыш буянит и растет зубастым!» – восклицает поэт в конце стихотворения «У мальчонки зубы режутся», и ясно, что имеется в виду активная позиция в жизни, полной жестоких схваток и возможных синяков. «Как орда Тамерлана, ты прошлась по любви», – это обобщенный образ, срез трагической ситуации неразделенной любви. Библейский образ Иуды поэт прилагает к современности: «Россия взбаламучена до дна, / А в небе беспокойная луна… / Хитрят и предают почти повсюду. / Осины есть. Осина ждет иуду!».
Одной из сквозных тем творчества М. Суворова является память войны. Среди стихов на эту тему поистине замечательны «Ночь на Курской дуге», «Ветераны», «Солдаты». Трогательно стихотворение о смерти маленькой сестренки, написанное на автобиографической основе:
Я помню глаза сестренки,
Я помню такие глаза,
В которых стояли потемки
И медленно стыла слеза.
А рядом порхали стрекозы, На крыльях – голубизна.
А рядом в закате розовом
Ворочалась глухо война [6, с. 10].
У М. Суворова обращение к образам войны становилось иногда как бы приемом, оттеняющим светлую современность. Красиво и счастливо шагают пионеры по проселкам страны, несмотря на грозы и встречный ветер, но «Деды этих пионеров / На грозу в шинелях серых / Шли к Можайскому шоссе»; счастливо и бодро разъезжают наши туристы «на Дунай и за Дунай, / И на Вислу, и на Одер…», – но не надо забывать тех, кто когда-то «По Европе трудно, с боем / Прошагали гордые. / Сколько их на берегах / Вислы, Одера, Дуная / Прикорнуло на века».
Обращают на себя внимание остросоциальные стихи. В 90-е годы это «Бомжа» – о вокзальных бомжах и проститутках, «Обида» – об обычном для нашего времени явлении, угоне и «раздевании» машины, «Эмигранты» – о том, что сейчас наступила пора России «собирать сыновей нелюбимых», «Последний шаг» – где выражена мечта о судном дне для разорителей России.
М. Суворов живет в одном времени и одними мыслями с читателем и, к сожалению, оказывается иногда даже более доверчивым, чем они, может, оттого, что все-таки часть визуальной информации остается для него скрытой. Перед настоящим временем он явно растерян. Он не может не знать о нынешних бедах и страданиях, но кто виноват, ответить не в состоянии: «Кто распял и души, и тела? / Вроде бы и нету виноватых». Эта потерянность приводит к возникновению соот- ветствующих образов: «Неуютно в поле, неуютно: / Волки воют и куранты бьют… / Где теперь отметины маршрута? / Компас врет, как все сегодня врут». И возникает вопрос: «О чем писать? / О жалких буднях, / О политической возне?» А попытка все-таки назвать виновных оказывается слишком прямолинейной, не очень убедительной, а главное, мысль выражена в неудачной с точки зрения образности форме: «Но посольства посреди Москвы, / Как насосы, кровь качают нашу». Отсюда горькое сетование Пегасу о невозможности заново прожить жизнь и переписать некоторые прежние стихи:
Ты недоверчиво косишься,
Крылатый зверь?
Косись, косись…
Известно, что не перепишешь Былых стихов, былую жизнь. Я не боюсь суда людского, И все-таки душа болит.
Давай, Пегас, проскачем снова От «А» до «Я»…
Но конь молчит [5, с. 9].
Стихи М. Суворова 90-х годов – это документ эпохи, отразивший беспросветную трагедию народа. Бездействует милиция, «пропивает добычу ворье», «в цеху заводском чудят бракоделы»… «Вот так на Руси и живем…», – подводит невеселый итог поэт. Конечно, М. Суворов отнюдь не ханжа в стихах. Он поэтизирует все, что не чуждо человеку. И все-таки по большому счету в иерархии ценностей высокое место занимают у него чистота помыслов и дел, целомудрие. Как он бережно относится к «нецелованным березкам», как он нежен со своей возлюбленной! У него проявляется особая, нравственно заостренная направленность образа: «Ослепшая зависть и ложь».
Сложен вопрос о мировоззрении и вере Михаила Суворова. Однако иконопись для него, видимо, всегда несла в себе идею подлинной духовной красоты. Не случайно в замечательном стихотворении «Над прорубью», рисуя облик прекрасной, может быть, слишком доверчивой и несчастной женщины, поэт обращается к национально-православным традициям: «Женщина от проруби / Подняла глаза, / Строгие, огромные, / Как на образах. / Прижилась горчинка / В грустных, голубых, / Словно Русь лучинная / Так и тает в них». Уже в 60–70-е годы поэт не избегает таких слов, как крещение, причастие, распятие («В горьких реках России / Я рожден и крещен»). Но, судя по стихам поэта, он так и не пришел к твердой вере наших прадедов, догматам исторического христианства, хотя типологически, по заряду вложенной в слово любви, он близок к этому. Все ощутимей становится евангельский текст в его стихах, хотя М. Суворов был, конечно, сыном своей эпохи, со всеми её соблазнами, заблуждениями и страстным поиском веры: «На распутье стою, / Словно храм без икон, / А на землю мою / Опускается звон. / Я к нему не привык: / Он как будто ничей, / Колокольный язык / Возвращенных церквей».
«Мне кажется, что небо создавало всю нашу землю из самой любви», – это признание в одном из последних прижизненных сборников вполне искренне. М. Суворов начинает осуждать «безбожную эпоху» и безверие: «Креста березе не хватает…». Больше того, в стихах последних лет жизни появляется образ Христа как символа высшей красоты и чистоты: «Белых лилий россыпь на воде / Как следы идущего Христа» [Там же, с. 10]. Да и образ России трансформируется в Свя- тую Русь и рисуется через призму библейского текста: «Никакая ты не Магдалина! / Ты навек с Христом обручена, / Отряхнись и встань опять невинной». Все чаще поэт вспоминает Бога и начинает писать это слово с большой буквы: «На землю, в землю, / Значит, к Богу. / Еще чуть-чуть, еще немного, / И я сгорю, как этот лист». Думается, появившийся в последнее время сквозной образ горящей свечи тоже как-то связан с церковью: «Ладаном кадильницы курятся, / И мерцают свечи даже днем», «Кувшинки в июле цветут, / Как будто зажженные свечи / Русалки куда-то несут…». А вот проникнутый православным сознанием пейзаж: «Вокруг российская юдоль, / Где день лампадой догорает, / И выедает очи соль», «Испил воды – испил молитву на древнем чистом языке», «И стоит собором вечным / Ель, покой храня. / На ветвях мерцают свечи, / Только нет огня», «То ли ангел серебристый, / То ли самолет» и т. д.
Впрочем, поэт не отказывается и от своих древних языческих корней. «Вся языческая древность бродит в жилах у меня», – передает он свое подсознательное ощущение родственности с дохристианской Русью. И кажется ему, что березы горят «В языческом тумане, / Как русская душа».
Все чаще начинает М. Суворов обращаться к национальной истории («Языческий сон», «Ярославна», «Монолог Отрепьева», «Кинжал Грибоедова» и т. д.). У него появляется некоторый эпический размах по типу стихов А. Твардовского («Карта России», «На горе Митридат»). Тревога за судьбу Отчизны становится у Суворова вровень с собственной нескончаемой болью. «О, Матерь Божья, помоги Руси многострадальной нашей», – вырываются у поэта слова мольбы в поэме «Ночь княгини Ольги». И речь здесь идет не столько о времени тысячелетней давности, сколько о современности. В стихах М.И. Суворова появляется образ загадочных темных сил, сгустившихся над Россией: «Кто-то творил чудеса / В маске угрюмой, как ворон…», «От слёз людских и лживых слов / Душа России пожелтела…».
В своей пятой книге стихов «Стоимость солнца» поэт в декларации заявляет о стремлении выйти к глобальным, планетарным проблемам современности, отказавшись от позиции «озорного мальчишки», который «слишком долго тешился стихом, где рифмы голубели васильками». Возникает образ дымящегося земного шара, раненого, кровоточащего солнца. Неслучайно его обращение к фольклорной традиции, в частности к былине. Былинный эпос интересен Суворову не столько с чисто исторической стороны, сколько со стороны нравственно-психологической. В пример можно привести использование сюжета былины «Вольга и Микула». Здесь развивается мотив гордой независимости Микулы Селяниновича и уязвленного княжеского самолюбия. Используются (правда, несколько трансформированно) и сюжеты об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, о Святогоре.
В мире, созданном поэтом, царит милосердие и сострадание, «березы санитарками хлопочут», и поэт «готов сменить страницы на бинты», но тут же он замечает, что у тех же «берез летучие ресницы такой земной греховной красоты!». Получается, что острые политические, идеологические, социальные проблемы, которые проникают в его поэзию, в образе, музыке стиха, звуковом повторе поэт стремится эстетизировать, обратить внимание читателя на прекрасные мгновения жизни. Это скрашивает впечатление при перечитывании стихов 1950–1970-х годов, слишком замкнутых на своем времени.
Многие стихи М. Суворова в своей основе сюжетны, даже стихи о природе. То это рассказ о том, как ласточки вступили в бой с коршуном, то о том, как журавлиную свадьбу прервала «равнодушная двустволка», то повествование о судьбе бе- резовой рощи в годы войны. Стихотворение «Пудель» – о том, как какой-то татарин, рискуя жизнью, спас собаку, – вообще приближается к балладе.
Ему удаются жанровые картинки, например, красочного базара в «Сентиментальной балладе» или отела коровы в стихотворении «На рассвете»:
Хозяин лицо утирает,
Дрожит от волненья рука.
Он тоже утробно вздыхает
И поднимает телка:
– Смотри, белоногий сынишка! Неужто не хочешь взглянуть! – Корова натруженно дышит
И тянется сына лизнуть [Там же, с. 19].
При этом стихи, как правило, имеют целью не просто живописать быт, а выразить определенную мысль. В данном случае авторскую, в традициях романтизма, когда герой противостоит окружающей действительности и отстаивает свою позицию в жизни: «Я, как чужак, стою среди веселья, / Среди забот и вечной суеты… / Да ну вас к шуту… Я не покупатель». Впрочем, автор и не продавец, он – творец, художник. Поэзии он отдает весь жар своей души.
Постепенно образ в некоторых стихах М. Суворова насыщается глубинно-философским содержанием. Человека часто сравнивают со звездой, но поэт как бы разворачивает сравнение во времени и возможном драматизме человеческой судьбы: «Люди восходят, как звезды, – долго ли будут гореть?» Образы природы приобретают бытийный характер, сопрягаются с основным вопросом философии. Нет, не что первично или вторично, а что такое жизнь и смерть: «И луна кругла, как циферблат, / Только трудно стрелки разглядеть, / Что часы далекие таят? / Может статься, нашу жизнь и смерть». Поэт разгадывал живые письмена природы, тайный шифр судьбы – и своей, и страны, и своего народа. И если образ дороги сквозной в его творчестве, то в последнее время все чаще возникал у него образ потерянной дороги, храпящих у ворот коней: «Значит, дорога легла / К древней церковной ограде…», «И мчится тройка удалая, глаза испуганно скосив. / А где дорога столбовая – / Никто не знает на Руси!»
Черты индивидуального стиля ярко проявляются у Суворова в его интимной лирике. Не случайно так много стихов Михаил Иванович посвятил своей жене Ирине, которая была его ангелом-хранителем и бесценной помощницей. И все они – о красоте Божьего мира и о нескончаемой на земле любви («Природа», «Рисунок», «Подожди», «Сударыня», «Лилии», «Бузина» и многие другие). И, как всегда, свое, личное поэт вкладывает в строки, воспевающие роль жены в судьбе писателя, тем более писателя слепого:
Жена по высоким природным законам –
Вторая бессонная мать.
Слагают стихи о невестах влюбленных, А надо о женах писать…
Поклон вам, совсем не спесивым, Поклон вам, заботливо-гордым! – Недаром Земля и Россия
В грамматике женского рода [Там же, с. 23].
Впрочем (может быть, в шутку), он говорит и о «крутости» жен. Так, появляется новый, неожиданный поворот в сюжете об Илье Муромце и Соловье-Раз- бойнике: «Соловей-разбойник – полбеды, / Вот жена разбойника – беда!». Тема любви в поэзии – лакмусовая бумажка, определяющая, лирик ли поэт в душе или «эпик». Лиризм в поэзии М. Суворова явно превалирует, и, к счастью, стихи он посвящает не только жене. Замечательны стихотворения «Жар-птица», «Первый поцелуй», «Вопрос» и многие другие. Это стихи-воспоминания, стихи-фантазии: «Хохочи во весь горячий рот – / На губах твоих заря цветет. / Лепестки ромашки на губах, / Бесенята мечутся в глазах», «Были губы, и гиблые речи, / И кудрей золотое руно, / Обнаженные жадные плечи / И похмелья скупое вино». В целом удачен цикл «Легенды о любви». Живописно и зримо рисуется здесь пленительная красота богинь и земных женщин, непреодолимое влечение и жаркая страсть, а еще самоотверженность и верность. Некоторые стихи имеют притчеобразный характер с обобщающим выводом: «Любовь за трусость не прощает», «Миг любви – великий миг!», «Всесильны боги, и сильны мужчины, / Наверно так, но женщины сильней!», «И жизнь, и смерть – одно мгновенье», «Если разучились удивляться, / Значит, разучились и любить», «Так бывает – жизнью платят / За волшебное “люблю”». Это не переложение, а тем более не пересказ легенд и мифов, а скорее собственное решение темы Пигмалиона, Нарцисса, Ярославны, Марины Мнишек, персидской княжны и т. д.
Лирическое начало доминирует в поэмах М. Суворова, и в сюжетных, и в бессюжетных. Крупные жанровые лиро-эпические формы стали появляться у поэта еще в начале творческого пути: «Баллада об отце» (1958), «Баллада о Тамаре» (1959), «Августовская ночь» (1960), «Весенний разлив» (1961), «Плечом к плечу» (1976), «Красный цвет» (1982). Ряд поэм был создан им и в последние годы жизни. Поэма «Начало» наиболее интересна и личностна по теме и по способам ее воплощения. Она рассказывает о деятельности французских подвижников-просветителей, давших возможность слепым читать и писать. Повествовательность нисколько не мешает лиризму, который проявляется в выборе самой темы, героев, во введении собственного биографического времени. «Гарь осела. И мальчишке, / Потерявшему глаза, / Часто снятся злые вспышки – / Бесконечная гроза», – вновь выплескивает поэт свою главную боль и вспоминает, как жалели и помогали ему люди, как он ехал учиться в школу слепых и не знал, как же теперь он будет читать и писать. Но личная судьба сходна с судьбами тысяч других людей в прошлом и настоящем, и лирическое «Я» замещается на не менее лирическое «Мы»: «То болезни, то случайность, / То война, война, война… / Нас от солнца отлучили, / Сердце вымучив до дна». И там, где речь идет о кровном, близком, находятся особые слова, и звучит повышенная экспрессия. Кстати, все это любопытно читателю и в познавательном плане: факт создания «шеститочья» Луи Брайля – азбуки для слепых сам по себе каждому очень интересен, но что это значит для человека, утратившего зрение, может передать только тот, кто сам испытал отрезанность от мира, от книги, а значит, от знания: «Мнилось мне, / что эти точки – / Зерен спелый урожай. / Наконец-то, / если хочешь, / Сам пиши / и сам читай. / Строчки пахнут хлебом вкусным, – / Сколько их в моих руках / На французском, / и на русском, / И на прочих языках!»
И в поэме «Красный цвет», эпиграфом к которой можно было бы поставить начальные строки: «Мир вокруг еще суров, / В мире горя под завязку…», – все та же личная боль: «Родится сын. Забрезжит робко / В его ресницах дальний путь. / Но никогда в глаза ребенка / Ты не сумеешь заглянуть…». И в поэме «Мой Островский» все та же, проникающая в миниобраз собственная боль: «Я знаю войну. Я не раз умирал. / Мое воскрешенье как милость. / Я пальцами, кожей потом прозревал.
/ Глазами прозреть не случилось». И в поэме «Поэт»: «Взрыв отнял у мальчишки / Света спелую гроздь, / Тьма меня окружила…».
Следует сказать о песенном творчестве М. Суворова. В содружестве с московским композитором Павлом Ермишевым им была написана широко известная песня «Цвети, земля моя!», которая в исполнении Розы Рымбаевой, Ларисы Кан-даловой, Тамары Гвердцители трижды занимала первое место в конкурсах. Много песен на стихи Суворова были созданы Владимиром Мигулей, Владимиром Успенским, Евгением Малышевым. Песни, написанные на стихи Суворова, звучали на Фестивале молодежи и студентов в 1985 году.
Светлое мироощущение и заставляет М. Суворова писать замечательные стихи для детей. Его сборник «Речка у крылечка» (1994) соответствует самому высокому и придирчивому вкусу. Замечательны стихи английской слепой и глухой поэтессы Фреды Натчер, редактора и издателя журнала «Радуга» Британского королевского общества инвалидов, которые Суворов переложил на русский язык и издал в виде сборника «Черный дрозд». Характерно, что этот поэтический мир тоже полон звуков и красок. Некоторые циклы поэта воспринимаются как произведения и для взрослых, и для их сыновей и дочерей. Например, «Голоса леса», где стихи звучат от имени березы и осины, боровика и мухомора, кукушки и сороки, зайца и муравья.
Михаил Суворов создал свой мир, оригинальный идиостиль, неповторимый и красочный, по памяти и в силу своего воображения. Постепенно складывалась исповедальная манера, характерная предметность восприятия. То, что другим удается создать с помощью ежедневных личных визуальных впечатлений, М. Суворову приходилось постигать внутренним, духовным зрением. Стремясь к точности и реализму в изображении окружающего, он невольно его пересоздает, а значит, уходя от юношеской романтики к трезвому реализму, он так и не может, а возможно, и не хочет отказаться от черт романтизма, которые проявляются в его духовном миро-видении. В этом он оригинален, этим он и интересен. И еще надо отметить неиссякаемый оптимизм поэта. Его жизнь проходила в темноте, и, тем не менее, сквозная черта поэзии М. Суворова – жизнерадостность. На первых порах это было связано с преодолением недуга, с радостью возвращения к активной жизни. Со временем вырабатывается и зреет мужественный характер, не стыдящийся признаться в своих муках и слабостях, но не афишировать их: «И нисколько не боюсь я, / Что окрестят бодрячком. / У меня характер русский: / Если плакать, то молчком».
Список литературы Особенности идиостиля поэзии Михаила Суворова
- Дементьев А. Восхождение к признанию: К 50-летию поэта//Калининская правда. 1980. 24 февр.
- Николаева С. Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова и Владимира Львова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 1. С. 69-79.
- Николаева С. Ю. Балладное и притчевое начала в рассказе А.П. Чехова «Ведьма»//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 4. С. 67-74.
- Скворцов А. Гражданское мужество поэта//Смена. 1980. 23 февр.
- Суворов М. Медленная мята. Тверь: Центрпрограммсистем, 1995. 79 с.
- Суворов М. Песни разлук: Стихотворения и поэма. Тверь: Моск. рабочий, 1990. 158 с.