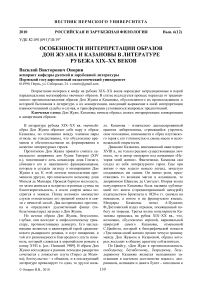Особенности интерпретации образов Дон Жуана и Казановы в литературе рубежа XIX-ХХ веков
Автор: Онорин Василий Викторович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Статья в выпуске: 6 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Возрастание интереса к мифу на рубеже XIX-ХХ веков порождает нетрадиционные и порой парадоксальные метаморфозы «вечных» образов. В статье исследуется процесс перехода от традиционного противопоставления образов Дон Жуана и Казановы, обусловленного их происхождением и историей бытования в литературе, к их конвергенции, находящей выражение в иной интерпретации взаимоотношений судьбы и случая, и трансформации устоявшихся жанровых предпочтений.
Дон жуан, казанова, вечные образы, сюжет, интерпретация, конвергенция и дивергенция образов
Короткий адрес: https://sciup.org/14728940
IDR: 14728940 | УДК: 82.091(091)''18/19''
Текст научной статьи Особенности интерпретации образов Дон Жуана и Казановы в литературе рубежа XIX-ХХ веков
В литературе рубежа XIX–XX вв. «вечный» образ Дон Жуана обретает себе пару в образе Казановы, но отношения между членами пары отнюдь не тождественны, что обусловлено временем и обстоятельствами их формирования в качестве литературных героев.
Прототипом Дон Жуана принято считать севильского дворянина дон Хуана Тенорио (XIV в.), похитившего дочь командора дона Гонзаго, убившего его и наказанного францисканцами, которые и создали легенду о низвержении Дон Жуана в ад. К этой легенде впоследствии примешали другую, про севильского вельможу дона Мигеля де Маньяра. Проведя бурную молодость, он затем женился и истратил огромные суммы на благотворительность, а после смерти жены постригся в монахи. Позже возникло множество слухов относительно его грешной юности и связи с нечистой силой. Два исторических прототипа и определяют дуалистичный финал (ги-бель/монастырь) легенды о Дон Жуане.
Но истоки образа Дон Жуана, безусловно, глубже, они восходят к мифологическому трикстеру, противостоящему демиургу. Его наследниками являются и авантюрный герой средневекового рыцарского романа, и плут пикарески, в той его разновидности благородного плута поневоле, который сложился в европейском романе к концу XVII в. [см.: Пинский 1989]. В образе Дон Жуана восходящее к ранним легендам рыцарство сочетается с ловкостью плута (Тирсо де Молина), богохульство – с обманом, и в последующей литературе превалирует то одно, то другое нача- ло. Казанова – изначально деклассированный практик либертинизма, стремящийся упрочить свое положение, вписывается в образ плутовского героя с его готовностью к смене масок и исповедальной открытости.
Джакомо Казанова, венецианский авантюрист XVIII в., не только реально существовавшая личность, но и автор мемуаров под названием «История моей жизни». Фактически, Казанова сам создал из себя литературного героя. Еще при жизни о нем ходило немало легенд, зачастую создаваемых им самим. Он менял роли, представляясь то великим магом и алхимиком, то дворянином Шевалье де Сенгальт. Вторая волна популярности Казановы была вызвана публикацией его книги (отредактированной цензурой) издательством Брокгауза в 1820-е гг. сначала на немецком, а потом и на французском языках. Мемуары Казановы читал А.Пушкин; Ф.Достоевский издал отрывок, посвященный побегу из тюрьмы. Третья волна популярности Казановы пришлась на рубеж XIX–XX вв., что, возможно, обусловлено игровой, карнавальной природой самого Казановы, отмеченной С.Цвейгом, который в биографической повести «Три певца своей жизни» провел четкую границу между Дон Жуаном и Казановой, образы которых восходят к общему архетипу соблазнителя.
По Цвейгу, «Дон Жуан в противоположность свободному, беззаботному, безродному, безудержному Казанове является неподвижно застывшим в кастовом достоинстве идальго, дворянином, испанцем и даже в бунте – католиком в душе», который «бессознательно подчиняется церковной оценке всего плотского, как ”греха”… «лишь крайняя ненависть гонит его [Дон Жуана] навстречу женщине», затем чтобы уличить их в природной порочной слабости и покарать за нее. Напротив, «в Казанове-любовнике нет ничего демонического, он никогда не становится трагическим героем в судьбе другого» [Цвейг 1992: 436, 437], наслаждение для него – цель и смысл жизни. Вожделения Дон Жуана являются продуктом мозга, а у Казановы «исходят из семенных желез», потому что испанец наделен «полнейшей, ледяной бесчувственностью»; у венецианца «есть лишь чувственность и нет души»1; Дон Жуан – развратитель, а Казанова – соблазнитель. «Соблазненная Дон Жуаном старается предостеречь его новую избранницу <…> от врага своего пола, а соблазненная Казановой, отбросив ревность, рекомендует его другой как боготворящего их пол мужчину» [Цвейг 1992: 440].
Дон Жуан обращен к прошлому (отсюда и бесконечный список женщин, который ведет его «личный секретарь» Лепорелло), он осознает свою греховность и мучается чувством вины. Казанова укоренен в настоящем и лишен всякой рефлексии.
В образе Дон Жуана присутствуют тяга к познанию и демоническое начало, провоцирующие его сопоставление с другим вечным образом мировой литературы – Фаустом2. Наоборот, «в Казанове-любовнике нет ничего демонического, он никогда не становится трагическим героем в судьбе другого» [Цвейг 1992: 437].
Дон Жуан – человек судьбы, и в этом плане он – герой трагический. Не случайно развязкой сюжета о Дон Жуане является не очередная любовная победа, а встреча с Командором. Дон Жуан – фаталист, а «единственное, что может стать для человека злым роком, – это вера в злой рок: она подавляет попытки поворота и обновления» [Топоров 1994: 49]. Казанова целиком подвластен случаю. Более того, он не только не знает своей судьбы, но и не стремится ее узнать, а уж тем более каким-либо образом ей противиться. Вся его литературная биография – это цепь случайностей и, вместе с тем, следование своей натуре («таинственной силе», влекущей его). «Так как судьба у человека одна, а случаев много и сфера “случайного” образует ближайшую и самую актуальную среду человеческого существования, случай активно действует, а всесильная судьба, как правило, бездействует, “отдыхает”, не вмешивается в повседневную жизнь человека и лишь раз на его веку произносит свой суд» [Топоров 1994: 42], что и происходит с Дон Жуаном.
Дон Жуан, как и всякий «вечный образ», неотделим от своего сюжета. Данный сюжет на протяжении своего бытования проявляет способность к редукции, иногда сворачиваясь до одного имени главного героя, образуя мифему3. Наряду с этим, ядро сюжетного конфликта, как правило, сохраняется, а модификации касаются его результата: торжество или поражение и смерть, герой попадает в ад или возносится на небеса и т.д.
Этот устойчивый на протяжении веков сюжет и определяет судьбу Дон Жуана, он выступает его заложником. Сюжет (судьба) ставит Дон Жуана на грань жизни и смерти. Именно в этот предельно обостренный момент он встречает Донну Анну и Командора. Причем эти два персонажа в классическом сюжете оказываются связанными не только родственными отношениями (в зависимости от источника Анна выступает женой или дочерью Командора), но и метафизически. Анна предстает Единственной, отличной от всех других – земным воплощением небесной любви, а Командор – олицетворением судьбы, рока. Казанова как литературный персонаж в отличие от Дон Жуана лишен устойчивого сюжета – его мемуары представляют собой пестрый калейдоскоп приключений, из которого сложно вычленить нечто законченное и выдающееся.
Способы жанровой реализации конкретного вечного образа задаются не только первоисточником (Тирсо де Молина в случае с Дон Жуаном), но, прежде всего, природой героя и конфликта. Так, сюжет Дон Жуана воплощается в драме или поэме (Байрон), жизнь Казановы воспроизведена им в жанре, совмещающем чисто эпическое и романное начала: с одной стороны, замкнутость каждого эпизода при разомкнутости целого, с другой – повествование о собственной жизни, в «контакте с современностью» [см.: Бахтин 1972].
Возрастание интереса к мифу на рубеже XIX– XX вв. порождает неожиданные метаморфозы многих «вечных» образов. В их ряду свое современное, нетрадиционное и порой парадоксальное прочтение находят образы Дон Жуана и Казановы. Например, Дон Жуан Б.Шоу не хочет быть любовником4. Внешний конфликт прошлых веков (Дон Жуан – Командор, Казанова – тюрьма) превращается в конфликт внутренний. Актуализируются мотивы судьбы и случая, свободы и совести. Так, в «Шагах Командора» А.Блока Дон Жуан становится заложником сложности своего внутреннего мира. «Легенда о Дон Жуане в интерпретации Блока предстает как трагедия совести героя, оставившего служение "Прекрасной Даме" ради демонического восторга и "постылой свободы". Борьба в душе изменника воплощена в образах Рока-Командора и "Девы Света" – донны Анны» [Михиен-ко 2001: 108].
Актуализация мотива познания усиливает конвергенцию образов Дон Жуана и Фауста. К.Бальмонт заметил, что «мы неизмеримо меньше любили бы этого чернокнижника [Фауста], если бы он не был братом Дон Жуана» [Бальмонт 1999: 182]. Фаустианская тема присутствует в пьесе Н.Гумилева «Дон Жуан в Египте». Процесс схождения распространяется и на пару Дон Жуан – Казанова. Сначала это происходит опосредовано, так, у М.Цветаевой в третьей картине «Феникса» дряхлый Казанова, подобно Фаусту, обретает (пусть и ненадолго) вторую жизнь через любовь Франциски. Сама же Франциска объединяет в себе Маргариту и Мефистофеля и вдобавок является двойником Генриетты. Как Мефистофель, она таинственно появляется в полночь (под строки из «Приключения») и дарит молодость. Как Маргарита, она является высшим существом, дарящим любовь. Потом у Цветаевой демоническое, темное начало, присущее Дон Жуану, переносится и на Казанову. Слуга Дон Жуана каламбурит, обращаясь к нему как к «Вашей светлости», и называет его «Князем Тьмы». Каламбурит и Ле-Дюк в «Приключении»: «Кто черту – сын, а вы – отец: / Трудами вашими рогат / Весь мир, мессэре!» [Цветаева 1994: III, 492]. С другой стороны, не описанная в мемуарах нищая и оскорбительная старость Казановы достается и Дон Жуану. Старый Дон Жуан появляется у Цветаевой: «Вы – почти что остов» [Цветаева 1994: I, 336]. Тот же «остов» семидесятипятилетнего Казановы в «Фениксе» описан как «Грациозный и грозный» [Цветаева 1994: III, 530]. Стар и одинок Дон Жуан у И.Северянина:
Чем в юности слепительнее ночи,
Тем беспросветней старческие дни.
Я в женщине не отыскал родни:
Я всех людей на свете одиноче.
[Северянин 1990: 148]
У Цветаевой есть и мертвый Дон Жуан, но смерть его отнюдь не демонична: вместо адского огня холод вечного покоя:
Долго на заре туманной
Плакала метель.
Уложили Дон-Жуана
В снежную постель.
[Цветаева 1994: I, 336]
Демоническое начало сохраняется в пьесе Н.Гумилева «Дон Жуан в Египте», но оно приобретает свойственный Казанове игровой, карнавальный характер:
Я был в аду, я сатане
Смотрел в лицо, и вновь я в мире,
И стало только слаще мне, Мои глаза открылись шире.
[Дон Жуан русский 2000: 277]
Здесь Дон Жуан переносится в нетипичное для него пространство (Египет) и время (современность) а также лишается устойчивого сюжета с бесповоротным финалом: в конце торжествующий Дон Жуан увозит с собой Американку. Редкий в мировой литературе образ торжествующего Дон Жуана встречается также в стихотворениях Бальмонта и Брюсова, но их герой, лишенным трагической сущности, превращается в маску ницшеанского сверхчеловека:
Промчались дни желанья светлой славы, Желанья быть среди полубогов.
[Дон Жуан русский 2000: 499]
Он становится не парадоксальным антиДонЖуаном (каким часто предстает на протяжении XX в.), а просто неДон-Жуаном, т.е. перестает быть героем-любовником в общепринятом смысле. Центральная для образа проблема конфликта судьбы и свободы устраняется. Неразрешимое противоречие, составляющее главную коллизию трагедии, разрешается слишком просто и односторонне.
Дон Жуан в XX в. – это не только фаталист, но и актер, заранее знающий свою роль. Мотивы актерской игры и неминуемой расплаты соединяются в сонете Н.Гумилева «Дон Жуан», герой которого примеряет на себя роль Дон Жуана: «Моя мечта надменна и проста», – и оказывается в плену им самим избранной судьбы:
Если Казанова в XIX в. еще выступает персонажем собственных воспоминаний, то в ХХ в. его имя постепенно становится нарицательным и начинается процесс мифологизации данного образа и его конвергенции с образом Дон Жуана. Когда-то, в 1787 г., Казанова встречался с Моцартом в Праге («Казанова приехал туда по-соседски, из Дукса) в связи с постановкой “Дон Жуана”» [Соллерс 2007: 8]. Теперь Дон Жуан, за образом которого стоит многовековая литературная традиция, отбрасывает тень на Казанову. М.Цветаева выделяет из всей цепи приключений Казановы два сюжета: описанную им встречу с Генриеттой («Приключение») и реконструированное представление о старом Казанове, живущем в замке Дукс («Феникс»). На их основе она выстраивает драматический сюжет, подобный «донжуанскому»: Генриетта-Франциска, словно Донна Анна, становится парой Казановы в вечности, его душой-психеей, а не просто очередным любовным приключением.
Е.М.Мелетинский в работе «О литературных архетипах» выделил авантюрно-героический сверхтип литературного героя. В этом плане ли- шенный героики Казанова предстает подтипом «чистого» авантюриста, чье авантюрное начало порождено «вечной человеческой природой – самосохранением, жаждой победы и торжества, жаждой обладания, чувственной любовью» [Бахтин 1972: 176]. Дон Жуан, относясь к тому же сверхтипу, реализует другой подтип – романтически настроенного бунтаря, демонической личности. Здесь он предстает в ряду таких персонажей, как гетевский Фауст, байроновский Каин, лермонтовский демон, ницшеанский Заратустра.
-
1 С Цвейгом оказывается солидарна и М.И.Цветаева: «Блестящий ум, воображенье, горячая жизнь сердца – и полное отсутствие души» [Цветаева 1994, НСТ: 215].
-
2 В романтической интерпретации Дон Жуан и Фауст предстают «символами двух путей – интеллектуального и эротического, на которых европеец мог реализовать себя» [Багно]. Фаустианская тема возникает в поэме Дж.Байрона «Дон Жуан» (1819–1824); в трагедии Х.Д.Граббе «Дон Жуан и Фауст» (1828) эта линия реализуется в виде соперничества за любовь донны Анны, приводящего героев к трагической гибели – падению в преисподнюю на последнем пиру Дон Жуана в Риме.
-
3 Данный термин предлагает Я.В.Погребная в своей диссертации: «Имя Дон-Жуана как мифема концентрирует в себе сюжет легенды, в том числе – двойную редакцию развязки, фактически мифема Дон Жуан – это запись текста легенды на метаязыке. Перевод мифемы на язык литературной интерпретации может быть осуществлен двумя способами: путем реконструкции традиционного сюжета (легенды в ее персонажном составе) или же путем создания нового сюжета с новыми героями» [Погребная 1996: 49]. Примером такого рода мифем в поэзии начала ХХ века могут служить стихотворения Северянина, Брюсова, Бальмонта с названием «Дон Жуан» и Есенина «Может поздно, может слишком рано…».
-
4 Позже в пьесе М.Фриша «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (1953) герой наказывается именно тем, что становится мужем и отцом семейства, то есть оказывается в ситуации, немыслимой и невозможной для
легендарного Дон Жуана: вместо множества женщин – одна, вместо путешествий и дуэлей – повседневная рутина оседлой жизни; иными, словами, он растворяется в родовом начале, когда весь смысл его существования – в противостоянии ему.
Perm State Pedagogical University
Список литературы Особенности интерпретации образов Дон Жуана и Казановы в литературе рубежа XIX-ХХ веков
- Багно В.Е. Дон Жуан//Пушкинская энциклопедия, электронное издание ИРЛИ РАН, 2006-2009 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=294 http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=294>.
- Бальмонт К.Д. Тип Дон Жуана в мировой литературе//Иностранная литература. 1999. № 2. С.181-183.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Худож. лит., 1972.
- Дон Жуан русский: антология/сост, предисл. и примеч. А.В.Парина. М.: Аграф, 2000. 576 с.
- Михиенко С.А. Эволюция образа Дон Жуана в русской литературе XIX-XX веков: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Пятигорск, 2001. 166 с.
- Пинский Л.Е. Магистральный сюжет: Ф.Вийон, В.Шекспир, Б.Грасиан, В.Скотт. М.: Советский писатель. 1989. 416 с.
- Погребная Я.В. О Закономерностях возникновения и специфике литературных интерпретаций мифемы дон Жуан: дис. … канд. филол. наук. М, 1996. 302 с.
- Северянин И. Стихотворения и поэмы. М: Современник, 1990. 493 с.
- Соллерс Ф. Казанова Великолепный/пер с франц. Н.Мавлевич, Ю.Яхниной. М.: КоЛибри, 2007. 232 с.
- Топоров В.Н. Судьба и случай//Понятие судьбы в контексте разных культур. М.: Наука, 1994, 320 с.
- Цвейг С. Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой//Цвейг С. Собр. соч.: в 10 т. М.: Терра, 1992. Т. 3. С. 386-455.
- Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994.