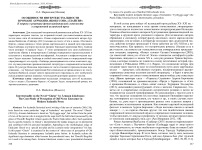Особенности интертекстуальности в романе Аурманна Якобссона "Глайсир". К вопросу о рецепции древнескандинавской словесности в современной исландской прозе
Автор: Маркелова Ольга Александровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежная литература
Статья в выпуске: 1 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
Для исландской исторической романистики рубежа XX-XXI вв. характерно создание текстов, где отправной точкой для повествования является та или иная «сага об исландцах». Роман современного исландского автора Аур-манна Якобссона «Глайсир» (2011) основан на тексте «Саги о людях с Песчаного берега», однако написан с точки зрения маргинального в данной саге персонажа: быка Глайсира, в которого вселился призрак Торольва Скрюченная Нога. Глайсир часто цитирует «Старшую Эдду». У этого цитирования есть свои особенности: эддические образы в интерпретации Глайсира подвергаются переосмыслению и сплетаются с индивидуальной метафорикой. Апелляция к мифологическим пес-ням «Эдды» выделяет Глайсира в особый текстовый план и в определенной мере «программирует» его судьбу. «Глайсир» рассматривается в статье в контексте дру-гих случаев рецепции древнеисландской литературы в современной исландской прозе. В культуре Исландии персонажи саг часто становятся прецедентными пер-сонажами, - но Торольв Скрюченная Нога изначально не принадлежал к их числу. Аурманн Якобссон создает нового прецедентного персонажа за счет необычного использования хорошо знакомых читательской аудитории древних текстов.
Современная исландская литература, саги об исландцах, "сага о людях с песчаного берега", "старшая эдда", исторический роман, интертекстуальность, рецепция
Короткий адрес: https://sciup.org/14914684
IDR: 14914684
Текст научной статьи Особенности интертекстуальности в романе Аурманна Якобссона "Глайсир". К вопросу о рецепции древнескандинавской словесности в современной исландской прозе
В этой статье речь пойдет об исландской прозе рубежа XX-XXI вв. -материале, не попадавшем в поле зрения отечественных литературоведов и пока еще не полностью осмысленном литературоведами Исландии. Главным объектом нашего интереса будет рецепция древнеисландской литературы в крупной прозе указанного периода. Для исландских авторов обращение к «великому литературному наследию» своего народа вполне закономерно, тем не менее, в литературе последних трех десятилетий тексты, действие которых происходит в эпоху действия саг (IX-XIII вв.), немногочисленны. Как правило, это исторические романы. (Однако есть и ряд текстов, где сюжеты саг осмысляются как универсальные прецедентные ситуации, например, «Выкуп головы» Оулава Гюннарссона (2005), где известный эпизод из «Саги об Эгиле» становится метафорой судьбы персонажа, живущего в начале XX в., или ряд романов Траина Бертель-ссона, в которых сюжеты саг ложатся в основу детективных историй, происходящих в Рейкьявике 2000-х гг). Важно, что исландские авторы при создании таких текстов не идут по излюбленному пути своих зарубежных коллег - придумать собственную историю, воспроизводящую распространенные сюжетные коллизии саговой литературы, - а берут в качестве отправной точки для своего повествования какую-нибудь уже известную сагу (Яркие примеры здесь - «Торвальд Странник» Ауртни Бергманна (1994), основанный на древнеисландских «Пряди о Торвальде» и «Саге о крещении Исландии», и «Здесь лежит скальд» Тоурарина Эльдъяртна (2012), являющийся реконструкцией «Саги о жителях Сварвдаля»), Сюжеты саг в современных исландских исторических романах в целом не подвергаются сильной трансформации. Но расхождения с текстом саги в том, что касается освещения тех или иных периодов биографии персонажа, мотивировок его поступков, его чувств и пр., в таких случаях неизбежны, т.к. речь идет о произведениях разных эпох и разных жанров с различными эстетическими задачами. Как поясняет крупный исландский филолог и писатель Ауртни Бергманн: «Люди пытались писать в саговой манере <...>, но гораздо обычнее другое: что они задействовали данные современной психологической науки и современное понимание человека, чтобы заполнить те лакуны и разрешить те загадки, которые предоставляет читателям лапидарный стиль саг» [Anri Bergmann 2012, 118].
Роман Аурманна Якобссона «Глайсир» (2011) является переписыванием «Саги о людях с Песчаного берега» (Eyrbyggja saga) от лица одного ее эпизодического, но очень необычного персонажа: быка по имени Глайсир («Блистательный»), принадлежащего бонду Тородду Торбрандссону с хутора Финнгейрсстадир. В этого быка, согласно тексту саги, вселился призрак Торольва Скрюченная Нога, чей сын Арнкель был убит группой людей, в числе которых был и Тородд [Islendingasogur... 1981, 78, 90, 114].
Аурманн Якобссон (род. 1970) - литературовед, историк исландской литературы, специалист по сагам; в последние годы он также стал уделять время художественному творчеству (в т.ч. обратил на себя внимание книгой в стиле фэнтези «Последний волшебник», адресованной юношеству). Роман «Глайсир» заслуживает отдельного рассмотрения прежде всего по причине оригинальности взаимодействия с материалом древнеисландской словесности. Уже само изложение известного сюжета саги с точки зрения нечеловеческого персонажа - случай, необычный в современной исландской художественной прозе - и, вероятно, не только в ней. Наибольший интерес представляет интертекстуальный ряд этого романа: в него входят общеизвестные для исландской аудитории тексты, однако используются они своеобразно.
Критическая литература о романе на данный момент исчерпывается несколькими рецензиями в исландских литературных журналах. Любопытно, что в этих рецензиях не сказано ни слова об особенностях его интертекстуально сти.
Наиболее верное жанровое определение «Глайсира» - очевидно, «исторический роман», т.к. в этом тексте присутствует достоверная картина определенной исторической эпохи. Но основная предпосылка этого романа - фантастическая: события изложены с точки зрения представителя нечисти. (Рассказчик аттестует сам себя то как призрака, то как «злобного тролля»).
Первый, лежащий на поверхности, слой интертекстуальности - взаимодействие с самим материалом «Саги о людях с Песчаного берега» и других родовых саг. Роман представляет рассказ Глайсира/Торольва от первого лица о событиях до и после гибели Торольва. Иногда текст саги цитируется прямо - в том случае, когда рассказчику необходимо показать, не как он сам воспринял то или иное событие, а как его увидели люди со стороны. Наряду с персонажами «Саги о людях с Песчаного берега» в романе фигурируют или упоминаются персонажи других известных саг: Гудрун Освивсдоттир («Сага о людях из Лососьей долины»), Гисли Сурс-сон («Сага о Гисли»), Снорри Годи (историческое лицо, фигурирующее во многих родовых сагах). Впрочем, отсылка к истории Гисли есть уже в «Саге о людях с Песчаного берега»: там фигурируют его сестра Тордис и ее муж Бёрк; подробно рассказывается, как Тордис обошлась с убийцей брата.
В романе в деталях повествуется о детстве Торольва, на долю которому досталось общение с деспотичным отцом (в самой саге его отец упомянут всего раз), а также о детстве его сына Арнкеля, который в саге предстает исключительно взрослым. В саге разногласия Арнкеля с отцом возникают из-за вполне конкретных судебных дел. Арнкель гибнет в распре с людьми Снорри Годи, уже намного позже смерти Торольва; там оговаривается, что дело о его убийстве разрешили миром, - но окружающим показалось странным, что человек, наделенный таким общественным положением, как он, не был отомщен. В романе обстоятельства гибели Арнкеля не упо- минаются, а ненависть отца-призрака к нему априорна.
В «Глайсире» существенные изменения претерпевает содержательная сторона саги - за счет смещения точки зрения: рассказчиком от первого лица становится персонаж, чья роль в древнем тексте не была центральной. Из-за этого многие события, упоминавшиеся в саге, но не имевшие отношения к Торольву, не получают в романе подробного освещения. Однако перспектива рассказчика, даже пребывающего в образе быка, не ограничена рамками стойла (хотя о своем пребывании в хлеву в темноте и одиночестве Глайсир говорит очень часто). В романе сообщается о масштабных исторических событиях, касающихся всей Исландии. Самое важное такое событие - недавнее пришествие в Исландию христианства; при этом влияние «Белого Христа» ни в коей мере не отменяет волю старых богов: Торольв убежден, что он проклят ими. Коллизия состоит в следующем: чтобы избавиться от проклятия и перестать влачить существование в качестве призрака, Торольв должен отомстить за своего сына Арнкеля, которого никогда не любил, убив единственного человека, относящегося к нему хорошо: Тородда, у которого Глайсир - любимый бык.
В подобных случаях актуальным оказывается вопрос не столько о том, как содержательный план саги изменяется в романе, сколько о том, насколько связь саги с этим романом продолжает быть прочной. Один из рецензентов «Глайсира» утверждает, что для полноценного восприятия романа читателем знакомство с «Сагой о людях с Песчаного берега» вовсе не обязательно [Helga Ferdinandsdottir 2011].
Однако кроме лежащих на поверхности (и, возможно, не прибавляющих почти ничего нового к характеристике заглавного персонажа) отсылок к саге, в романе Аурманна Якобссона есть второй слой интертекстуальности, связанный со «Старшей Эддой». Глайсир часто разговаривает цитатами из мифологических песней (иногда - с отсылками к соответствующим мифам, известным по другим источникам). Уже на первых страницах герой дает коровам, с которыми вынужден делить стойло, прозвище «heimskar audhumlur» («глупые аудумлы»), т.е., употребляет слово, однозначно отсылающее к эддическому мифу о первотворении (впрочем, известному нам по интерпретации Снорри Стурлусона).
Как правило, отсылки к мифологическим песням «Старшей Эдды» появляются при характеристике Глайсиром самого себя и своих чувств. Например: «... страх превращается в чудище, в связанного волка, - а все знают, что он когда-нибудь вырвется, и тогда содрогнется древнее древо. Карлики застонут за каменными дверьми. Небеса расколются. Солнце затмится. Земля погрузится в море» [Armann Jakobsson 2011, 20]. Гнев призрака и его намерение мстить - явление космического масштаба. Само происхождение этого чудовищного быка уподобляется эпизоду сотворения мира. (Строго говоря, в этом случае происходит отсылка не к песням «Старшей Эдды», а к «Видению Гюльви» Снорри Стурлусона). «Корова часто ходила на взморье [где сожгли Торольва, когда он был живым мертвецом], где когда-то был костер, и лизала камни, на которые налетел пе- пел. Не иначе, она возомнила себя второй Аудумлой, которой доверили саму жизнь. Без Аудумлы человечества бы не было. Несть жизни без священной коровы! А кому вообще взбрело на ум, что коровы - священные? Эти инертные, пускающие ветры создания, которые день-деньской жуют жвачку...» [Armann Jakobsson 2011, 48]. Появление Глайсира описано как пародийное повторение истории сотворения мира. Если отвлечься от иронического тона рассказчика, можно интерпретировать этот эпизод так: появление этого чудовища произошло из-за того, что развитие мира пошло неправильно.
Образ Торольва/Глайсира двоится. Эта двойственность подчеркнута также интертекстуальным планом: персонаж изъясняется цитатами из «Эдды» только тогда, когда речь идет о его пребывании в обличье быка. (Когда он рассказывает эпизоды своей биографии, предшествующие смерти и превращению в призрака, отсылки к «Старшей Эдде» отсутствуют). Глайсир вспоминает свои ощущения, когда он впервые начал существование в качестве призрака: «Прошло много времени, прежде чем я очнулся. Забылся, глядя вон в темноту, где был лишь черный провал, похожий на Гиннунгагап. Месть. Арнкель. Месть» [Armann Jakobsson 2011, 149]. Далее Арнкель сравнивается с омелой, которой был убит Бальдр, а сам Торольв/Глайсир уподобляется «старому рослому иггдрасилю» [Armann Jakobsson 2011, 199].
Чаще всего Глайсир вспоминает «Прорицание вёльвы». В самой эд-дической песне не совсем понятно, находится ли вёльва в потустороннем мире или в мире живых; ее пробудил к жизни Один для того, чтоб выслушать ее пророчество. Другими словами, вёльва по своему положению мало чем отличается от выходца с того света Глайсира/Торольва. Этот представитель нечисти ведет свой рассказ о сотворении и гибели мира, -но ему же в книге принадлежат и экскурсы в недавнюю для времени действия романа историю Исландии; при этом характеристика, которую он дает своим землякам, всегда сугубо негативна. «У исландских бондов вечно мудрость Высокого на устах. Но они едва ли задумываются, что она значит» [Armann Jakobsson 2011, 94], - заявляет рассказчик; и действительно, единственный, кто в романе цитирует «Речи Высокого» - это сам Глайсир. Эддический текст в романе принадлежит именно нечеловеческим существам, следовательно, люди не могут как следует понять его - и не воспринимают всерьез. Последнее может оказаться для них гибельно, при том условии, что эддический текст (и эддический миф) в «Глайсире» находится всецело в «ведении» нечисти.
Торольв/Глайсир превращается в существо, которое целиком живет в прошлом - что он хорошо осознает и сам, т.к. говорит: «Призрак навек застрял в повторах» [Armann Jakobsson 2011, 151] - и на интертекстуальном уровне это подчеркнуто тем, что «литературный горизонт» призрака ограничен только очень архаичными текстами.
При этом рассказчик подвергает цитируемые тексты существенному переосмыслению. Часто интерпретация и оценка того, о чем идет речь в 250
цитатах, меняется на противоположную. Невозможность умереть оказывается для него самой нежелательной участью, перспектива Рагнарека -вожделенной: «Гибнут стада. Родня умирает. Смертен ты сам. Но знаю одно я, что вечно бессмертно, умершего слава. Да, слава не умирает - и Скрюченная Нога тоже. Он не умрет» [Armann Jakobsson 2011, 50]. Мировая бездна, бывшая в абсолютном начале мира, становится символом конца: «У него [Тородда], конечно же, нет рабов. В Финнгейрсстадире живут одни свободные люди. Теперь пришел более хороший уклад. Вместе с Белым Христом. Рабов нет. Все рабы исчезли. Ха-ха-ха. Исчезли. Бездна зияла, трава не росла» [Armann Jakobsson 2011, 117]. - Здесь фраза из «Прорицания вёльвы» описывающая ситуацию до сотворения мира, применена к ситуации смены жизненного уклада. (Бездна Гиннунгагап у него - не то, что предшествует творению, а место, куда исчезает старое). В восприятии Глайсира начало и конец мира существуют одновременно. Возможно, они повторяются, но это дурная бесконечность: «Эти повторяемые слова - лишь бледная копия жуткой участи троллей. Неумерший застревает в повторении. Каждый день похож на другие. Это знают те, кто на годы застрял в хлеву. Ожидая дня гнева» [Armann Jakobsson 2011, 151].
Такая смена знаков обусловлена не только и не столько мрачным нравом Глайсира, сколько тем, что для него его собственный образ существования (разумеется, обусловленный заведенным от сотворения мира порядком: злодею всегда суждено превратиться в нечисть) является проклятием. «Я ничего так сильно не жажду, как оставить свой тролльский образ (lata af ollum trollskap). Быть способным умереть, как все. <.. > Привязанный к этой бычьей шкуре вечного осуждения, словно волк, ожидающий Рагна-рёка» [Armann Jakobsson 2011, 51]. Глайсир уподобляется хтоническим чудовищам из «Эдды», и когда он вырывается и начинает бесчинствовать -действительно наступает Рагнарёк - но, в конечном итоге, его личный: он поднимает на рога Тородда, но потом гибнет и сам.
Эддическая образность в речи рассказчика тесно переплетается с индивидуальной метафорикой. Понятие «тролль, призрак» в романе - одновременно и конкретное (сам рассказчик), и аллегорическое: «троллем» называется воспоминание (разумеется, воспоминание о злодеяниях). Ср.: «Сам я презирал своего отца. Но в последнее время он все чаще являлся мне в ночном мраке, а виной этому Арнкель. Мой негодяй сын пробудил к жизни этого тролля из прошлого» [Armann Jakobsson 2011, 133]. Также одновременно конкретным и аллегорическим оказывается образ стойла: он может распространяться на весь социум: «На этом островке было заведено каждому живущему давать прозвище - и чтоб получить его, не надо было даже особо стараться. Здесь всех безжалостно сортировали и расставляли по стойлам. И никто никогда не выбирался из тех рамок, которые были ему отведены» [Armann Jakobsson 2011, 65]. «Выбраться из стойла» - как раз то, что делает Глайсир, однако в его случае это кончается гибелью. Заканчивается роман той же фразой, что и «Прорицание вёльвы» - с поправкой на пол героя: «Nil mun hann sokkvast» [Armann Jakobsson 2011,204]. (Букв.:
X сейчас он потонет/канет. В «Глайсире» эта фраза получает буквальное значение: бык тонет в болоте).
«Космический масштаб» и существование в особом плане бытия (создаваемые не в последнюю очередь эддическим «уровнем» текста) делают для рассказчика возможным богоборчество: «В Финнгейрсстадире Белый Христос владеет каждой душой. <...>. Всем в Исландии владеет Христос - кроме одного стойла в одном хлеву на одном хуторе в одном фьорде в одной из четвертей страны. Этим стойлом владеет Глайсир. Бык, который - не бык, а иррациональное существо, колдовское и тролльское» [Armann Jakobsson 2011, 74]. Примечательно, что кроме скандинавских богов и Христа рассказчик по крайней мере один раз вспоминает о других богах: «Раскаяние, сказал тот человек. [Речь идет о персонаже, предлагавшем Торольву христианское раскаяние как альтернативу мести и способ прекратить страдания]. Всех богов призываю я в свидетели тому, что я раскаиваюсь. Пусть знают об этом Один, Тор, белый Христос, Маумет, Тенгри, Тутанис и Свантевит! А в чем раскаиваюсь? Не знаю. Скорее всего, во всей моей жизни. Вероятно, я только тогда пойму, в чем раскаиваюсь, когда отомщу за Арнкеля и перестану быть выходцем с того света» [Armann Jakobsson 2011, 190]. Эддический текст - не единственный в мире, это просто именно тот текст, в котором «застрял» рассказчик.
Абсолютное большинство отсылок к мифологическим текстам у Глай-сира связано с темами начала и конца мира - причем эти два понятия в его восприятии взаимонакладываются, и одно превращается в другое. Эддический и мифологический интертекст размыкает границы универсума романа - но такое размыкание границ чревато гибелью.
Для неисландских авторов синтез мифа, фольклора и истории при рецепции исландской культуры может быть обычным, в том смысле, что саги, Эдда и фольклор равно являются для них частями привлекательной экзотической древней культуры. Но для исландского автора (тем более, специалиста по древнеисландской литературе) такое сопрягание разных пластов словесности, текстов, сложенных и записанных в разные эпохи, -качественно иное явление: это синтез, сделанный автором, для которого разница между этими текстами очевидна - для читателей, для которых она так же очевидна. Важно, что речь идет о цитировании широко известных и очень узнаваемых источников. Следовательно, читателям романа сразу видно, что разные интертекстуальные связи соответствуют разным уровням бытия.
Важная особенность интертекстуальности «Глайсира» раскрывается при его сопоставлении с другими современными исландскими художественными текстами, использующими древнеисландский материал.
Сам Аурманн Якобссон говорил, что основная художественная задача, которую он поставил для себя в этом романе - исследование природы зла и злодейства [Arni Bergmann 2012, 119]. Для исландского автора обращение к саговому сюжету для раскрытия универсальной проблематики вполне предсказуемо. Многие персонажи и ситуации из «саг об исландцах» в ис- ландской литературе и культуре стали прецедентными [Jon Karl Helgason 1998, 17-75]. (Например, персонаж «Саги о Ньяле» Гуннар из Хлидаренди в литературе и в обыденном сознании - эталон непобедимого героя; его супруга Халльгерд Лангброк осмысляется исключительно как воплощение злокозненности; имя Гранда из Гати, в «Саге о фарерцах» чинившего препятствия Сигмунду Брестисону, крестителю Фарерских островов, вошло в поговорку...). Однако Торольв Скрюченная Нога из «Саги о людях с Песчаного Берега» в число прецедентных персонажей не входит. (Во всяком случае, кроме рассматриваемого здесь романа других художественных текстов, где этот персонаж и сюжет о нем осмыслялись бы именно как прецедентные, обнаружить не удалось). Следовательно, если учитывать авторскую задачу, можно говорить о том, что в «Глайсире» этот персонаж впервые в исландской литературе возводится в ранг прецедентных. Существенную роль в этом возведении играет цитирование Торольвом/Глайси-ром эддических песней: именно оно выделяет его в особый план.
Во многих современных исландских художественных текстах, использующих материал древнеисландской словесности (в основном саги и эдди-ческие песни), так или иначе присутствует осознание того, что эти древние тексты в современной исландской культуре наделены особым статусом: это «великое культурное наследие». Осознание их «статусное™» может быть представлено в тексте имплицитно (особенно хорошо это заметно в таких текстах, где гипертрофированное почитание древней словесности подвергается критике или пародируется). Как показал крупный современный исследователь рецепции древнеисландской литературы Иоун Картль Хельгасон, в строгом смысле, современные авторы чаще всего взаимодействуют не с самими древними текстами, а с их позднейшей рецепцией, созданной писателями и литературоведами первой половины XX в. [Jon Karl Helgason 1998, 218], [Jon Karl Helgason 2001, 10; 34]. В «Глайсире» такая апелляция к позднейшей рецепции и к статусу саг и «Эдды» сведена к минимуму. О сагах (том роде литературы, в «пространстве» которого находится рассказчик), Глайсир замечает: «Исландской зимой ничего не происходит <...>. Все истории этого новехонького островного народа происходят летом. Их уже возникло целое множество. В Исландии невозможно обнажить меч, чтоб потом не забили теленка, чтоб потом за работу не засели писцы, эти тихие объедатели героизма» [Armann Jakobsson 2011, 83]. Скептическое отношение к сагам у него проходит в общем русле негативного отношения ко всему социуму, в котором он существует. Впрочем, эта реплика не обязательно воспринимается как однозначная ирония в адрес записи саг. Т.к. речь в ней идет о телятах, которых забивают, чтобы сделать из их шкур пергамент для записи саг, будучи вложена в уста быка, она неизбежно воспринимается как еще одно его рассуждение о «священных коровах» - к числу которых относится и сам рассказчик. (Для современных исландцев «священной коровой» являются уже сами манускрипты саг [Jon Karl Helgason 1998, 133-155]).
Подобных высказываний об эддических песнях в романе нет. Контек- сты, в которых рассказчик цитирует «Прорицание Вёльвы» и «Речи Высокого», никак не апеллируют к тому, что у этих текстов есть важный статус в национальной культуре. Напротив, в восприятии Глайсира эти тексты вообще внеположны человеческой культуре, а являются «достоянием» призрака.
Вместо взаимодействия с уже сложившейся современной рецепцией конкретных древнеисландских текстов в романе создается новый прецедентный образ за счет необычного применения интертекстуальности.
[Далее в библиографии я придерживаюсь порядка, принятого в зарубежных и отечественных библиографических списках, в которых фигурируют исландские авторы: они вносятся в алфавитный список на те буквы, с которых начинаются их личные имена, т.к. у подавляющего большинства исландцев отсутствуют фамилии, а за именем следует отчество. - О. МД
Список литературы Особенности интертекстуальности в романе Аурманна Якобссона "Глайсир". К вопросу о рецепции древнескандинавской словесности в современной исландской прозе
- Ármann Jakobsson. Glæsir. JPV útgáfa. Reykjavík, 2011.
- Árni Bergmann. Bægifótur bankar á dyr//Tímarit máls og menningar. 2012. Vol. 4. P. 118-123.
- Helga Ferdinandsdóttir. Glæsir, eða maðurinn sem aldrei brosir. 2011. 24. nó-vember. URL: http://bokvit.blogspot.ru/2011/11/glsir-ea-maurinn-sem-aldrei-brosir. html#more (accessed 6.04.2017).
- Íslendingasögur, þriðja bindi. Snæfellingasögur/Guðni Jónsson bjó til prentunar. Akureyri, 1981.
- Jón Karl Helgason. Hetjan og höfundurinn. Brot úr íslenskri menningarsögu. Reykjavík, 1998.
- Jón Karl Helgason. Höfundar Njálu. Þræðir úr vestrænni bókmenntasögu. Heimskringla. Háskólaforlag Máls og menningu. Reykjavík, 2001.