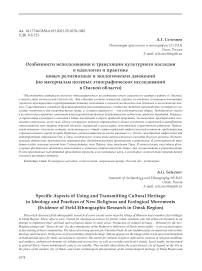Особенности использования и трансляции культурного наследия в идеологии и практике новых религиозных и экологических движений (по материалам полевых этнографических исследований в Омской области)
Автор: Селезнев А.Г.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.
Бесплатный доступ
Обсуждаются материалы полевого этнографического исследования нового сакрального центра в районе д. Окунево, а также ряда экопоселений Омской обл. Эти объекты созданы жителями городов, по идейным основаниям покинувших городское пространство и предпринявших попытку воплотить в сельской местности свои духовные и экологические идеалы. Существенным аспектом функционирования рассматриваемых сообществ является производство культурного наследия: восточного для неоиндуистских групп, и «славяно-арийского» для родноверческих общин. Значительное место в их идеологии и практике занимают идеи возрождения древних дохристианских ведических арийских традиций. В процессе трансляции культурного наследия Сибирь выступает в образе арийской прародины человечества, пространства множества сакральных мест силы. Поиск культурных истоков отражается в облике культовых сооружений и артефактов, стилизованных под старину деталей одежды, украшений и аксессуаров, повседневных и праздничных ритуалах. Привлекают внимание локальные мотивы, включающиеся в общий славяно-арийский мифологический контекст: представления о древнем великом городе Асгарде Ирийском, располагавшемся на месте нынешнего г. Омска, своеобразная мифологическая интерпретация гидронимов Омь и Тара, экзотическое осмысление археологического наследия Омского региона. Неоиндуистская обрядность представлена шиваитскими (бабаджистскими) праздниками и ритуалами. В родноверческой традиции особое значение имеют день Солнцестояния, день Перуна, день рождения Тары. В экопоселениях ежегодные фольклорные фестивали и праздники отмечаются в значимые астрономические даты: дни солнцестояния и равноденствия. В ходе праздничных мероприятий проводятся хороводы и коллективные игры, в некоторых экопоселениях практикуются огненные шествия и ритуалы.
Культурное наследие, экопоселения, сакральный центр, омская обл, родноверие
Короткий адрес: https://sciup.org/145146563
IDR: 145146563 | УДК: 316.723 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1078-1082
Текст научной статьи Особенности использования и трансляции культурного наследия в идеологии и практике новых религиозных и экологических движений (по материалам полевых этнографических исследований в Омской области)
Настоящая работа продолжает серию публикаций, основанных на материалах полевого этнографического изучения нового сакрального центра в районе д. Окунево, а также нескольких экопоселений Омской обл. Объединяет эти объекты то, что они созданы жителями городов, по идейным мотивам покинувших городское пространство и предпринявших попытку воплотить в сельской местности свой духовный и экологический идеал. Данные феномены явились отражением духовных поисков в ситуации глубокого мировоззренческого кризиса постсоветской эпохи.
Важнейшей характеристикой и одновременно критерием классификации рассматриваемых социокультурных комплексов является идеология, лежащая в основе их жизнедеятельности. Чаще всего она выступает в форме тех или иных новых религиозных движений (далее – НРД). В этом смысле данные объекты отличаются от обычных рекреационных практик (second home tourism, life style migration и т.п.), ставших предметом широкого обсуждения в социологической литературе [Cretton, 2018; Hall, 2014]. Обычно смена образа жизни происходит в несколько этапов. Сначала наступает глубокое внутреннее духовное преображение, катарсис, чаще всего как следствие драматических жизненных обстоятельств. После этого неофит вступает или сближается с каким-то новым религиозным движением, а уже затем перебирается (зачастую, постепенно) в экопоселение или сакральный центр.
В сакральном центре в Окуневе и экопоселениях Омской обл. получили распространение две группы НРД. Первая представлена неоиндуистскими движениями, вторая – родноверческими общинами, идеология которых базируется на идеях возвращения к истокам, родовым корням, родной природе, изобретаемой «древнеславянской» религии и экологической этике. В составе неоиндуистских течений, значительным влиянием обладают группы бабаджистов-шиваитов, основавших сакральный центр в Окуневе, и последователи НРД общества сознания Кришны, община которых также существует в данном сакральном центре. Кроме того, кришнаиты основали экопоселение Северная столица рядом с с. Сосновка Азовского Немецкого р-на, а также экоферму «Планета коров».
Сторонники славянских традиций представлены следующими группами. 1. Общины ведических православных, ведорусов составляют влиятельную и многочисленную группу Окунева, во многом определяющую его облик и распространенные здесь практики. На схожих идеях возврата к природе и родовым корням строятся экопоселения на урочище Юрт-Бергамак Муромцевского р-на и Азъ Градъ Омского р-на. 2.
Последователи НРД «Звенящие кедры России», или «Анастасия», образовали в Омской обл. ряд поселений родовых поместий: Колобово (Малинкино) Муромцев-ского р-на, Имбирень (Черноозерье) Саргатского р-на, Обережное (Березовка) Горьковского р-на. 3. Экологическая община сторонников НРД «Древнерусская Церковь православных староверов-инглингов» функционирует в д. Тимшиняково Тарского р-на Омской обл. Кроме того, члены этого НРД регулярно устраивают в Окуневе яркие массовые ритуалы. Возникшее в Омском регионе родноверческое движение инглии-стической церкви, возглавляемое Александром Хине-вичем, получило широкое распространение в России и за рубежом и отличается известным радикализмом. Его идейные основания и деятельность нашли отражение в отечественной и зарубежной научной литературе. Показателен, напр., тот факт, что в англоязычной научной литературе для краткого обозначения его длинного названия применяется устойчивая аббревиатура: the Ancient Russian Ingliist Church of Orthodox Old Believers-Ingliists = ARICOOBI [Aitamurto, 2016, p. 50– 52; Golovneva, 2018, p. 340–343; Laruelle, 2012, p. 297].
Значительное место в идеологии и практике рассматриваемых социокультурных сообществ занимают представления о наследии предков, возрождении древних дохристианских ведических арийских традиций. Источником вдохновения для членов ряда общин выступают сакрализованные тексты. Последователи НРД «Звенящие кедры России» организуют свою жизнь по заветам живущей в сибирской тайге женщины Анастасии (отсюда их наименование – анастасиане , анастасиевцы , анастасийцы ) – героине, написанных в жанре фэнтези, книг писателя Владимира Мегре. Для адептов инглиизма священными книгами являются Славяно-арийские веды, на основе которых выстраиваются образы культурного наследия. Обращение к индуистским традициям обуславливается мифологизированными представлениями об арийской природе древнеславянской культуры.
Особую роль в процессах трансляции культурного наследия играет комплекс устойчивых нарративов о Сибири как арийской прародине человечества, высшем духовном центре, земле обетованной, слабо затронутой процессами модернизации и глобализации. Сибирь выступает в общественном сознании пространством множества сакральных мест силы, территорией формирования особой «урало-сибирской» цивилизации. Отдельные регионы, напр., Алтай или Западная Сибирь с центром в Окуневе, в определенных социальных сообществах устойчиво ассоциируются со спасительным ковчегом, которого минует конец света и с которого нач- нется духовное возрождение всего человечества [Головнева, 2018, с. 249–250; Любимова, 2017, с. 63–68]. Создаваемый в сакральных центрах и экопоселениях жизненный уклад рассматривается их обитателями как прообраз будущего процветания России.
Привлекают внимание локальные мотивы, включающиеся в общий славяно-арийский мифологический контекст. Прежде всего они касаются местного археологического наследия. Его причудливое осмысление характерно для последователей учения Бабаджи. «Археологический» фактор стал важнейшей мотивацией для основания сакрального центра именно в Окуневе. Мифологические построения идеологов ведического православия, представления об арийских предках, «саргатском царстве», Тартарии также базируются на экзотических интерпретациях местного археологического наследия. Это нашло отражение, в частности, в планиграфии окуневского комплекса.
Ядром его сакрального пространства является Татарский увал – высокий мыс на террасе р. Тары в полутора километрах к северо-западу от деревни. Сейчас это место называется Омкар и осмысляется как пуп Земли, энергетический центр. Здесь на возвышенном живописном месте размещается целый комплекс сакральных артефактов разных традиционных религий и НРД: православная часовня Михаила Архангела, православный крест, славянский знак коловорота, индуистский жертвенник «дхуни». Окрестные деревья украшены ленточками. На этом месте проводятся индуистские праздники и фестивали инглиистов. Вероятно, определенную роль в сакрализации данной локации сыграло то обстоятельство, что здесь находится ряд археологических памятников от эпохи неолита до позднего Средневековья, и на протяжении тысяч лет формировался разновременный некрополь.
Важной частью хронотопа сакрального пространства Омского региона являются представления о древнем великом городе Асгарде Ирийском, располагавшемся на месте нынешнего г. Омска. Данный миф изложен в «Славяно-арийских ведах» – главной священной книге ингли-истического движения. Название происходит от имени р. Иртыш – Ирий. Мифологический сюжет о древнем городе широко популяризируется в прессе и Интернете. Как всякий миф эпохи постмодерна, сказание об Асгарде подкрепляется квазинаучной «аргументацией». Последняя включает в себя «лингвистические» доводы о совпадении названий р. Омь и г. Омска с первозвуком Вселенной «Ом» в индуистской мифологии; а также названия р. Тары с именем богини Тары в некоторых индуистских конфессиях и в буддизме.
Асгард Ирийский мыслился как город Богов и всех родов Белой Расы. В центре города находился величественный храм Великое Капище Инглии, выстроенный из Урал-камня. Имелись лабиринты и подземные проходы под Ирием и Омью. Интересно наблюдать как современные реалии вплетаются в мифологическую конструкцию. Так отсутствие в Омске метро, являющееся одной из застарелых проблем развития транспортной инфраструктуры города, в эзотерической среде объясняется наличием подземных сооружений древнего храма, якобы, мешающих строительству.
Представления о культурном наследии воплощены в облике культовых сооружений и артефактов, стилизованных под старину деталей одежды, украшений и аксессуаров, повседневных и праздничных ритуалах. Важнейшее культовое сооружение бабаджистов в Окуневе – храм «ашрам». Информанты особо подчеркивают сакральный статус некоторых артефактов, расположенных во дворе ашрама и в самом храме. Это пористые камни, которыми обложены дорожки во дворе, облицована площадка вокруг дхуни, а один из них даже находится непосредственно внутри храмового помещения. По преданию, когда основательница ашрама Расма Розитис ехала из соседнего села Бергамак, она увидела, что камни выходят прямо из-под земли. Существуют легенды, что камни перешли из другого мира.
Особой святостью обладает так называемый столб Шивы. Столб установили сначала на Омкаре, но его вырывали, ломали, уносили и прятали и тогда его перенесли внутрь Ашрама. У подножия столба установлена индуистская скульптура, привезенная из Индии. Кроме того, в разных местах развешаны колокольчики, издающие мелодичное звучание. В храмовом помещении вдоль длинной стены установлен алтарь с портретным изображением Бабаджи, скульптурами божеств индуистского пантеона « мурси »: Шивы и его божественной жены, Ганеши и др. Интересно, что наряду с индуистскими изображениями на алтаре присутствуют изображения Христа и каллиграфически исполненные суры Корана.
Ежедневная жизнь общины бабаджистов происходит строго по расписанию, включающему совместные трапезы и общение на тему служения Богу; карма-йо-гу, т.е. ежедневную по несколько часов физическую работу по Ашраму; и обрядовые молитвы-песнопения «аарти». Последние происходят в храмовой части дважды в день каждый раз по 1,5–2 часа. Обряд представляет собой совместное воспевание индуистских мантр. Песнопения – бхаджаны и киртаны – происходят очень эмоционально, по нарастающей от спокойного до очень ритмического темпа. Они сопровождаются громкими ритмическими ударами барабанов с нарастающим темпом, а также звуками колокольчиков (таракалы) и переносной клавишной гармонии. Наиболее повторяемой фразой является «Ом Намах Шивайя». Зачастую участники впадают в глубокое экстатическое состояние. Каждый входящий в храмовое помещение падает ниц перед изображением Бабаджи, такой же поклон совершают, удаляясь из помещения. Интересно, что у участников имеются книжечки с текстами мантр, написанных кириллическими буквами. Во дворе Ашрама установлен жертвенник дхуни, где по особым дням совершается малая огненная церемония – хаван. Суть церемонии – соединение мужского и женского начала, олицетворенных в женском символе йони и мужском - шива-лингам.
Окуневская обитель кришнаитов располагается позади ашрама и включает в себя летний шатер, небольшую конусообразную постройку для обрядовых действий, хозяйственные сооружения, огород. Ежедневная жизнь общины также упорядочена и включает в себя медитации, совместные трапезы и обсуждения теологических вопросов, хатха и карма йогу, вечерние песнопения. Фактически здесь на разный мотив и под музыкальные инструменты повторяется знаменитая мантра «Харе Кришна». Члены общины одеты в белые и желтые одеяния-покрывала. На ладонь одной руки одеты специальные мешочки, внутри которых люди пальцами перебирают четки, повторяя про себя или вслух мантру. Мантра произносится очень быстро, иногда стремительной скороговоркой. Кришнаиты особое внимание уделяют практикам йоги, которые проводятся ежедневно. Интересно, что эти практики осуществляются на берегу Тары, при этом местная природа становится как бы частью ритуала, включающего в себя омовения в реке. Информанты отмечали, что воды Тары способствую активному очищения организма.
Индуистские праздники отмечаются по лунному календарю. Шиваитский праздник Наваратри, на котором участникам экспедиции удалось присутствовать, продолжается 9 дней. Церемония собирает большое число людей, по нашим оценкам присутствовало свыше 170 человек. Торжество насыщено обрядовыми действиями. Начинается все с красочного шествия от ашрама к Омкару (Татарскому Увалу). Участники движутся колонной с портретом Бабаджи и хоругвями, распевая и выкрикивая мантры. По прибытии на Омкар в дхуни уже пылает огонь. Берет начало большая огненная церемония – ягья. В специальном выступе на краю дхуни, выполненном в женской символике - йони вставлен мужской символ - Шива-лингам. Люди размещаются вокруг дхуни и начинают повторять ритуальные тексты, сопровождаемые общими возгласами «Джей» и бросанием в огонь зерен. Затем начинается обряд прохождения участников перед изображением Бабаджи и очищения огнем из священных чаш. Далее под ритмичный бой барабанов, звуки раковин и колокольчиков происходят песнопения, все действия носят экстатический характер. Многие танцуют, совершая плавные круговые и поступательные движения. Если учесть, что все это происходит на фоне православной часовни и славянского коловорота, все участники одеты в экзотические индийские одеяния, действо перемежается выступлениями кришнаитов и представителей экстремального неформального движения файеров, то все это предоставляет собой чрезвычайно впечатляющее зрелище. Завершается день совместной трапезой бандара, в которой всем присутствующим, преподносят угощения: имбирный сок, салат из свежих овощей, фасолевую по- хлебку и кашу. Вечером того же дня уже в деревне бабаджисты совершают длинную аарти, а кришнаиты устраивают совместную трапезу просад и песнопения.
Приверженцы славянских традиций также проводят свои праздники. О размахе этих торжеств свидетельствует хотя бы тот факт, что на фестивале «Солнцестояния» в Окуневе одновременно могли присутствовать ок. 7 тыс. человек, т.е. численность населения деревни увеличивалась в 10 раз!
Нам удалось присутствовать на периодически приводящемся в Окуневе празднике Перуна. Действие начиналось на Яру, на высоком берегу реки Тары с наступлением сумерек. Женщины и мужчины (многие из которых одеты в одежды, отражающие представления о славянской языческой культуре – белые просторные женские и мужские рубахи, широкие штаны у мужчин, аксессуары представлены налобными лентами, нагрудными украшениями со свастико-«коловоротной» символикой, браслетами из бисера и т.п.) выстраиваются в ряд, друг напротив друга, образуя «ручеек». «Ручеек», сопровождаемый музыкой и пением, спускается вниз, в пойму реки, на поляну, где установлено устройство для добывания огня трением. Все собравшиеся (ок. 500 человек) встают в несколько кругов. Под звуки барабанов и пение мужчины начинают добывать огонь при помощи трения. От добытого огня поджигают факелы и двигаются в хороводе по направлению к месту, где заранее сооружен ритуальный костер. После произнесения здравиц языческим славянским богам начинается движение хороводов: «женский» идет по часовой стрелке, а «мужской» в обратную сторону. Затем вновь происходит восхваление богов, людям раздается крупа, которая приносится в жертву огню, олицетворяющему Перуна. Далее организаторы праздника угощают всех присутствующих хлебом и квасом. Закончив религиозные ритуалы, начинается время развлечений. Люди прыгают через костер, ходят по углям, совершают омовение в Таре.
Ежегодно в Окунево на Омкаре устраивается празднование дня рождения Тары. Праздник проводится в начале августа, продолжается 3 дня. Организаторами являются последователи НРД церкви Православных Староверов Инглингов под руководством Александра Хиневича (Патера Дия). Нам удалось присутствовать и принять участие в празднике. Церемония проводилась на поляне недалеко от Пупа земли (Татарского Увала). Участники празднества – около ста человек, мужчины, женщины, дети, некоторые одеты в праздничную «славянскую» одежду – образуют круг, в руках держат листья папоротника, веточки деревьев. Внутри круга выложено кострище в форме свастики. После речи Александра Хиневича во славу богини Тары, несколько мужчин подожгли костер, и участники церемонии стали бросать в огонь приношения в виде веточек, блинов, крупы. Потом по кругу была пущена братина для совместного испития ритуального кваса. После того, как костер прогорел, желающие собирали пепел, что- бы увезти его домой. Этот пепел считается священным, помогает избавиться от недугов и злых сил.
После церемонии несколько участников проследовали непосредственно на Пуп земли и там организовали обряд изгнания темных сил. Для этого желающие были приглашены в круг, двое ведущих (мужчина и женщина) руководили процессом, стали произносить восхваления древним славянским богам, просьбы избавить присутствующих от всех проблем и недугов. В произносимом тексте также упоминались исторические личности и мифологические образы, как бы участвующие в мистическом ритуале: Платон, Афиней, Атлантида, Лемурия, Месопотамия, Египет, Луксор, Византия, богиня-кошка Бастет, пифагорейская школа, Радегаст, Перун-владыка, бог Род-прародитель, богородица-матушка-Лада, Мара-владычица смерти и пр. Участники ритуала должны были стоять без обуви и с закрытыми глазами. Периодически двое ведущих переговаривались между собой на непонятном (по их словам, древнеславянском) языке, описывали, как они ощущают энергию, помощь богов и т.д. С одной из участниц произошел эмоциональный всплеск, выразившийся в рыданиях, что трактовалось как процесс исцеления. Весь ритуал продолжался около часа, параллельно с проходившим здесь же праздником бабаджистов – наваратри.
В Азъ Граде праздники приурочены к календарным датам – дням солнцестояния и равноденствия (Масленица, Осенины, Купала, Новолетие). Важным моментом праздников в Азъ-Граде являются эффектные огненные церемонии. Ритуал начинался с возжигания факелов в специальном сооружении, именующемся Храмом огня. Огонь в храме горел на по стаменте. Факельное шествие, включало в себя ритуал Огненного моста – прохода под склоненными горящими факелами. Завершалось действо большим костром на площади для гуляний и прыжками через стелющееся низко над землей пламя.
Представления о культурном наследии, получившие распространение в идеологии и практике рассматриваемых движений, носят зачастую инвенциональный и мифологизированный характер. При этом, на основе этих идей целенаправленно выстраивается особая модель жизнедеятельности, базирующуюся на принципах эко-логизма, антиконсьюмеризма, обращения к своим корням или духовному опыту других культур. Участники этих движений формируют новый канон культуры и экологической этики, рассматривают создаваемые ими жизненные стандарты в качестве прообраза будущего инновационного, антикризисного развития России.
Исследование проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0002 «Население Сибири и Северного Казахстана: социокультурные процессы итрансляция культурного наследия».
Список литературы Особенности использования и трансляции культурного наследия в идеологии и практике новых религиозных и экологических движений (по материалам полевых этнографических исследований в Омской области)
- Головнева Е.В. Конструирование региональной идентичности в современной культуре (на материале Сибирского региона): дисс.. докт. филос. наук. - Екатеринбург, 2018. - 339 с. EDN: YRUWDZ
- Любимова Г.В. Новые религиозные движения и культы Сибири (конец XX - начало XXI вв.) // Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. - Т. 3. - С. 61-76.
- Aitamurto Kaarina. Paganism, traditionalism, nationalism: narratives of Russian Rodnoverie. - N.Y.; L.: Routledge, 2016. - 222 p.
- Cretton Viviane. In search of a better world in the Swiss Alps. Lifestyle migration, quality of life, gentrification // Utopia and Neoliberalism: Ethnographies of Rural Spaces. - Berlin: Lit-Verlag, 2018. - P. 105-125.
- Golovneva E. Saving the Native Faith: Religious Nationalism in Slavic Neo-paganism (Ancient Russian Yngling Church of Orthodox Old Believers-Ynglings and Svarozhichi) // KnE Social Sciences. - 2018. - № 3 (7). - P. 337-347.
- Hall Colin M. Second Home Tourism: An International Review // Tourism Review International. - 2014. -Vol. 18. - N 3. - P. 115-135.
- Laruelle Marlene. The Rodnoverie Movement: The Search for Pre-Christian Ancestry and the Occult // Menzel B., Hagemeister M., Rosenthal B.G. (eds.) The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions. - Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012. - P. 293-310.