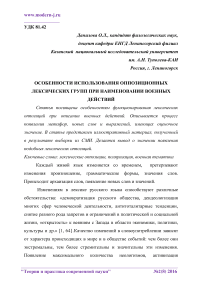Особенности использования оппозиционных лексических групп при наименовании военных действий
Автор: Данилова О.Л.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 2 (8), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена особенностям функционирования лексических оппозиций при описании военных действий. Описывается процесс появления метафор, новых слов и выражений, имеющих оценочное значение. В статье представлен иллюстративный материал, полученный в результате выборки из СМИ. Делается вывод о значении появления подобных лексических оппозиций.
Лексические оппозиции, поляризация, военная тематика
Короткий адрес: https://sciup.org/140268109
IDR: 140268109
Текст научной статьи Особенности использования оппозиционных лексических групп при наименовании военных действий
Каждый живой язык изменяется со временем, претерпевают изменения произношение, грамматические формы, значения слов. Происходит архаизация слов, появление новых слов и значений.
Изменениям в лексике русского языка способствуют различные обстоятельства: «демократизация русского общества, деидеологизация многих сфер человеческой деятельности, антитоталитарные тенденции, снятие разного рода запретов и ограничений в политической и социальной жизни, «открытость» к веяниям с Запада в области экономики, политики, культуры и др.» [1, 64]. Качество изменений в словоупотреблении зависят от характера происходящих в мире и в обществе событий: чем более они экстремальны, тем более стремительны и значительны эти изменения. Появление максимального количества неологизмов, активизация специфических тематических групп, употребление эмоциональнооценочной лексики характерны для времен войн, революций, политических переворотов. Кроме того, язык войны – «способ манипуляции общественным сознанием лингвистическими средствами, при котором применяются камуфлирующие реальные события термины (эвфемизмы) или выражения, наоборот, придающие негативные значения изначально нейтральным понятиям (дисфемизмы)» [2].
Самый трагический, неоднозначно воспринимаемый факт современной общественно-политической жизни России – события на Украине. Противоречия в их восприятии отражаются в особенностях наименований, специфике использования лексических средств.
Политический кризис на Украине – самое нейтральное название происходящего. В зависимости от оценки этих событий и политической позиции говорящего используются следующие названия: война, военные действия, полномасштабные военные действия, противостояние на Востоке, военный конфликт на Востоке, гражданская война на Украине, вооруженный конфликт.
В связи с происходящими событиями актуализируется лексика военной тематики, это слова, называющие различные виды боевой техники: зенитный ракетный комплекс "Бук", реактивная система залпового огня "Град", БТР (Бронетранспортер), БМП (Боевая машина пехоты), ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), РПГ (ручной противотанковый гранатомет), бомба, мина, снаряды, ракеты и т.д. Описывая военные действия, в средствах массовой информации используются следующие наименования: бой, обстрел, взрыв, ударная волна, пленные, погибшие. Эти лексико-тематические группы составляют семантическое ядро лексемы «война» (не «конфликт» или «кризис»).
Для дополнительной характеристики происходящего широко используются метафоры, среди которых встречаются общеупотребительные – игра без правил, территория детства, спекулятивные пузыри, точка равновесия и т.д. Наблюдается активизация образования новых метафор, это объясняется тем, что «метафорические приращения зачастую способны актуализировать разные аспекты ситуации речи, расширяя семантический потенциал данного семантического класса» [3, 141]. Например, гуманитарный коридор, бесполетная зона, гуманитарная катастрофа, территория ненависти, отпустить рубль в свободное плавание, спекулятивные пузыри, экономическая пропасть, огневой мешок и т.д.). Часть из вновь образованных метафор характеризуют изменения в экономике России и мировом экономическом процессе: курсовая лихорадка, отпустить рубль в свободное плавание, спекулятивные пузыри, курс «шандарахнет», спекулятивная атака на рубль, слабеющий рубль, новый механизм курсовой политики, внеплановая интервенция. Данные метафоры нивелируют сложность экстралингвистической реальность, представляя собой совокупный образный эвфемизм понятию «экономический кризис».
Отдельная тенденция в этом процессе – образование новых слов (или новых значений), часто негативно маркированных, отражающих восприятие идеологических оппозиций: колорады (пророссийски настроенные люди, носящие георгиевские ленты), укроп (гражданин Украины), свидомит (украинские националисты, активных сторонники майдана), ополченец (военный, не состоявшый на военной службе), резервист (военнослужащий, состоящий в запасе), ватник (русский патриот), хунта (военная реакционная террористическая группировка, захватившая власть и установившая террористическую диктатуру), майдан (оружие для свержения действующей политической власти), бандеровцы (вооружённое крыло Организации украинских националистов), правосеки (член или сторонник политической и военной организации «Правый сектор»).И это явление характеризует процесс интерференции противопоставленного в лексике, когда идеологическое противостояние приводит к поляризации слов (и понятий). Данный процесс возникает в языке в моменты самых жестких политических конфликтов (во временя холодной войны в русском языке, по сути, существовало 2 лексических системы для обозначения положительного, желательного – вСоветском Союзе, и чуждого, неприемлемого, враждебного – в капиталистических странах). Подобная, хотя и менее масштабная поляризация для обозначения «у нас» и «у них», существует и в настоящее время.
В таблице 1 представлены некоторые обозначения, иллюстрирующие данный процесс.
Таблица1. Примеры лексических оппозиций
|
Луганская, Донецкая области |
|
|
Сторонники федерализации, Новороссия, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, они же — конфедеративный Союз Народных Республик |
Террористические организации, «так называемые» республики, самопровозглашенные республики |
|
Военные действия |
|
|
Карательная операция Киева против собственных граждан |
Антитеррористическая операция в отношении лиц, захвативших административные здания в Луганской, Донецкой и Харьковской областях |
|
Воюющие стороны (друг друга) |
|
|
Пророссийские сепаратисты, террористы, боевики, наемники, мородеры, ватники, колорады с аквафрешами, даунбасы |
Укропы, майдауны, бандерлоги, бандеровцы, укры, хунта, фашисты, нацисты, бандерофашисты, оккупанты, нацгады, каратели |
Эти примеры, конечно, не исчерпывают процесс целиком, но весьма наглядно демонстрируют непримиримость сторон. Словообразовательные игры ориентированы на то, чтобы создать пренебрежительный образ противника. С помощью слов создаётся образ врага из народной общности, которая совсем недавно воспринималась как близкая. Когда противник демонизируется, называется уничижительными именами и встраивается в систему страшных, пугающих, грозных, трагических координат, то это эффективно работает. Причем, создание неологизмов, формирование оппозиций может идти двумя способами: как стихийное «народное словообразование», когда меткое слово распространяется, как вирус, и как целенаправленный «вброс» подобных лексических единиц в средства массовой информации со стороны политиков, аналитиков, общественных деятелей.Второй вариант в силу своей жестокой осмысленности является действенным средством в ментальной информационной войне, которая «осуществляется как на уровне автоматизированных компьютерноинформационных систем, так и на человеческом уровне». Благодаря всеобщей доступности информационно-коммуникационных технологий эта война стала глобальной.
Список литературы Особенности использования оппозиционных лексических групп при наименовании военных действий
- Крысин Л.П. О некоторых изменениях в русском языке конца XX века // Исследования по славянским языкам. № 5. Сеул, 2000. С. 63-91.
- Война и мир в терминах и определениях: военно-политический словарь под ред. Д. Рогозина. Режим доступа: http://voina-i-mir.ru/article/107
- Кириллова Н.О. Метафорические номинации в семантическом поле глаголов речи // Вестник Самарского государственного университета. 2006. №10-2 (50). С.140-147.