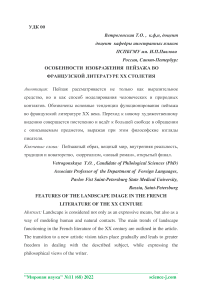Особенности изображения пейзажа во французской литературе ХХ столетия
Автор: Ветрогонская Т.О.
Журнал: Мировая наука @science-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 11 (68), 2022 года.
Бесплатный доступ
Пейзаж рассматривается не только как выразительное средство, но и как способ моделирования человеческих и природных контактов. Обозначены основные тенденции функционирования пейзажа во французской литературе ХX века. Переход к новому художественному видению совершается постепенно и ведёт к большей свободе в обращении с описываемым предметом, выражая при этом философские взгляды писателя.
Пейзажный образ, вещный мир, внутренняя реальность, традиция и новаторство, сюрреализм, "новый роман", открытый финал
Короткий адрес: https://sciup.org/140296760
IDR: 140296760 | УДК: 00
Текст научной статьи Особенности изображения пейзажа во французской литературе ХХ столетия
Усложнённость закономерно присуща выразительным средствам, с помощью которых воспроизводятся картины природы и вещного мира в произведениях французских писателей XX века.
Пейзажный образ приводит в нерасторжимое единство видимую и невидимую природу, внешнее присутствие и метафизический смысл. Это важнейший элемент духовного строя книги, синтез внеположного и сокровенного, заставляющий ощутить некую высшую реальность, который в подлинно талантливых произведениях осуществляет прорыв к ней. Пейзаж - источник, обладающий необычайной смысловой ёмкостью и, как следствие, повышенной многофункциональностью.
В предшествующее войне десятилетие роман предстаёт в сотне различных обличий, скроенных из многообразия взглядов на окружающий людей децентрированный мир. Человека непрерывно сбивается с толку сама среда; повседневный опыт улавливает лишь обманчивую видимость вещей. Образы их сознательно отвлечены.
Кажется, что иллюзия объективной действительности доведена художественной прозой не только до отчётливой осязаемости, но и до предельных помех в восприятии, до стереотипной исчерпанности.
Прустовское настоящее пребывает в измерении мало доступном для обладания. Среда обитания его персонажей - столь непохожая на равновесную среду Бальзака и Тэна - утратила свою стабильность и находится в постоянном развитии. Для Пруста пейзаж - не создание или воспроизведение гармонических форм, а ключ к расшифровке внутренней реальности, и в этом смысле важнейшее художественное образование.
Опрокинув привычные структуры, Пруст органично вписывается в одну большую линию искусства XIX-начала XX веков, не прекращает поиск некогда обретённого и утраченного идеала красоты и свойственной этому поиску конфликтности взаимоотношений внутреннего и внешнего миров. Писателю удаётся счастливо сочетать традицию и новаторство; сфера невыразимого существует в его романах объективно.
Вскоре будут окончательно подорваны основы старой изобразительности, и вынашиваемый инициаторами сюреалистического движения идеал не станет довольствоваться зримой реальностью. Сюрреалисты остались сами и оставили нас один на один с бесчисленными кодами, текстами, допускающим множество интерпретаций, подтверждая ницшеанское: сущность вещей есть только мнение о ней. Пейзаж подпитывается за счёт умопредставимого, воображаемого. Автор должен обладать изрядным чутьем, чтобы в процессе «дереализации» нащупать и выстроить такую структуру или хотя бы одну её прочную грань, которая удержала бы, не дала развалиться предельно обобщенной и неустойчивой архитектонике.
Свой собственный стиль и художественный метод, свои приемы создания пейзажа выработал, преодолевая сюрреалистическую технику выражения бессознательного, яркий писатель и оригинальный эссеист Жюльен Грак.
С писателем произошло то же, что с искусством XX века в целом: оно давно изжило и переросло тесные теоретические рамки, но некоторые приемы сюрреализма прочно вошли в его контекст. Сюжеты современности Грак переводит на особый художественный язык, который ближе всего примыкает к романтической поэтике.
При всей таинственности, субъективно-лирической окрашенности импровизированный мир Жюльена Грака обладает отличительной чертой -реалистической выразительностью деталей. Поэтому педантично выписанные подробности картин природы, пейзажный образ в целом неоднозначны, - это и внимательное воссоздание видимого и узоры фантазии. При такой «режиссуре» сегодняшняя наша жизнь оказывается как бы непознанной до конца в ее внутренних связях и законах. Многообразие живописных, вполне реальных деталей - всего лишь декоративная рамка этой непознанности, а метафорические параллели, аллегории и символы, вызывая в памяти читателя некоторые представления, нередко углубляют недосказанность, будто рассчитывают на импровизационную лёгкость интуитивного восприятия.
Писатель, тем не менее не приемлет «чистого» формотворчества, преувеличенной, эпатирующей алогичности ассоциаций, тех крайностей, которые присущи сюрреалистическому искусству. Пейзажный образ у Грака - не просто поэтическое видение мира, не только воплощение сиюминутных состояний души, но её диалектика и выражение философских взглядов на мир.
В отличие от Грака экзистенциалисты не ищут правду в сфере «сверхреального». Дух противоречия становится во главу угла в отношениях между человеком и Богом, между человеком и человеком, между человеком и миром.
Такое парадоксальное сознание находится в состоянии постоянной драмы, такое совершенно особенное мироощущение своими колебательными движениями от «да» к «нет», от изнанки к лицевой стороне, от бытия к «ничто» вызывает головокружение у читателя. Духовный разлад с миром, неприкаянность, приступы тошноты являются реакцией на активно отчуждаемое окружение. Природа давно уже не тихое прибежище, и пейзаж поэтому несет бремя трагических коллизий духовного бытия общества.
По Сартру, например, не только город, но и «бездушное», естественно-природное окружение лишены соразмерности с человеком, рождая ощущение бессилия, указывая на неумение самостоятельно выбраться из лабиринтов абсурда. Неудивительно поэтому, что его персонаж существует как бы отдельно от плоскости пейзажа. Безжалостная
Вселенная, вызывая растерянность и страх, подчеркивает его ничтожность, лишая жизнь всякого смысла, а нравственность - основ.
При всей их непохожести, новороманисты связаны между собой не столько близостью затрагиваемых ими тем, сколько неумением собрать воедино обрывки тех безудержно дробящихся представлений, которые практически не укладываются, в стройное сюжетное русло и заменяются разрозненными сведениями в разорванной цепочке событий, условно сдержанным описанием природы, ограничивающимся лишь отдельными пейзажными фрагментами.
Так же, как Роб-Грийе, Бютор терпеливо фиксирует присутствие вещей, детализирует их и добивается эффекта расчлененности мира, даёт весьма схематичные, однако несравнимо более развернутые картины природы и при этом непременно возвращается к человеку, его разуму и чувствам, которые придают смысл краскам, звукам, а также сквозным в творчестве Бютора образам-символам воды, огня, леса, тьмы и света. Всё, на чем останавливается взгляд героя романа «Изменение», буквально каждая мелочь провоцирует появление ассоциативных образов. Субъективные ощущения сливаются с объективным описанием и не совпадают с ним. Весь трагизм ситуации заключается в том, что одному и тому же предмету, явлению можно присвоить массу значений, но так и не достичь целостности восприятия мира.
Сила пейзажного образа больше не в создании абсолютного эквивалента реальности и не в идеализации природы - теперь это в принципе невозможно, - а в умении передать реальную иллюзорную его глубину.
В условном мире антиромана, в его причудливом образном строе, рожденном экспериментаторским порывом, обнаруживаются кусочки реальности. Они-то и служат столь необходимой читателю путеводной нитью, приводящей, однако, к мысли о том, что наши ощущения бессильны проникнуть в законы объективной, вне нас существующей жизни.
Внешний мир воспринимается человеческим глазом и воспроизводится как нечто нереальное, глубину которого невозможно постичь, состояния которого несопоставимы с внутренними переживаниями. Так, глубочайшее недоверие к реальности побуждает Роб-Грийе, сообщив ей вымышленные формы, остановиться на уровне вещных, бесстрастно-фотографических описаний. Взамен естественному окружению появляется плоский отпечаток пространственной среды. Отказав существованию конечных истин о мире и людях, писатель «копирует» непроницаемость вещей и человеческих отношений. За трафаретными декорациями, безразличными к человеку плоскостями притаилась тонкая насмешка, которая, обнаружив себя, приводит в движение и заставляет взаимодействовать опорные элементы художественного произведения.
В целом же, подобный пейзаж - убедительнейшее свидетельство неблагополучия в мире. Как бы то ни было, «теоретическое искусство» Роб-Грийе нельзя рассматривать в качестве конечного результата того обновления, на которое рассчитывал писатель.
Границы понятия «пейзаж» сегодня размыты. А мир по-прежнему испытывает острое желание примирения и самоосознания... в нём по-прежнему царит атмосфера ожидания с его открытостью финалов.
Каждый из упомянутых нами писателей развивает свою концепцию, но большинство проблем - философских по своей новизне и тотальности -принадлежат стремлению преодолеть вещность духом, чтобы полнее реализовать свои возможности.
Список литературы Особенности изображения пейзажа во французской литературе ХХ столетия
- Robbe-Grillet A. Pour un nouveau roman. Paris: Ed. de Minuit, 1963.
- Gracq J. Préférences. Paris: Corti, 1961.
- Sartre J.-P. L'être et le néant: Paris: Gallimard, 1943.
- Butor M. Le génie du lieu. Paris: Grasset, 1958.
- Bernal O. Alain Robbe-Grillet: le roman de l'absence. Paris: Gallimard, 1964.