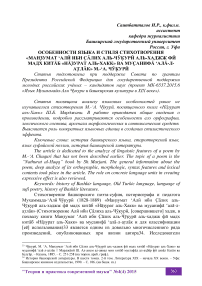Особенности языка и стиля стихотворения "Манзумат ‘ал ибн салих аль-чкур аль-xаджж ф мадх китаб "Назурат аль-хакк" Ва мусанифа ‘ала-л-атлак" М.-‘А. Чкур
Автор: Саитбатталов И.Р.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 5 (5), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья подготовлена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных - кандидатов наук (проект МК-6537.2015.6 «Язык Мухаммада-Али Чукури и башкирская культура в XIX веке»). Статья посвящена анализу языковых особенностей ранее не изучавшегося стихотворения М.-ʻА. Чӯк̣урӣ, посвященного книге «На̄з̣урат аль-Хакк» Ш.Б. Марджани. В работе приводятся общие сведения о произведении, подробно рассматриваются особенности его орфографии, лексического состава, арсенала морфологических и синтаксических средств. Выясняется роль конкретных языковых единиц в создании стилистического эффекта.
История башкирского языка, старотюркский язык, язык суфийской поэзии, история башкирской литературы
Короткий адрес: https://sciup.org/140266659
IDR: 140266659
Текст научной статьи Особенности языка и стиля стихотворения "Манзумат ‘ал ибн салих аль-чкур аль-xаджж ф мадх китаб "Назурат аль-хакк" Ва мусанифа ‘ала-л-атлак" М.-‘А. Чкур
Стихотворение башкирского поэта-суфия, историографа и педагога Мухаммада-‘Алӣ Чӯк̣урӣ (1828-1889) «Манз̣умат ‘Алӣ ибн Са̣ ̄лих аль-Чӯк̣урӣ аль-xаджж фӣ мадх кита̄ б «На̄ зу̣ рат аль-Хакк» ва мус̣анифа̄ ‘ала̄ -л-ат̣ла̄к» (Стихотворение Алӣ ибн С̣а̄ лихa аль-Чӯк̣урӣ, [совершившего] хадж, в похвалу книги Манз̣умат ‘Алӣ ибн С̣а̄лих аль-Чӯк̣урӣ аль-xаджж фӣ мадх кита̄ б «На̄ з̣урат аль-Хакк» ва мус̣анифа̄ ‘ала̄ -л-ат̣ла̄ к и для классификации [её] использования)33 является одним из довольно многочисленного ряда произведений, опубликованных при жизни автора34. Исследователи
-
33 Чӯк̣урӣ, М. ʻА. Манз̣умат ‘Алӣ ибн С̣а̄ лих аль-Чӯк̣урӣ аль-xаджж фӣ мадх кита̄ б «На̄ з̣урат аль-Хакк» ва мус̣анифа̄ ‘ала̄ -л-ат̣ла̄ к // Марджа̄ нӣ Ш. Ал-к̣исм ал-аввал мин кита̄ б мустафа̄ д ал-ах̱ба̄ р фӣ ахва̄ л Каза̄ н ва Булг̣а̄ р. – Казань, 1885. – С. 251-258 (на тюрки. араб. граф.).
-
34 История башкирской литературы. В шести томах. 2-й том. Литература XIX – начала ХХ веков. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1990. – С. 186. (на башк. яз.)
творчества поэта, однако, не только не подвергали данный текст анализу, но и не упоминали его в библиографиях М.-ʻА. Чӯк̣урӣ. Данный факт, по-видимому, объясняется тем, что стихотворение было опубликовано в качестве приложения к второму изданию книги «Мустафа̄ д ал-Ах̱ба̄ р…» (Собрание сведений…) татарского религиозного деятеля и историка Шихаб ад-Дина Марджани – автора книги «На̄з̣урат аль-Хакк» (Бинокль на правду), и в таком качестве не привлекало внимания литературоведов и лингвистов.
Как явствует из названия, стихотворение является хвалебной одой религиозному трактату, посвящённому одному из сложных вопросов мусульманского фикха (религиозного права) – необходимости исполнения ночной обязательной молитвы в регионах, где тёмное время суток наступает на короткое время или не наступает вообще. Данная тема в середине XIX века была предметом острых дискуссий между представителями уламы Урало-Поволжья и разделяла сторонников традиционной среднеазиатской учёности и начинающих заявлять о себе реформаторов35. Позиция самого М.-ʻА. Чӯк̣урӣ по этой теме чётко изложена в самом стихотворении (поэт приветствует выход книги и использованный Ш. Марджани метод, однако указывает на их недостатки) и, вместе с его отношениями с татарским богословом, является предметом специального рассмотрения. В данной работе мы ограничимся лишь рядом наблюдений над языком и стилем произведения.
Текст составлен на традиционном письменном языке тюрки, обслуживавшем в XIX столетии целый ряд народов, населяющих Урало-Поволжье, Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Произведение записано арабской графикой в так называемой «старой орфографии», использующей четыре знака (ا, و, ه, ی) для обозначения гласных, ряд дополнительных согласных букв (پ, چ, ڭ), сохраняющей оригинальный графический облик арабских и персидских слов. Извод стихотворения можно охарактеризовать как смешанный, сочетающей среднеазиатские (отсутствие, за единичными исключениями, знаков ط и ص в тюркских словах) и урало-поволжские (пропуск в первых слогах букв, обозначающих редуцированные гласные, сохранение в них букв для обозначения гласных заднего ряда) черты36. В публикации сохранены такие особенности индивидуальной орфографии М.-ʻА. Чӯк̣урӣ, известные по его рукописям, как употребление диакритических знаков в трудных для чтения арабских, персидских и тюркских словах, использование графемы ک для обозначения [к] и [г], а знака ڭ - только для [г] в редких случаях. При этом авторское употребление буквы ۋ для [ў] в дифтонгах, характерное для рукописных произведений, при печати сохранено не было.
-
35 Кемпер М. Суфии и учёные в Татарстване и Башкортостана. Исламский дискурс под русским господством / пер. с немецкого И. Гилязов. – Казань: Российский исламский университет, 2008. – С. 588.
-
36 Булгаков, Р.М. Предложения к определению методики определения изводов тюркских рукописей Урало-Повожья // Из прошлого и настоящего башкирской письменной культуры и языка: сборник научных трудов / Р.М. Булгаков (отв. ред.), М.Х. Надергулов, С.Г. Сафуанов. – Уфа: БНЦ УРО РАН, 1988. – С. 10-12.
Лексика стихотворения включает три пласта: тюркский, арабский и персидский. Первые две группы лексем в тексте представлены примерно в равных долях; фарсизмов сравнительно мало. Исконной является практически вся глагольная лексика в тексте, большинство местоимений, значительная часть существительных и прилагательных.
Тюркская лексика в стихотворении неоднородна: в ней широко представлены единицы, характерные для живых разговорных языков Урало-Поволжья ( күзәтеү ‘ смотреть ’, ҡысҡарыу ‘ укорачиваться ’, йыраҡ ‘ далёкий ’), архаизмы ( әйләү ‘ делать ’, эчрә ‘ внутри, среди’ ), элементы, характерные для языков огузской группы ( булыу ‘ находить ’, көнеш ‘ солнце ’, улыу ‘ быть ’, илә ‘ с ’). Чередование огузских и кыпчакских лексем прежде всего расширяет в тексте синонимические ряды.
Арабские заимствования представлены конфессиональной лексикой ( ғиша ‘ ночная молитва ’, дәлил ‘ довод ’, вәджиб ‘ обязательный к исполнению поступок ’, сәүм ‘ пост ’), географическими терминами ( шимал ‘ север ’, әҡалим ‘ климаты ’, джәнүб ‘ юг ’), общеупотребительными словами, как вошедшими в основной словарный фонд башкирского языка в качестве стилистически нейтральных единиц ( ваҡыт ‘ время ’, ғәджәб ‘ удивительно ’, мөғәййән ‘ возможно ’, джәуаб ‘ ответ ’, ватан ‘ страна, родина ’), так и являющимися элементами книжного стиля ( ғуйун ‘ глаза ’, хилаф ‘ разногласие ’, тәхрир ‘ написание ’). Среди арабских заимствований представлены, в основном, имена (‘исм) и глагольные имена (масдар). Первые в тюркском тексте выступают в качестве существительных, вторые – прилагательных и наречий: зәкиләр эчрә әғйандә ‘ среди интеллектуалов и вельмож’ , мәнәҡиб ғилмилә мәшхун ‘ полный добродетельной науки ’. В сочетании с нейтральными исконными лексемами арабские заимствования в тексте приобретают яркую экспрессивную окраску37:
Ғуйун йетмәс ҡәдәр әҡүәл
Бар ирде донйада һәр хәл .
‘ Столько, что глаз не хватит, слов
Было в мире каждый раз ’.
Лексемы персидского происхождения представлены в тексте служебными словами ( һәм ‘ и ’, һәр ‘ каждый ’, ки ‘ что ’, өчүн ‘ для ’), некоторыми религиозными терминами ( намаз ‘ мусульманская молитва ’, пир ‘ старец, суфийский шейх ’), книжными словами ( сәрбесәр ‘ полностью ’, саз ‘ готовый ’, пайдар ‘ стабильный ’). Если первые две категории фарсизмов являются неотъемлемой частью словарного фонда современного башкирского языка и были таковыми во время написания стихотворения, то последняя категория придаёт тексту более высокий характер и расширяет его выразительные возможности.
М.-ʻА. Чӯк̣урӣ использует в своём произведении все морфологические
-
37 Саитбатталов, И.Р., Фаткуллина, Ф.Г. К вопросу об эстетической роли арабских заимствований в произведениях М. ʻА. Чӯк̣урӣ [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1; URL: http://www.science-education.ru/121-19104 (дата обращения: 18.10.2015).
возможности, все части речи, характерные для языка тюрки и современного башкирского языка. При этом в тексте наблюдается значительное разнообразие морфологических показателей, обусловленное чередованием кыпчакских и огузских элементов, а также в редких случаях влиянием арабского языка. Так множественное число имён существительных в тексте выражается единообразным показателем -лар/-лэр : йерлэр ‘ земли ’, ирлэр ‘ мужи ’, кэлэмлэр ‘ слова ’, а в арабских заимствованиях - также внутренней флексией, характерной для семитских языков: эутан ‘ страны ’, эукэт ‘ времена ’, этраф ‘ стороны ’. Более широко, чем в современном башкирском языке, представлена в тексте категория сказуемости, выраженная аффиксом -дур/-дYP : лэFYдYP ‘ [является] отменённым ’, атасыдур
‘[является] его отцом ’, Казандур ‘[является] Казань ’. Родительный, дательный, винительный падежи имеют два варианта аффиксов –
-ныц/нец, -Fа/-гэ, -ны/-не, характерные для кыпчакских языков и современного башкирского, и -ыц/-ец, -а/-э, -ы/-е, характерные для огузских языков и османского. Численно в тексте преобладают первые: наҙирләрнең ‘взирающих’, FишаларFэ ‘ночным молитвам ’, латаьифны ‘добрые слова’, ахшамыц ‘вечера’, йерлэрэ ‘землям’, джэуаблары сала ‘кладёт ответы’. Исходный падеж оформляется также двумя способами – показателями -дан/-дэн и -дын/-дин, первый из которых характерен для современных кыпчакских и огузских языков, второй - для среднеазиатского ареала: китаблардан ‘из книг’, ирдэн ‘от мужа ’, галимлэрдин ‘ из учёных’. В единичном случае к существительному присоединяется архаичный аффикс уподобления -дик: Бэккалидик ирлэр ‘мужи, подобные Баккали ’.
Морфология глагола в тексте также разнообразна. Глаголы изъявительного наклонения в настоящем времени имеют аффиксы -а/-э и -ыр/-ер/-ар/-эр: бар дийэм бэн дэ ‘и я говорю [, что] есть ’, сала ‘кладёт ’, күрүнүр чуҡ нуры анда ‘много света показывается там’, причём преобладает вторая форма. В последнем случае имеет место синонимия огузского показателя настоящего времени и кыпчакского показателя будущего времени, однако семантика и контекст произведения требуют признания форм на -ыр формами настоящего времени. Отрицательная форма выражается показателями -май/-мэй и -мас/-мэс/-маз: йетэлмай ‘не может достать’, байумай ‘не заходит [солнце/ ’, табулмас ‘не находится’, ирмэс ‘не является ’, сыгмаз ‘не помещается ’. Последние формы соотносятся с огузскими языками и, в частности, с османским. Прошедшее очевидное время выражается с помощью аффикса -ды/-де: кизделэр ‘путешествовали ’, джыйды ‘собрал’. Прошедшее неочевидное время представлено формами только с аффиксами -ган/-кэн, а не -мыш/-меш: йасаганлар ‘сделали’, салFан ‘положил’, иткэн ‘сделал’. В тексте представлены причастия прошедшего времени на -ган/-кэн: гиша вэджиб дикэн йердэ ‘там [, где] ночная молитва обязательна’, тоне кыскарFан айлардэ в месяцы [, когда] ночь сокращается’, и -ан/-эн: заман момтэд улан йердэ ‘там [, где] время широко’, настоящего времени на -Fучы: риYэйэт йазFучы ирлэр ‘мужи, пишущие предание’. Первая форма в тексте наиболее активна, она характерна и для современного башкирского языка; вторая форма представлена единичными случаями и является огузской; последняя форма – архаична. Деепричастия в тексте представлены формами с аффиксами -уб/^б: ачуб бер мэйдан мэшхун ‘открыв полную площадь’, Facыpuн белYб ‘зная времена’, -май/-мэй: экaлuм-эFcapын белмэй йвpYpлэp ирде ‘не зная климатов и веков, ходили’, ^анчэ: менэ мэFpuбукуFaнчэ ‘вот, пока прочитаешь вечернюю молитву’. Деепричастия на -уб/^б, принимая аффикс сказуемости -дур/-дур, могут замещать глаголы изъявительного наклонения: кuлYбдYP ТaшкuчеY йакдин ‘прибыл со стороны Ташкичу’. Глаголы повелительного наклонения во множественном числе имеют аффиксы -ыц/-ец, как в родном для автора таныпском говоре башкирского языка: карац шимди йырак йеркэ ‘посмотрите сейчас на дальние земли’, джэуаб йазыц сэнэд берлэ ‘напишите ответ с источниками’.
Морфология прилагательных и наречий в тексте ничем не отличается от современной. Личные и указательные местоимения представлены как кыпчакскими, так и огузскими формами при преобладании первых: бэн ‘ я ’, ул ‘ он/она ’, бу ‘ этот ’, анлар ‘ они ’, менэ ‘ вот ’; в косвенных падежах представлены формы, характерные для северо-западного диалекта башкирского языка38: мондэ ‘ здесь ’, моныц ‘ этого ’, шунчэ ‘ столько ’. В тексте представлены определительные местоимение каму ‘ весь ’, бойлэ ‘ так ’, вопросительное кайу ‘ который ’, неопределенное гаки ‘ некоторый ’, не встречающиеся в современном башкирском языке.
В стихотворении М.-‘А. Чукурй богато представлены служебные части речи. Помимо союзов да/дэ ‘и’, Кэм ‘и’ , йэ ‘или’, йэнэ ‘еиее’, йэхYд ‘или’ , эгэр ‘если’ , и послелогов eчYн ‘для’, кэдэр ‘до’ , характерных для современного башкирского языка и его диалектов, в тексте представлены архаичные формы ки ‘что’ , кеби ‘ как ’, чYн ‘ как ’, чу ‘ как ’, а также три формы послелога, соответствующего современному башкирском менэн ( белэн ) ‘ с ’: илэ, берлэ, берлэн . Единственное междометие в тексте - эй ‘ о ’.
Выбор поэтом синтаксических конструкций был во многом обусловлен стихотворной формой произведения: в рамках избранной им формы конструкция не может выходить за пределы строфы-рубаи с рифмовкой (a-a-a-b), конечной строкой-рефреном и восьмисложным размером строк. В стихотворении встречаются парасинтаксические периоды:
Асыл мэнcYблэpе Мэрджан,
Казандур мэскине эутан, Ахунддур мансубы э^ан . ‘ Место происхождения его - Марджан, Казань - место его жительства, Ахунд - его вельможный титул ’, Бессоюзные сложносочинённые предложения:
-
38 Миржанова С.Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. - Уфа: Китап, 2006. - С. 51.
Ләбибләрдән ничә ирләр
Ғиша бездән саҡыт дирләр,
Ничәләре вәджиб дирләр .
‘ Из просвещённых сколько мужей
Называют вечернюю молитву недействительной для нас,
Сколькие обязательной называют ’,
Усложнённые сложные предложения:
Ҡачан бу “Наҙурә” төшде,
Наҙирләрнең эше пешде,
Зира хаҡғә мәҙаф төшде .
‘ Когда эта «Назура» спустилась,
Дело взирающих созрело,
Потому что к истине было прибавлено ’.
Простые предложения, совпадающие по объёму со строфой, в тексте редки:
Моның тәхҡиҡедин әүүәл
Ғалимләрдин ничә әхүәл
Сайурды әҙғафы әкмал .
‘ Ранее его утверждения истины
Сколько раз учёные
Выбирали неправильные выводы ’.
Характерной особенностью синтаксиса М.-ʻА. Чӯк̣урӣ является употребление сложноподчинённых предложений с придаточными времени, находящимися в препозитивном положении относительно главного и начинающимися с союзов. Данная конструкция характерна для индоевропейских языков и редко встречается в тюркских:
Чүн аны күрделәр хөссад,
Джәфағә булдылар ҡөссад
Ҡылурғә мәхүилә әфсад
‘ Когда его увидели завистники,
Мучениям поставили цель
Подвергнуть с устранением и порчей ’.
В целом, анализируемое стихотворение М.-ʻА. Чӯк̣урӣ представляет собой произведение, достаточно сложное и неоднородное в языковом отношении: в нём в соответствии с творческими задачами автора сочетаются разные слои тюркских лексических и морфологических средств, арабские и персидские заимствования. Текст, однако, вполне доступен для понимания малоподготовленным читателем. Это, а также умелое и мотивированное употребление экспрессивных средств разного рода свидетельствует о высоком мастерстве автора в момент написания текста, а также о его виртуозном владении выразительными средствами как письменного языка тюрки, так и родного башкирского языка.
Список литературы Особенности языка и стиля стихотворения "Манзумат ‘ал ибн салих аль-чкур аль-xаджж ф мадх китаб "Назурат аль-хакк" Ва мусанифа ‘ала-л-атлак" М.-‘А. Чкур
- Булгаков, Р.М. Предложения к определению методики определения изводов тюркских рукописей Урало-Поволжья//Из прошлого и настоящего башкирской письменной культуры и языка: сборник научных трудов/Р.М. Булгаков (отв. ред.), М.Х. Надергулов, С.Г. Сафуанов. -Уфа: БНЦ УРО РАН, 1988. -С. 10-12.
- История башкирской литературы. В шести томах. 2-й том. Литература XIX -начала ХХ веков. -Уфа: Башкирское книжное издательство, 1990. -С. 186. (на башк. яз.)
- Кемпер, М. Суфии и учёные в Татарстане и Башкортостана. Исламский дискурс под русским господством/пер. с немецкого И. Гилязов. -Казань: Российский исламский университет, 2008. -С. 588.
- Миржанова, С.Ф. Северо-западный диалект башкирского языка. -Уфа: Китап, 2006. -С. 51.
- Саитбатталов, И.Р., Фаткуллина, Ф.Г. К вопросу об эстетической роли арабских заимствований в произведениях М.-ʻА. Чӯк̣урӣ //Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 1; URL: http://www.science-education.ru/121-19104 (дата обращения: 18.10.2015).
- Чӯк̣урӣ, М. ʻА. Манз̣умат ‘Алӣ ибн С̣а̄лих аль-Чӯк̣урӣ аль-xаджж фӣ мадх кита̄б «На̄з̣урат аль-Хакк» ва мус̣анифа̄ ‘ала̄-л-ат̣ла̄к//Марджа̄нӣ Ш. Ал-к̣исм ал-аввал мин кита̄б мустафа̄д ал-ах̱ба̄р фӣ ахва̄л Каза̄н ва Булг̣а̄р. -Казань, 1885. -С. 251-258 (на тюрки. араб. граф.).