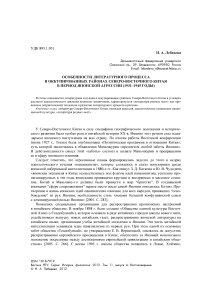Особенности литературного процесса в оккупированных районах Северо-Восточного Китая в период японской агрессии (1931-1945 годы)
Автор: Лебедева Наталья Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье описывается литературная ситуация в оккупированных районах Северо-Восточного Китая в условиях жесткого идеологического давления японских захватчиков, характеризуется «литература родных мест» как проявление патриотической тенденции в развитии литературного процесса в регионе.
Короткий адрес: https://sciup.org/14737794
IDR: 14737794 | УДК: 895.1:951
Текст научной статьи Особенности литературного процесса в оккупированных районах Северо-Восточного Китая в период японской агрессии (1931-1945 годы)
У Северо-Восточного Китая в силу специфики географического положения и исторического развития была особая роль в китайской истории XX в. Именно этот регион стал плацдармом японского наступления на всю страну. По итогам работы Восточной конференции (июнь 1927 г., Токио) была опубликована «Политическая программа в отношении Китая», суть которой заключалась в объявлении Маньчжурии «предметом особой заботы Японии». В действительности смысл этой «заботы» состоял в захвате Маньчжурии и превращении ее в сферу японского влияния.
Следует отметить, что агрессивные планы формировались задолго до этого в недрах идеологического течения «паназиатизм», которое сложилось и стало популярным среди японской либеральной интеллигенции в 1880-х гг. Как пишут З. Д. Каткова и Ю. В. Чудодеев, «японская экспансия в Китае осуществлялась под флагом идей паназиатизма, усиленно пропагандируемых в эти годы японскими правящими кругами и внедряемых в массовое сознание. Китай и Маньчжоу-го должны были принести в мир “братство”. В создаваемой японцами “сфере сопроцветания” первое место после самой Японии отводилось Китаю. Претворение в жизнь японских идей паназиатизма означало для всех народов, принявших “освобождение” из рук Японии, необходимость стать членами большой конфуцианской семьи с доминирующей ролью Японии» [2001. С. 283].
Появились специальные организации для распространения прояпонских настроений в китайском обществе. В ноябре 1898 г. было создано «Общество единой культуры Восточной Азии» («Тоадобункай»), которое основало в ряде китайских городов школы нового типа, содействовало выпуску новых китайских газет, распространению японской литературы на китайском языке, организации учебы китайской молодежи в Японии. Эта часть китайской интеллигенции усваивала идеи паназиатизма из первых рук. При этом одной из основных забот общества «Тоадобункай», по утверждению Е. В. Верисоцкой, «являлось не допустить распространения европейского просвещения в Китае, обеспечить за Японией монопольное положение посредника между достижениями европейской цивилизации и китайским обществом» [2005. С. 266]. С весны 1905 г. школы общества появились в Лояне, Хойчене,
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 4: Востоковедение © Н. А. Лебедева, 2012
Гайпине, Фучжоу и других городах юга Маньчжурии. Планировалось создание подобных школ и в северных районах.
Однако со временем сторонникам теории паназиатизма все более эффективными представлялись методы военной экспансии. Их идеям оставалось лишь стремительно превращаться в более или менее приемлемое идеологическое прикрытие открытой агрессии.
В ночь с 18 на 19 сентября 1931 г. японские войска, расположенные в зоне ЮжноМаньчжурской железной дороги и переброшенные из Кореи, двинулись вглубь китайской территории и оккупировали г. Мукден, гарнизон которого был застигнут врасплох и почти не оказал сопротивления. Эта операция вошла в историю под названием Мукденского инцидента и стала началом японской оккупации Северо-Востока. К концу 1931 г. под японским контролем оказалась вся Маньчжурия [История Северо-Восточного Китая.., 1989. С. 111–113].
Первого марта 1932 г. было провозглашено марионеточное государство Маньчжоу-го, которое стало издавать свои законы, регламентировавшие все стороны жизни народа. Восемнадцатого ноября 1933 г. закон «О печати» легализовал полицейский надзор над прессой, жесткой цензуре подвергались все проявления духовной жизни. Всячески пропагандировались и насаждались японский образ жизни, японский язык, история, культура. За духовным угнетением последовали убийства, грабежи, притеснения, которые оставили в сознании китайского народа болезненный след.
Захват Северо-Востока Китая японцами вызвал волну отпора. Первыми начали вору-женное сопротивление военнослужащие мукденских войск, затем к ним стали присоединяться рабочие крупных городов, учащиеся средних школ, студенты, учителя, мелкая городская буржуазия. Крестьянство Маньчжурии, менее затронутое оккупацией, приходило в движение медленнее. Но по мере усиления японского военно-полицейского и экономического нажима и оно стало активизироваться. В начале 1933 г. общая численность антияпонских вооруженных сил разного рода в Маньчжурии составила 270 тыс. чел. [Аварин, 1934. С. 479]. Надо признать, что их действия не были успешными, поэтому к весне 1933 г. остатки этих формирований вынуждены были уйти в труднодоступные горные и заболоченные районы.
В период оккупации литературный процесс на территории Северо-Восточного Китая развивался в двух направлениях. Первое было представлено литературой, ориентированной на официальные установки оккупационных властей. Ко второму принадлежала продолжавшая развиваться литература «движения 4 мая», которая выражала идеологию патриотического антияпонского движения. В сосуществовании этих литературных потоков проявлялись культурно-исторические особенности региона.
Важная роль в развитии литературного процесса принадлежала художественной периодике. Но если в период движения за новую культуру и «движения 4 мая» на Северо-Востоке существовало множество разнообразных литературно-художественных периодических изданий, то с 1931 по 1937 г. в связи с цензурными ограничениями их количество значительно сократилось. Остались только газеты «Тайдун жибао» ( 泰东日报 ) в Даляне, «Шэнцзин ши-бао» ( 盛京时报 )в Мукдене, «Дабэй синьбао» ( 大北新报 ) в Харбине и «Датунбао» ( 大同报 ) в Чанчуне. Все они оказались под японским политическим влиянием. Вскоре «Тайдун жи-бао» из-за низкого профессионального уровня персонала была закрыта. Три других издания публиковали и пропагандировали литературу, воспевавшую новые японские порядки и приукрашавшую действительность. Чтобы привлечь литераторов, эти газеты регулярно устраивали конкурсы и раздавали награды за публикации. Однако подобные действия не имели особого успеха. Награды вызывали интерес в основном у представителей национальных меньшинств и малограмотной молодежи. Никто из сколько-нибудь известных и талантливых писателей не сотрудничал с этими изданиями.
Кроме названных газет, существовали также три журнала: «Минмин» («明 明»), «Сы-минь» («斯民») и «Синьциннянь» («新青年»). Самым влиятельным изданием был журнал «Минмин». Он издавался с марта 1937 по сентябрь 1938 г. под редакцией Чэнь Маоли (陈毛 利) и в начальный период своего существования был весьма прогрессивным. Так, в нем была опубликована статья Гу Дина (古丁) «Пустословие на литературной арене» («闲话文坛»), направленная против победителей литературных конкурсов в «Шэнцзин шибао» Му Жугая (穆儒丐), редактора этого издания и профессора Тао Минцзюня (陶明浚), из Цзилиньского педагогического института. Эта публикация произвела сильное впечатление на читателей. Кроме того, в журнале публиковались рассказы молодых писателей. Журнал «Минмин» за период своего существования выпустил три тематических сборника. В первый входили шесть прозаических произведений Гу Дина, Тянь Бина (田兵), Сяо Суна (小松), И Чи (疑迟) и др. Второй, ноябрьский, был посвящен годовщине смерти Лу Синя. Декабрьский выпуск знакомил с известными японскими писателями. После закрытия журнала его творческий костяк объединился в Общество издания произведений литературы и искусства (文艺刊行会).
Снижение творческой активности литераторов, связанное с идеологическим диктатом и сокращением возможностей для публикации, компенсировалось появлением на литературной арене организаций, лояльных к оккупационным властям. Так, в 1933 г. был создан «Совет маньчжуро-японской культуры» ( 满日文化协会 ), в 1934 г. – «Общество кистей Маньчжурии» ( 满洲笔会 ). Эти организации контролировали и корректировали творчество деятелей литературы и искусства региона в соответствии с установками о необходимости расширения японского влияния.
Властям удалось направить часть китайских литераторов на фронт, на фабрики и заводы, в деревни, чтобы проводить там агитационную работу в пользу Японии. В результате этих поездок было создано изрядное количество так называемой документальной литературы, которая была очень далека от реального положения дел. В 1939 г. образовано Акционерное общество по выпуску литературы ( 书籍发行股份公司 ), которое сконцентрировало в своих руках выпуск книг, подвергавшихся соответствующей цензуре.
В августе 1941 г. в Мукдене создана Маньчжурская ассоциация деятелей литературы и искусства ( 满洲艺文家协会 ) с отделениями в разных городах. Ее члены призывались писать на военную тему. Появилось множество произведений, сосредоточенных преимущественно на форме, исключавших описание каких-либо проблем и противоречий, даже если речь шла о расставании любящей пары. Другие произведения эстетизировали захватническую войну, замалчивали реальные трудности и социальные противоречия. Непременным условием публикации литературного произведения становилось следование некой норме, установленной для китайской литературы японскими кураторами. Подобные произведения объединялись в специальные сборники. Так, в 1943 г. Кабинетом художественной литературы был опубликован сборник «Литература верблюдов» ( 骆驼文学丛书 ).
Японцы жестко контролировали созданные под их эгидой организации деятелей литературы и искусства, регулярно устраивали съезды и совещания в Токио, Нанкине, других городах. В августе 1943 г. в Токио проходил II съезд литераторов великой Восточной Азии ( 大东 亚文学者大会 ), на котором Маньчжурию представляли Гу Дин, Тянь Бин, У Лан и др.
Таким образом, культура подвергшегося японской агрессии Северо-Восточного Китая испытывала на себе значительное давление со стороны идеологического аппарата захватчиков. При этом литературная продукция, создаваемая членами контролируемых японцами объединений, была столь незначительной как в идейном, так и в художественном плане, что сами японские «вдохновители» называли этот этап в развитии литературы «неурожайным».
После событий 7 июля 1937 г., когда агрессия начала распространяться на территорию всего Китая, японская культурная экспансия в регионе усилилась. Во многом это было связано с ужесточением террора против прогрессивных деятелей культуры и в самой Японии, где властям, ввязывавшимся в полномасштабную войну с Китаем, понадобилось заручиться моральной поддержкой собственного народа. Следует отметить, что как в Японии, так и в Северо-Восточном Китае власти использовали практически одни и те же приемы и методы руководства литературой и искусством, свойственные тоталитарному государству, с той лишь разницей, что с китайской интеллигенцией они церемонились еще меньше, чем со своей.
Японские власти, видя низкую эффективность колониальной политики в области культуры в Маньчжурии, подготовили «Программу руководства литературой и искусством» (文艺 指导要纲), опубликованную 23 марта 1941 г. Этот документ определял характер, цели лите- ратуры и искусства оккупированного района, регламентировал создание литературнохудожественных объединений, образовательных и исследовательских структур в творческой сфере. На литературу возлагалась задача «государственного воспитания», кисть литератора, согласившегося обслуживать оккупантов, приравнивалась к боевому штыку солдата. Над теми же китайскими литераторами, кто не запятнал себя сотрудничеством с поработителями, нависла угроза физической расправы и тотального запрета на профессиональную деятельность. Такие писатели, как Ло Фэн (罗风), Шу Цюнь (舒群), подверглись аресту; Сяо Цзюнь (萧军) и Сяо Хун (萧红бежали сначала в Циндао, затем в Шанхай, где опубликовали ставшие знаменитыми произведения об антияпонском сопротивлении: роман «Деревня в августе» (八月的乡村) и повесть «Поле жизни и смерти» (生死场). Подчеркнем, что произведения о сопротивлении захватчикам в Маньчжурии, вошедшие в историю китайской литературы, создавались и публиковались вне этого региона, во внутренних районах страны, пока еще свободных от японского вторжения.
В результате политики японских оккупационных властей связи местной культуры с культурой центральных районов страны были практически сведены к нулю. Если до 1930-х гг. общение региональной культуры с общенациональной стимулировало развитие первой, то на данном этапе все то немногое из произведений новой литературы, что все-таки попадало в Маньчжурию, подвергалось запрету, конфискации, иногда уничтожению. Применялся и метод «исправления» содержания, как случилось с пьесой Цао Юя «Гроза».
В условиях усиливающегося идеологического давления властей Маньчжоу-го прогрессивные китайские литераторы, оставшиеся на Северо-Востоке, все-таки пытались выразить в творчестве свой взгляд на происходящее. Если запрещались произведения, открыто описывающие борьбу против японской агрессии, следовало найти формы и темы, которые могли бы объективно отражать ситуацию в регионе. У литераторов появилась идея сообща выпускать одно специальное издание и сосредоточить внимание на описании событий, происходящих в деревне. Постепенно в Северо-Восточном Китае начала складываться концепция «литературы родных мест» ( 乡土文学 ). Инициатором ее создания был писатель Лян Шаньдин ( 梁山丁 ), или просто Шань Дин ( 山丁 ).
На страницах местных периодических изданий была развернута дискуссия, посвященная концепции «литературы родных мест». Хотя она была весьма кратковременной, тем не менее помогла размежеванию разнородных литературных сил.
Особую позицию заняли японские «руководители» литературы Маньчжоу-го. Продвигая идею паназиатской культуры, в которой, по их мнению, нет национальных культур, но есть единая общая цивилизация, они стремились подавить сам дух сопротивления китайцев. Японским идеологам надо было уничтожить проявление национального самосознания в любой форме, исключить идею о том, что региональная «литература родных мест» является частью национальной литературы ( 国民文学 ). Поэтому «литература родных мест» признавалась тяготеющей к «мировой литературе» ( 世界文学 ), которая, с точки зрения японцев, не должна иметь ни национальной специфики, ни местных особенностей. При этом маньчжурская культура и литература считались «ниже» японской, и вследствие этого следовало экспортировать японскую литературу в Маньчжурию в качестве образца для подражания [История современной литературы…, 1989. С. 102].
Однако с 1943 г. марионеточный режим начал пропагандировать «литературу родных мест» в периодической печати. В 1944 г. была проведена конференция о «литературе родных мест», а изучение художественных традиций якобы независимой Маньчжурии даже включили в школьные программы. Такое благожелательное отношение японских властей к «литературе родных мест» было не более чем ходом в идеологической борьбе.
Несмотря на жесткое идеологическое давление, прогрессивная литература СевероВосточного Китая в условиях оккупации продолжала жить и развиваться.
Инициатор создания «литературы родных мест» Лян Шаньдин в период пребывания в оккупированных районах (1931–1943 гг.), которые он не мог покинуть, опубликовал сборники рассказов «Горный ветер» ( 山风 ), «Тоска по родине» ( 乡愁 ), «Урожайный год» ( 丰年 ), сборник эссе «Путевые записки по дорогам восточного края» ( 东边道纪行 ), повесть «Камыш» ( 芦
苇 ) и свое самое известное произведение – роман «Зеленая долина» ( 绿色的谷 ) [Чжан Юймао, 1989. С. 34].
Сборник из девяти рассказов Лян Шаньдина «Горный ветер» в полной мере характеризует писателя как глубокого и всестороннего исследователя социальных бедствий народа в период японского господства. Например, в рассказе «Ткацкий станок» ( 织机 ) автор показывает, как в результате экономического порабощения Японией Северо-Восточного Китая происходит банкротство и закрытие ткацкой фабрики, уничтожается китайская кустарная промышленность.
В других рассказах сборника – «В конце года» ( 岁暮 ), «В смрадной мгле» ( 臭雾中 ), «Северный Полярный круг» ( 北极圈 ), «История с серебром» ( 银子的故事 ), «Узкая улица» ( 狭街 ), «Ров» ( 壕 ), «Близнецы» ( 孪生 ) разоблачаются те, кто, войдя в сговор против своего народа, приносят ему страдания: помещики, десятники, чиновники, служители закона. Стиль Лян Шаньдина отличается подчеркнутым объективизмом, который профессор Те Фэн [1987. С. 261] называет фактографическим. Описания словно создаются грубыми, небрежными штрихами, что придает произведениям созерцательно-спокойный характер.
Среди единомышленников Шань Дина можно назвать Ван Цюина ( 王秋莹 ), Юань Си ( 袁 犀 ), И Чи, Тянь Лана ( 田琅 ), Цзинь Иня ( 金音 ), У Ин ( 吴瑛 ) и др.
Как и его собратья по кисти, Ван Цюин создавал правдивые картины социальной несправедливости, однако негодование высочайшего накала выделяло его среди других. Произведения отличались сюжетным разнообразием. В рассказе «Молодые побеги» ( 嫩芽 ) повествуется о гибели молодых патриотов, в рассказе «Ягненок» ( 羔羊 ) описаны скитания потерявшегося корейского ребенка. Рассказ «Кровь за кровь» ( 血债 ) посвящен истории захвата пустующих земель Северо-Востока японскими переселенцами. О том, как тяжело живет народ, рассказывается в «Южном ветре» ( 南风 ).
Однако лучшими считаются произведения Ван Цюина о рабочих. В повести «Шурф» ( 矿坑 ) описаны обычные трудовые будни шахтеров, которые, несмотря на все усилия и каторжный труд, не могут прокормить ни себя, ни свою семью. Герой повести «Паровозик» ( 小 工车 ) – кондуктор поезда, перевозящего рабочих по горнодобывающей выработке. Он старательно трудится изо дня в день, но в результате всевозможных поборов подрядчиков, десятников и надзирателей не может ни поесть досыта, ни купить себе теплую одежду, ни расплатиться с долгами. Пытаясь отдать долги, он отправляется в игорный притон, но надежды на выигрыш оказываются эфемерными: шулера его обманывают, он теряет последнее и погружается в крайнюю нищету. Ван Цюин – мастер прописывания деталей, он требователен к слову, его образы свежи и оригинальны, что создает неповторимый и узнаваемый стиль писателя.
Юань Си в те годы только начинал свой литературный путь, широкую известность ему принес рассказ «Трое соседей» ( 邻三人 ). Его отличали простая и лаконичная манера письма, живой язык, умение создать правдивый человеческий характер, чувствовалось влияние классического повествовательного стиля. Большая часть его героев не пасовала перед трудностями, активно двигалась к свету. Поскольку в литературе того периода особо почиталась занимательность сюжета, что вполне удавалось Юань Си, то писатель быстро стал популярным.
Рассказ И Чи «Цветы Шань Дина» ( 山丁花 ) повествует о жизни рабочих, которые суровой зимой далеко в горах заготавливают лес. Отдавая тяжелому труду последние силы, они в полной мере испытывают страдания и трудности, сопряженные с их работой. За малейшую провинность они подвергаются штрафам, тратят деньги на поддержание собственных сил, платят за обратную дорогу домой, и в результате из заработанного у них ничего не остается. Этот рассказ реалистично отражает атмосферу времени и места, где происходят события.
Тянь Лан был весьма плодовитым автором, его визитной карточкой может считаться роман «Волнение земли» ( 大地的波动 ), посвященный жизненным перипетиям трех семейных кланов в период военной смуты.
У Ин родилась в состоятельной буржуазной семье, закончила женскую среднюю школу в г. Цзилинь и стала сотрудничать с журналом «Новая Маньчжурия» ( 新满洲 ) в качестве корреспондента, а затем и редактора; с 1935 г. начала литературную деятельность [Те Фэн,
Гао Чжилинь, 1990. С. 124]. Писательница говорила о себе, что она выросла в оранжерее и вела беззаботную жизнь, поэтому ее произведения не отражают эпоху. Если это и так, то только в первом сборнике рассказов «Два полюса» ( 两极 ) (1939), которые озарены светом ее женственности и повествуют о героинях, ставших жертвами старых обычаев и религиозных предрассудков. Позже появляются и иные сюжеты, в которых женщины выступают активной силой. В условиях японского господства они пробуют себя в различных экономических предприятиях, однако большей частью неудачных. У Ин увлекалась экспериментами с художественной формой, для нее практически не существовало литературного канона.
Таким образом, можно утверждать, что развитие литературного процесса в СевероВосточном Китае в период оккупации было сложным и противоречивым. Японские власти переносили приемы и методы управления культурой, которые они применили в своей собственной стране против прогрессивных писателей, на литераторов захваченной Маньчжурии. Активным действиям властей Маньчжоу-го по подавлению не только национального сопротивления, но и национального самосознания было противопоставлено стремление молодых китайских литераторов-патриотов сохранить национальное достоинство. Их ответом на политические репрессии и жесткую цензуру стало появление первых произведений о войне сопротивления в китайской литературе – романа Сяо Цзюня «Деревня в августе» и повести Сяо Хун «Поле жизни и смерти», созданных авторами после отъезда во внутренние районы страны.
Литераторы, оставшиеся в оккупированной Маньчжурии, разделились на два лагеря. Одни следовали официальному курсу и создавали развлекательные произведения, далекие от актуальных проблем времени, приукрашивающие мрачную действительность. Другие, стараясь избежать рогаток цензуры, развивали реалистическую линию литературы «движения 4 мая», описывали жестокие условия двойной эксплуатации трудящегося люда. Часто их произведения не были политически окрашены, но обладали отчетливо выраженной национальной доминантой. «Литература родных мест» в полной мере представляла подобную прозу.
В целом литература Северо-Восточного Китая периода японской оккупации явила собой немало интересных образцов художественного творчества и имела большое значение для сохранения национального самосознания китайского народа.
THE SPECIFIC CHARACTERS OF LITERARY PROCESS IN THE NORTH-EASTERN CHINA OCCUPIED TERRITORY AT THE JAPANESE OCCUPATION PERIOD (1931–1945)