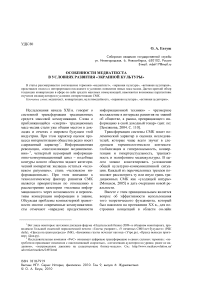Особенности медиатекста в условиях развития «экранной культуры»
Автор: Евтуш Олеся Анатольевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискурс СМИ
Статья в выпуске: 6 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается соотношение терминов «медиатекст», «экранная культура», «активная аудитория», представлен подход к интерпретации последнего в условиях появления новых масс-медиа. Дается краткий обзор тенденции конвергенции в сфере он-лайн средств массовых коммуникаций, намечаются возможные перспективы изучения медиааудитории в условиях интернетизации СМК.
Медиатекст, конвергенция, мультимедийность, "экранная культура", "активная аудитория"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737314
IDR: 14737314 | УДК: 80
Текст научной статьи Особенности медиатекста в условиях развития «экранной культуры»
Исследования начала XXI в. говорят о системной трансформации традиционных средств массовой коммуникации. Слова о приближающейся «смерти» традиционных масс-медиа стали уже общим местом в докладах и отчетах о мировом будущем этой индустрии. При этом характер оценок процесса интернетизации общества редко носит сдержанный характер 1. Информационная революция, «ошеломляющие медиаизменения» 2, четвертый всемирный информационно-коммуникационный цикл – подобные контуры нового общества задают категорический императив: желаешь остаться «человеком разумным», стань «человеком информационным». При этом внимание к технологическому фактору развития СМК является приоритетным по отношению к рассмотрению категории «человека информационного» через возможности и перспективы конвертации информации в знание. Обсуждая проблемы компьютерной грамотности многие современные коммуникативи-сты отмечают «парадокс продуктивности информационной техники» – чрезмерное восхваление в интересах развития не знаний об обществе, а рынка, превращающего информацию в свой доходный товар» (цит. по: [Землякова, 2004. С. 110].
Трансформация системы СМК носит полемический характер в оценках исследователей, которые чаще всего звучат в следующем терминологическом контексте: глобализация и гиперлокальность, конвергенция и гипертекстуальность, транзакт-ность и полифонизм медиакультуры. В целом можно констатировать усложнение общей культурно-коммуникативной ситуации. Каждый из перечисленных трендов позволяет рассмотреть ту или иную грань традиционных СМК как «уходящей натуры» [Монахов, 2005] и дать очертания новой реальности.
Вместе с этим принципиальным является вопрос об эффективности использования того теоретического фундамента, который был накоплен на протяжении ХХ в., для построения концепций в области он-лайн
СМИ. Теоретический базис, с успехом применяемый для описания аудитории, «сбитой в стадо и представляющей собой “информационных бедняков”» (цит. по: [Уэбстер, 2004. С. 197], моделей поведения телезрителей, эффектов fast-thinking [Дьякова, Трахтенберг, 1999; Брайант, Томпсон, 2004] не дает полноценного представления о меняющемся обществе, так как эмпирические исследования охватывают в основном анализ телевизионного потребления. Например, теория установления повестки дня не учитывает появления нового агента влияния – «гражданских журналистов», а также развития блогосферы, как альтернативной медиасреды. Однако с учетом этих двух факторов каждое происшествие потенциально может приобрести статус события не в соответствии с «наличными целями» медиапроизводителей, а минуя их вовсе как звено коммуникационной цепочки 3.
Эта работа не претендует на то, чтобы предложить новую концепцию исследования современных СМК. Цель данной работы – выявление и описание специфики «новых медиа» через парадигмальные изменения представлений в области коммуника-тивистики 4. Теоретическое содержание данной работы сводится к установлению логических связей между понятием «экранной коммуникации» и теорией «активной аудитории» применительно к он-лайн СМК. Представляется, что синтез буквенного и аудиовизуального текстов дает не только новое качество медиатекста и видение медиакультуры, но и позволяет говорить о новых моделях поведения медиааудитории (далее «читателя-пользователя»).
Экранная культура как конвергенция текста и аудиовизуального образа
В первую очередь необходимо разграничить понятия «аудиовизуальная культура»
и «экранная культура». Различие стоит проводить не по принципу «матрешки», где одно шире другого, а с точки зрения эволюционного характера самого понятия «экрана», которое в современных условиях следует рассматривать достаточно широко, а именно включая смысловую компоненту процедуры «перехода» и рассматривая зрителя одновременно с двух позиций: потребителя и создателя. Аудиовизуальная культура – феномен культуры XX в., хотя она и связана исторически с ритуалами и зрелищными формами праистории и древней истории культуры. Семиотически она представляет собой аудиовизуальные тексты – знаковые ансамбли, соединяющие изобразительные, звуковые и вербальные ряды. Другими словами, специфика аудиовизуальной культуры определяется ее семиотической природой и техническими возможностями средств ее реализации [Культурология, 2007. С. 64].
Можно выделить несколько периодов в развитии аудиовизуальной культуры: от синетза немого кино и радио, изобретения звукозаписи и мультипликации, через смену «поколений» разных технических средств к приходу эстетики телевидения, базирующегося на видеоэффектах. Современный этап развития экранной культуры связан со всеми видами макро- и микроэкранов (компьютер, мобильный телефон, планшет, электронная книга и пр.). Экранная культура, основанная на феномене монитора, представляет собой своеобразный итог эволюции книжной культуры, с одной стороны, и телевидения как агрегатора всех артефактов зрелищной культуры, с другой стороны. Рассмотрим черты «экранной культуры» в сопоставлении аудиовизуальных платформ и интернет-конвергентной коммуникации.
Аудиовизуальная культура, в основе которой находятся телевидение и кинематограф, отличается следующими характерными чертами. Во-первых, символьное конструирование и преобразование реальности является прерогативой исключительно профессионалов: журналистов, режиссеров, продюсеров. Во-вторых, селективный информационный процесс на телевидении ориентируется на «железное» правило: картинка – первична. Нет картинки – нет сюжета, а значит, нет события. В-третьих, «удвоение культуры», т. е. синкретизм звука и видео сделали телевидение домашним фоном. Другими словами, люди в большинстве своем остаются телезрителями за счет того, что телевизор привычен и не мешает, а не потому, что передача интересная. В-четвертых, создаваемый эффект присутствия за счет видеотизации пространства и времени, в которых происходит событие, выступает главным аргументом в вопросе достоверности информации. Псевдоинформированность основывается на распространенном тезисе: «По телевизору показали, значит, так все и было». В-пятых, приоритетными функциями аудиовизуальной культуры стали релаксация и развлечение. Это культура театра, перфоманса, ярмарочной площади, на которой в былые времена под шум толпы могли проводить казнь и демонстрировать кукольный спектакль. И сегодня телевизионный экран – это пространство, где синтезируются криминальные программы и сериалы с игровым контентом, происходит симуляция обретения богатства и славы, здоровья и семейного счастья.
Исследования феномена телевидения на протяжении нескольких десятилетий XX в. традиционно связывают его с понятиями «массовое общество» и «общество потребления». Из ключевых тезисов социокультурной динамики, вызванной «голубым экраном», называются:
-
• люди перестают читать;
-
• люди перестают мыслить;
-
• люди хотят потреблять, не затрачивая усилий.
Представители Франкфуртской школы М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно [1997] в своих программных тезисах так констатируют роль телевидения в обществе: полностью контролируемая господствующей элитой культуриндустрия вместо «хлеба опыта» регулярно скармливает своим клиентам и жертвам «камни стереотипа». Для издателей периодической печати вопрос о будущем звучит в пессимистической тональности и связывается со сложностью привлечь молодую аудиторию к чтению газет и журналов в конкурентной борьбе с телевидением, а теперь и с Интернетом.
«Экранная культура» в условиях появления монитора (для простоты будем называть ее далее Э-культурой) приобретает особенные от «аудиовизуальной культуры» черты. Главным здесь является понимание того, что экран следует рассматривать как «ожившую» страницу, тем самым подчеркивается эволюционный характер этого типа культуры. Визуальная коммуникация сосуществует с вербальной, в первую очередь с письменной. Она не просто дополняет традиционные формы общения между людьми – непосредственное межличностное общение и письменную (книжную) культуру, а вбирает в себя все элементы (текст + звук + образ) на основе новых технологических решений.
Если рассматривать Э-культуру как функционального последователя своего предшественника – аудиовизуальной культуры, то следует отметить, что ее развитие происходит на основе самой широкой конвергенции с элементами интерактивности. Вот лишь некоторые ее формы.
Литература и медиа . Результатом являются интертекстуальные гиперактивные тексты (по такому принципу строятся например он-лайн энциклопедии, справочники).
Архитектура и медиа . Если раньше здания путем рекламного декодирования наружной рекламой включались в современный медиадискурс, то сегодня виртуальная архитектура становится предметом медийного контента в самых разных вариантах: виртуальные экскурсии, построение 3D-го-родов. Такие ресурсы схожи с компьютерными играми типа «стратегии». Например, пользователю предлагают путешествие по карте города, где отмечены исторические места и сооружения. При «кликании» на объекты появляется 3D-модель с рассказом о прошлом этого здания (газета «Las Vegas Sun», США).
География и медиа . Одним из востребованных видов контента становятся базы данных, которые для наглядности и эффективности использования преобразуются в интерактивные карты (например, ДубльГИС).
Игры и медиа. Игровым контентом становится буквально все: новости (см. сайт РИА Новости, подкасты «Флеш-игры», «Кроссворды», «МультиСкрипт»), организация сообществ (киберспортивные команды на сайте ИД «Алтапресс»), просветительские проекты газет (проект «Газета в образовании» бердской газеты «Курьер. Среда. Бердск»). Отличие видеокультуры от Э-культуры заключается в том, что на телевидении играть могли «избранные» («Кто хочет стать миллионером?», «Последний герой», «Поле чудес», «Что, где, когда?»), географические, культурные, литературные ликбезы потреблялись линейно, т. е. зритель не выбирал, что смотреть и в какой последовательности.
Примечательным является и еще одно наблюдение. При очевидном внимании зрительской аудитории к кинематографическим работам с преобладанием видео- и компьютерных эффектов, в интернет-медиасреде особый статус приобретает документализм в духе лозунгов первых лет кино «Захватить жизнь врасплох». В чем это проявляется? Медийным содержанием становится так называемый user generated content (UGC) – контент, который создается пользователями и в некоторых случаях превосходит журналистские материалы по эксклюзивности, оперативности, содержательности. Множество примеров UGC можно видеть при освещении крупных катастроф и бедствий (например, крушение «Невского экспресса»). С другой стороны, в разряд медиатекстов переходит собственно редакционная «кухня». Самостоятельным контентом выступают материалы о том, как создаются журналистские материалы: выбираются темы, собирается информация, ранжируются информационные поводы. Так, если в газете «Guardian» эту информацию можно видеть в блогах авторов, развитие которых является официальной информационной политикой, то телекомпания «NBC California» (США) выкладывает видеосюжеты ежедневной планерки на свой основной мультимедийный сайт для поддержания доверия аудитории.
Вместе с этим Э-культура обладает и еще целым рядом отличительных черт. Во-первых, происходит замена предметной области нематериальным взаимодействием. Речь идет о распредмечивании денег (Яндекс-деньги), книг (цифровые книги), трудовой деятельности (уход от традиционных рабочих мест в офисах, зданиях), ресурсов (появляются искусства без материальных затрат – анимация, компьютерная графика, баннерная реклама), информации как таковой (например, в электронном архиве YouTube хранят файлы не только отдельные пользователи, но и такие СМИ, как газета «Коммерсант»). Принципиально важным становится то, что виртуальная реальность рассматривается как неопредмеченная действительность: площадка для аукционов, знакомств, проведения митингов, флеш- мобов. В частности, период 2009 – начала 2010 г. в России показал, что именно виртуальная среда может стать эффективным местом сбора и продвижения интересов определенного сообщества (например, в Интернете проводились акции в поддержку новосибирского художника Артема Лоскутова; издательский дом «Алтапресс» создал он-лайн спецпроект «Алтайгейт» по расследованию истории с вертолетом в горах Алтая и чиновниками, которые охотились на «краснокнижных» архаров).
Во-вторых, эффект достоверности достигается не просто трансляцией «картинки», что само по себе выступает скорее средством манипуляции или «фрейминга», а не верификации. Убежденность в достоверности складывается из гипертекстовой природы он-лайн текста. В условиях интернетизации общей единицей для всех СМИ становится текст. Его дигитализация, т. е. перевод в цифровую форму, позволяет включать в его структуру любые небуквенные элементы (аудио, видео, графику, мультипликацию, симуляции и пр.), что носит название мультимедиа текста. Далее кроме тех характеристик, которые чаще всего можно встретить относительно он-лайн текстов – нелинейность восприятия информации потребителем, возможность постоянно обновлять информацию, незаконченность статей (журналистика процесса), гипертекстовая многоуровневая верстка, интерактивность, – следует особо рассмотреть черты текста Э-культуры, которые позволяют определить его как действенный. Для этого предлагается обратиться к теории «активной аудитории».
Активная аудитория в контексте экранного медиатекста
В первую очередь необходимо отметить, что интернет-аудитория как новый объект исследования, наделяется пока некими приблизительными обозначениями, семантическая размытость которых неизбежна на этапе обнаружения и становления их специфических признаков. Исследователи не имеют единого мнения о том, как называть человека Э-культуры. Можно встретить синтетический термин «читатели / клиенты / потребители / пользователи / профессиональные пользователи» [Лукина, 2009. С. 60]. За категориальной неоднозначностью сле- дуют и такие вопросы. Почему современную медиааудиторию можно назвать активной? На каких стимулах или мотивах базируется эта активность? Что «читатель-пользователь» делает в Интернете?
Еще в 1930–1940-х гг., когда видение СМИ как могущественной силы, сравнимой с действием «магической пули», подвергалось сомнению, было замечено, что индивидуальные различия и социальная дифференциация влияют на поведение, связанное с массовой коммуникацией. К началу Второй мировой войны исследователи накопили большой запас данных о типах мотивации и удовлетворения, одной из первых работ на эту тему была статья Г. Герцо «Типы мотивации и удовлетворения слушателей ежедневных сериалов» (1944 г.). Обоснование понятия активной аудитории строилось исходя из объяснения, чем руководствуется индивид, выбирая из того, что предлагают ему СМИ. Ответ на вопрос сформулировал в виде «Дроби выбора» У. Шрамм: ожидание награды / необходимое усилие. Другими словами, по Шрамму, люди соизмеряют меру награды (удовлетворения), которую они ожидают от данного средства коммуникации или сообщения, с тем, какое усилие надо приложить, чтобы эту награду получить [Бакулев, 2005 С. 57].
С начала 1970-х гг. теорию активной аудитории начали развивать Е. Кац, Д. Блумер, М. Гуревич, М. Дефлер, С. Белл-Рокич, Ноэль-Нойман. Основной концепт сводится к следующим положениям: аудитория активно использует СМИ в соответствии со своими целями; инициатива в выборе СМИ принадлежит самому человеку; отдельные СМИ конкурируют за аудиторию; люди достаточно хорошо представляют, что их интересует в СМИ и что они от них получают; их суждения об этой информации различаются в соответствии с их ценностями (обретение пользы и удовлетворения, теории игры, заговора и медиазависимости, выстраивания приоритетов, спираль молчания). Значительный вклад в развитие теории «активной аудитории» внес Р. Барт, обосновывая идею «читательных и писательных текстов». Понятие «текст» он рассматривал с точки зрения его открытого, деятельностного характера. В нем реализуется множественность кодов и смыслов, свободная игра читателя и автора, произвольное членение текста на фрагменты [Барт, 1989]. В целом теории «активной аудитории» утверждают, что на первом месте стоит понимание, а затем оно порождает внимание и, следовательно, связанные с ним эффекты, которые могут присутствовать или отсутствовать впоследствии.
Таким образом, за отправную точку принимается то, что поведение людей по отношению к информации, передаваемой через СМИ, мотивированное и целенаправленное, т. е. люди выбирают ту информацию, в которой они заинтересованы согласно своим мотивам и потребностям. Поэтому представляется, что данная теория может быть использована для рассмотрения моделей поведения аудитории в он-лайн среде, объяснения причин и последствий активности, а также прогнозирования условий и типов взаимоотношений «автор – текст – аудитория / потребитель» 5.
В условиях того, что человечество все больше становится зараженным медиавирусом, а появление экранного медиатекста меняет культуру потребления СМК, необходимо понять, что же является фактором действенности компьютерной коммуникации и каким образом аудитория проявляет свою активность при включении в нее. Если воспользоваться классической схемой анализа процесса коммуникации, последовательно отвечая на вопросы: кто, что, как, почему, зачем, с каким результатом? – можно построить условную схему «инструментального действия» потребителя медиатекста.
Кто? Попытки дать социологическую характеристику интернет-аудитории только начинаются. Если синтезировать различные подходы к ее описанию, то получается следующий портрет. Аудиторию рунета составляют люди, сформировавшиеся профессионально и личностно в эпоху перемен. «Люди-XXI», соприкоснувшиеся и принявшие электронный контент как инновацию (их можно назвать «ранними последователями») – это «не авангард и не элита», «не средний и не срединный класс»; не (совсем) поколение; пользователи инновационных практик [Оберемко, 2008]. Таким образом, объединяющей характеристикой этих индивидов становится возможность и способ- ность (независимо от их социально-экономического статуса и мировоззрения) активно использовать инновационные практики индивидуального потребления. Выделяя 17 таких практик, исследователи указывают, что они делают более доступным и эффективным (а) перемещение вещей, знаний и себя, (б) управление пространством и временем, (в) заботу о себе [Оберемко, 2008].
Что? Читатель получил возможность не просто выборочно подходить к потреблению медиатекстов, он отбирает значимые события применительно к своей биографии. Критерии качества информации заключаются в оперативности, убежденности в достоверности информации, которую можно получить опытным путем, релевантности потребностям. Соответственно понятие газетного или эфирного «дедлайн» (от англ. deadline – крайний срок, к которому должна быть выполнена задача) носит условный характер, взамен предлагаются разнообразные грифы «сегодня».
Как? Пользователь интернет-СМК потребляет больший объем информации, чем традиционный читатель, за счет гипертекстовой структуры материалов; имеет возможность самостоятельной интерпретации фактов благодаря более широкому контексту рассматриваемых событий; аудио- и видеоконтент просматриваются по типу «отложенного чтения», или эфира в записи. Однако это чтение носит поверхностный, фрагментарный, непоследовательный характер, отличается меньшим вниманием к содержанию по сравнению с читателем бумажных версий СМК.
Основываясь на типологии У. Эко, который выделяет «книги для чтения» и «книги-справочники» и проводит различие между типами поведения их читателей [1998. С. 12], определим, что спорадическое чтение весьма характерно для интернет-ком-муникации, что и побудило назвать интернет-аудиторию «легким читателем». Такое чтение может иметь несколько разных вариаций:
-
• горизонтальное , когда потребитель в произвольном порядке переходит в рамках одной мультимедиа истории от фотослайдов к аудиозаписи, далее к видеоподкасту и от него к тестам разного содержания (например, мультимедиа-история «Хромая лошадь» о пожаре в ночном клубе в Перми насчитывает 14 блоков);
-
• многоуровневое , предполагающее передвижение читателя по экстра- и интрагиперссылкам;
-
• длинное, основанное на том, что страница с обновляемым контентом может быть сколь угодно длинной (поэтому, например, международная аналитическая компания «Nielsen» перестала замерять количество просмотров страниц);
-
• авторское (творческое), ориентированное на соучастие в создании текста.
Почему? Многие исследователи объясняют медиатизацию общества через идею потребления. Согласно представлениям Ж. Бодрияра на этот счет, тяготение к потреблению объясняется стремлением обрести похожесть на других (цит. по: [Ильин, 2000. С. 79]). И. Кондаков, основываясь на идеи Маклюэна о том, что современные СМК представляют собой продолжение человеческого тела и его желаний, рассматривает существующие формы Э-культуры как ее «электронный протез» 6. Если привести эти рассуждения к общему знаменателю, можно сделать вывод, что обращение к он-лайн СМК вызвано, с одной стороны, внешними стимулами (от лат. stimulus – у древних римлян – заостренная палка, с помощью которой погоняли скот), а с другой – определенной мотивацией (от лат. «movere» – побуждение к действию, имеющее под собой интеллектуальную подоснову, способность человека через труд удовлетворять свои потребности). Через выделение мотивов обращения к Э-тексту можно охарактеризовать активное начало в поведении читателя / пользователя.
Зачем? Выделим лишь несколько основных мотиваций: обретение славы, самовыражение, влияние на действительность. Как замечает З. Бауман, «на сей день утрачена былая сбалансированность между общественным и частным… частное вторглось на территорию общественного, но отнюдь не для того, чтобы взаимодействовать с ним» [Бауман, 2005. С. 257]. Слава, всегда достававшаяся человеку в результате напряженного труда, сменяется теперь известностью, которую можно обрести присутствием в ин-тернет-среде посредством блогов, комментариев к статьям. Слава имеет отныне количественное измерение, которое выражается в рейтинге журналиста, блогера, пользователя, количестве кликов уникальных посетителей.
С другой стороны, творчество – это смыслосозидание, процесс которого можно рассматривать как погоню за ускользающим смыслом жизни 7. Транзактность «активной аудитории» проявляется в том, что происходит смена ролей. Читатель / пользователь становится автором, производителем контента. Стремительное развитие блогосферы и социальных сетей свидетельствует о том, что творческое отношение к миру востребовано и позволяет пользователю обретать в виртуальном пространстве новые социальные статусы.
И, наконец, рациональная сторона коммуникационной деятельности в Э-культуре проявляется в том, что читатель / пользователь стремится оказать влияние на социальную действительность. Это выражается в электронных (письменных и видео-) обращениях граждан к представителям власти, где посредником выступает сайт газеты или файловый обменник (например, YouTube), непосредственное участие в дискуссиях граждан и должностных лиц в интернет-форумах, развитии интернет-ресурсов по гражданскому контролю и общественным расследованиям (наглядным примером является сайт «Так-так-так…» – правозащитная социальная сеть как место встречи граждан, журналистов и правозащитников) 8.
С каким результатом? Промежуточными итогами развития Э-культуры и потребления Э-текстов является то, что Интернет вернул людей к чтению. Однако обращение к СМК становится все более персонифицированным и фрагментарным. Производителями медиаконтента проводится более четкая разница между нужной-полезной-инте-ресной информацией для читателя / пользо- вателя. Запросы будущего потребителя медиаконтента, которые прогнозируются в многочисленных исследованиях, – быть всегда он-лайн, чувствовать мир через цифровые технологии, получать «отфильтрованную информацию», пользоваться масс-медиа по принципу «все включено» 9.
Таким образом, действенность Э-текста определяется: свойствами автора и особенностями получателя; отношениями, складывающимися между ними; способами конструирования события в медиасреде. Э-текст приобретает широкое значение и становится «подвижным», интерактивным. Экранная культура – это «не окно в мир, а дисплей информационного терминала, расширяющий возможности человеческой активности» [Лукина, 2009. С. 73]. Поэтому принципиально важным становится изучение изменений медиапотребления, трансформации моделей поведения пользователей.
Не претендуя на системный и глубокий анализ моделей поведения субъектов экранной коммуникации, подчеркнем, что дальнейшие исследования должны строиться с учетом выявления и рассмотрения «парадоксов Интернета». Речь идет о «цифровом расколе» мира, усугублении проблем «общества потребления» за счет развития бесплатного контента в среде Интернет, усилении роли неконтролируемых человеком сил и тенденций, нарастание неуверенности и неопределенности. Не исключено, что нас ждет пессимистический сценарий развития Интернета, поэтому гипотеза будущих исследований может звучать следующим образом: эффект от обладания сознанием Э-культуры плодотворен лишь тогда, когда свобода нелинейности является усилением возможностей человека, а не его ослаблением.
SPECIAL FEATURES OF MEDIATEXT IN THE CONTEXT OF «SCREEN CULTURE» DEVELOPMENT