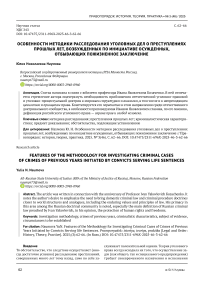Особенности методики расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет, возбужденных по инициативе осужденных, отбывающих пожизненное заключение
Автор: Наумова Ю.Н.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья написана в связи с юбилеем профессора Ивана Яковлевича Козаченко. В ней отмечается стремление автора подчеркнуть необходимость приближения отечественной уголовно-правовой и уголовно-процессуальной доктрин к мировым структурам и аналогам, в том числе и к непреходящим ценностям и принципам права. Констатируется его первенство в этом направлении среди отечественного доктринального сообщества, в особенности проповедуемая Иваном Яковлевичем главная, по его мнению, дефиниция российского уголовного права — охрана прав и свобод человека.
Методика расследования; преступления прошлых лет; криминалистическая характеристика; предмет доказывания; обстоятельства, подлежащие установлению
Короткий адрес: https://sciup.org/14134015
IDR: 14134015 | УДК: 343 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-62-66
Текст научной статьи Особенности методики расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет, возбужденных по инициативе осужденных, отбывающих пожизненное заключение
То обстоятельство, что следствие осуществляет (иногда достаточно успешно) расследование преступлений, совершенных много лет тому назад, само по себе за- служивает положительной оценки. Теория уголовного права всегда исходила их того, что осуществление задач (как общего, так и специального предупреждения) требует своевременного назначения и исполнения наказания. Что запоздалое привлечение к уголовной ответственности и запоздалое приведение приговора в исполнение не оказывает должного общепредупредительного воздействия и потому является нецелесообразными. Виновный к этому времени может исправиться, перестанет быть общественно опасным и потому уже не нуждается в воздействии наказания. По истечении длительного времени после совершения преступления возникают подчас и непреодолимые трудности доказательственно-процессуального характера (утрачиваются вещественные следы преступления, забываются свидетелями существенные обстоятельства дела и т. д.), создающие препятствия для успешного расследования и судебного рассмотрения дела [1, с. 657].
Материалы и методы
Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, учебники по уголовному праву, уголовному процессу и криминалистики, специальная литература по проблемам исследования. Основу исследования составили положения диалектического метода познания явлений, предполагающие их изучение в постоянном развитии и взаимообусловленности, а также общепризнанные (сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция) и частно-научные методы (формально-логический, системно-структурный).
Описание исследования
Несмотря на указанные негативные последствия «запоздалого» привлечения к уголовной ответственности и такого же расследования преступлений прошлых лет, свидетельство того, что такое расследование возможно. Есть признание в доктрине развития криминалистики как науки о расследовании преступлений и совершенствовании ее методов (способов), расследования и преступлений «прошлых лет». Обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т. д.), а также личность преступника и потерпевшего наполняются конкретным содержанием в зависимости от их индивидуализации применительно к признакам совершенного преступления. В первую очередь, это связано с использованием достижений научно-технического прогресса, в том числе, например, генетики, искусственного интеллекта и цифровизации. Так, в 2006 г. обвинительным приговором завершились известные из отечественных СМИ уголовные дела, совершенные в 1999 г.1 Тем не менее по многим таким делам вопросы об их доказательственной базе имеют «место быть» т. е. возникают (по крайней мере, со стороны защиты в судебном процессе) и автор данной статьи пытается обратить на это внимание. Это относится, например, к анализу практики расследования уголовных дел, во-первых, как отмечается в названии статьи, возбужденных по инициативе осужденных, отбывающих пожизнен- ное заключение, и, во-вторых, в особенности в случаях, когда соответствующие давностные сроки привлечения осужденных к уголовной ответственности близки к их истечению.
При этом существует несколько аспектов установления ряда существенных особенностей расследования указанных преступлений:
– установление обстоятельств, подлежащих установлению (в соответствии со ст. 73 УПК РФ);
– криминалистической характеристики совершенного преступления;
– специфики косвенных доказательств при расследовании соответствующих преступлений;
– проблеме ведомственной судебной экспертизы как источнике доказательств в уголовном процессе.
Начнем с конкретизации первого названного обстоятельства и его значения для уточнения специфики исследования. В первую очередь, для этого имеет значение конкретизация в ч. 1 ст. 73 УПК РФ понятия «события» преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Остановимся на определении времени и места совершения преступления. Предположим, что обвинение сочло доказанным, что именно обвиняемый, как уже указывалось, например, в 1999 г., совершил инкриминируемое ему в 2021 г. убийство (осужден в мае 2025 г.). Но как быть с тем, если в 90-е гг. уже прошлого века в обвинительном заключении была едва ли не «ритуально-обязательной» такая формулировка в отношении «расшифровки» времени — «в неустановленное время», а в отношении места — «в неустановленном месте» (что едва ли не дословно переходило (по сути дела, «штамповалось!») в обвинительный приговор? И возможен ли здесь какой-либо выход из создавшейся ситуации? Не только возможен, но и обязателен для следствия и суда. Необходимо, чтобы суд проверил обоснованность требований защиты об обязательной проверке установления конкретного времени и места инкриминируемого убийства. Воздержимся от комментариев установления других , указанных в ст. 73 УПК РФ обстоятельств и добавим к ним лишь конкретизацию п. 6 (этой же статьи УПК РФ) — обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Что касается последних — их, как показывает практика, вполне хватает (едва ли не с избытком). А вот в отношении смягчающих — явный недобор. Например, по тому же ранее приведенному уголовному делу (по которому обвинение было предъявлено в 1999 г., а обвиняемый осужден через 16 лет), обвиняемый был осужден к 22 годам колонии строгого режима2. Признанием каких-то решающих для наказания смягчающих обстоятельств здесь и «не пахнет», а вот привычным для обвинения «обвинительном уклоном», так и «разит». И для предотвращения повторения этого, конечно же, разумеется, необходимо прислушиваться к доводам защиты (а Верховному
Суду РФ конкретизировать такую позицию в своем известном постановлении 1).
Далее — в отношении криминалистической характеристики преступления прошлых лет, возбужденного по инициативе осужденного, отбывающего пожизненное заключение. Как известно, понятие самой криминалистической характеристики является дискуссионным. «В литературе насчитывается пять вариантов подходов к определению этого понятия — от отрицания его криминалистического значения до чрезмерного его расширения» [2, с. 100–105]. Основной причиной дискуссии по данной проблеме является, на наш взгляд, различное понимание соотношения уголовно-правовой, уголовнопроцессуальной (предмет доказывания) и криминалистической характеристик преступления. Чаще всего эти аспекты (варианты) характеристик преступления (как такового) пытаются «развести» по «отраслевым квартирам», уповая на их (характеристики) автономность. По нашему же мнению, криминалистическая характеристика, как система данных о криминалистически значимых признаках преступлений конкретного вида или группы, отражающих закономерные связи между этими признаками и служащих построению типовых версий, которые берутся за основу при планировании расследования преступлений данного вида или группы [3, с. 30], не может не учитывать как уголовно-правовую, так и уголовно-процессуальную характеристику. Более того, некоторые ее (криминалистической характеристики) элементы должны включать в себя компоненты названных характеристик. Наиболее значимые в криминалистическом отношении особенности преступлений определенных видов — это своего рода «каркас» единой характеристики преступления определенного вида, своего рода общая схема, которая конкретизируется уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными особенностями и лишь в сплаве с ними эта характеристика становится по-настоящему криминалистической.
Попытаемся увязать связь указанной криминалистической характеристики с предметом доказывания по делам данной категории. По крайней мере, речь может идти о такой совместности применительно к пунктам 1–4 ст. 73 УПК РФ. Так, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), а также характер и размер вреда, причиненного преступлением, вполне координируются с первыми четырьмя из указанных элементов (компонентов) криминалистической характеристики рассматриваемого преступления (их, в свою очередь, объединяет характеристика объективной стороны, данная в диспозиции статьи, криминализирующей соответствующее преступление). Виновность же лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы, а также обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, согласуются (опять-таки, через уголовный закон) с личностью преступника как компонентом криминалистической характеристики [4, с. 471].
О специфике оценки доказательств (обычно как косвенных ) при расследовании указанных преступлений . Как известно, теория уголовного процесса подразделяет доказательства на прямые и косвенные. Однако единого определения их значения в доктрине не существует, что на практике применение, например, косвенных доказательств по уголовным делам вызывает определенные трудности у органов следствия и суда. Например, по мнению М. С. Строговича, «Доказательства делятся на прямые и косвенные в зависимости от того, устанавливает ли доказательство главный факт — совершение обвиняемым инкриминируемого ему преступления, — или доказательственный факт… Прямое доказательство устанавливает главный факт… Косвенное доказательство устанавливает не главный факт, а доказательственный факт, который, в свою очередь, является доказательством главного факта… Значит, разница между прямым и косвенным доказательством состоит в том, что именно какой факт устанавливается этим доказательством и как он относится к главному факту. Каждое косвенное доказательство является прямым по отношению к тому факту, который оно непосредственно устанавливает, и отличие его от прямого доказательства заключается именно в том, что этот факт, устанавливаемый косвенным доказательством, не есть главный факт (т. е. совершение обвиняемым преступления), а есть факт доказательственный, побочный, через который устанавливается главный факт» [5, с. 376–377].
Разумеется, что в случае, когда сторона защиты будет оспаривать доказанность совершения именно уже осужденным инкриминируемого убийства, суд обязан не только проверить но и привести конкретные доказательства такой позиции обвинения, учитывая, что принимаемое во внимание специфическое значение, взятое за основу источника (доказательства), вытекает из его особенности как косвенного доказательства.
Наконец, о проблемах ведомственной судебной экспертизы как источника доказательств в уголовном процессе. Азбучной истиной является утверждение, что при расследовании преступлений должны широко применяться специальные знания. Основной же формой их использования в уголовном судопроизводстве является назначение и производство судебных экспертиз, что регулируется многими нормативными актами, в первую очередь, Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее — УПК РФ) и Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Необходимость в такой деятельности возникает тогда, когда при доказывании по конкретному уголовному делу требуются специальные знания в области науки, техники, искусстве или ремесла. В Российской Федерации специализированные учреждения, где проводятся судебные экспертизы, сосредоточены в различных ведомствах — МВД, СК, ФСБ, Минюсте, Минздраве, Минобороны России и некоторых других ведомствах. Создание таких ведомственных научных центров можно только приветствовать. Разумеется, что их деятельность способствует как качественному, так и своевременному расследованию преступлений. Впечатляет в этом плане развитие таковых в СК России. В нем еще в 2017 г. было создано Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) и в 2020 г. Судебно-экспертный центр. В последнем (насчитывающим примерно 650 сотрудников) проводятся 18 видов экспертиз 1. И ведомственная принадлежность соответствующих экспертных учреждений в целом направлена на достижение основных принципов уголовного судопроизводства, предполагающих защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). Это — очевидные плюсы ведомственных экспертиз. Однако не всё так благостно выглядит при признании их судом доказательствами по уголовному делу. Почему?
Во-первых, это может быть связано с обнаружением отсутствия у эксперта самых необходимых профессиональных качеств — компетентности и беспристрастности . Остановимся на первом из них на примере, ставшим известным из СМИ, — материалов дела о так называемом «пьяном мальчике». 23 апреля 2017 г. в подмосковной Балашихе во дворе собственного дома под колесами автомобиля погиб 6-летний А. Ш. Свидетели утверждали, что находившаяся за рулем А. ехала по двору со скоростью около 50 км. в час и разговаривала по телефону. Сама водитель свою вину категорически отрицала. Родители погибшего мальчика обнародовали данные экспертизы, согласно которым мальчик был пьян, а в его крови было зафиксировано содержание этанола в количестве 2,7 промилле. Через некоторое время были назначены новые экспертизы, показавшие, что мальчик в момент гибели был трезв. Эксперт же К. (ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»), определивший наличие алкоголя в крови погибшего, по мнению следствия, произвел изъятие образца крови ненадлежащим образом, что привело к его (образцу крови) загрязнению спиртообразующей микрофлорой и спиртовому брожению. «Эксперт должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было», говорилось в сообщении, опубликованном на официальном сайте СК России 2.
Теперь о другом, (не менее) важном, качестве эксперта — о его независимости. В соответствии со ст. 7 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» при производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа и лица, назначивших судебную экспертизу сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Сошлемся, например, на дело о смерти М. Марцинкевича в интерпретации осуществившей собственное журналистское расследование члена Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы, члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, обозревателя газеты «Московский комсомолец» Меркачевой Е. М.
Марцинкевич М. (криминальное прозвище Тесак) — русский националист, бывший скинхед, видеоблогер. Трижды осуждался за экстремизм. 16 сентября 2020 г. был найден мертвым в тюремной камере челябинского СИЗО. По официальной версии следствия совершил самоубийство. Однако адвокаты и родственники не поверили этому, сославшись на то, что на его теле были видны следы пыток. Это было зафиксировано на фото тела умершего (неизвестно, как оказавшемся в Сети) 3.
Во всех этих и других случаях вопрос о необходимости производства независимой судебной экспертизы для доказательства обвинения в уголовном судопроизводстве и наличие при этом нравственных аспектов проблемы четко высвечивается. Известно, что в соответствии с уголовно-процессуальным законом процесс у нас состязательный. Согласно ст. 15 УПК РФ «функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо», а «суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты». Но получается, что при расследовании преступления следствие в качестве доказательства (одного из самых основных) по делу использует заключение экспертизы, осуществляемой «своим» ведомством (СК РФ, МВД РФ, ФСБ и другими). И результаты этой же экспертизы кладутся в основу обвинительного приговора. Очевидно, что в «пирамиде» состязательности уголовного процесса нарушается один из основных принципов — независимости суда от позиции обвинения. Например, когда защита оспаривает достоверность соответствующей экспертизы по делу. По этому поводу стоит вспомнить определенный опыт, накопленный в этом отношении в Советском Союзе. В те времена в системе Министерства юстиции СССР (а также Министерства здравоохранения и некоторых других ведомствах) выполнялись экспертизы по заданиям органов дознания, следствия, прокуратуры и судов в связи с расследованием и рассмотрением уголовных и гражданских дел. Точно также обстояло дело и в союзных республиках. Это были НИИ, лаборатории, бюро (например, лаборатории судебных экспертиз — НИЛСЭ), позволяющие осуществить и состязательность уголовного процесса, и независимость соответствующих судебных экспертиз от ведомственных «предпочтений». Не стоит ли вспомнить о таком опыте? Тем более, что и в настоящее время судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ производят судебные экспертизы по уголовным и гражданским делам как судов общей юрисдикции, так и для арбитражных судов. Так что вопрос о том, где проводить такие экспертизы, сложности не представляет. Другое дело (думается, более трудное) заключается в том, как воспримут соответствующие ведомства, осуществляющие «свою» экспертизу, определенную при этом потерю своего влияния на вынесение обвинительного приговора в уголовном судопроизводстве? Думается, что дело не только (и не столько) в изменении действующего законодательства, сколько в его толковании Верховным Судом и Конституционным Судом Российской Федерации (т. е. хотя бы вначале можно обойтись и без каких-либо поправок в УПК РФ) [6, с. 94, 98, 99].
Заключение и вывод
При решении задачи, обозначенной в названии статьи, необходимо принимать во внимание главное из творческого наследия И. Я. Козаченко — его обращение к непреходящим ценностям и принципам права , зафиксированным в международном праве, к охране прав и свобод личности.