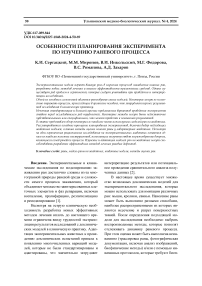Особенности планирования эксперимента по изучению раневого процесса
Автор: К.И. Сергацкий, М.М. Миронов, В.И. Никольский, М.Г. Федорова, В.С. Романова, А.Д. Захаров
Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Экспериментальные модели играют важную роль в изучении процессов заживления кожных ран, разработке новых методов лечения и анализе эффективности применяемых средств. Однако существует ряд проблем и ограничений, которые следует учитывать при проведении и интерпретации исследований. Одной из основных сложностей является разнообразие самих моделей. Некоторые могут не полностью отражать процессы, происходящие в организме человека, что затрудняет перенос результатов исследований в клиническую практику. Нечеткая стандартизация и большой арсенал предлагаемых вариантов проведения эксперимен-та ставит перед исследователем ряд трудностей. Некоторые методы могут быть недостаточно чувствительными или специфичными, что может привести к искажению результатов. В статье представлен обзор некоторых из наиболее часто используемых моделей ран на животных. Рассматриваются основные принципы планирования экспериментов, включая выбор подходящих животных моделей, а также методы оценки кожной раны у лабораторных животных. Несмотря на свои ограничения рациональные исследования на экспериментальных животных остаются одним из наиболее полезных инструментов, помогающих получить ответ на разнооб-разные вопросы, касающиеся основ раневого процесса. Изучение и адаптация моделей ран на животных могут способствовать разработке эффективных методов лечения раневых дефектов.
Раны, модель раны на животных, животные модели, методы оценки ран
Короткий адрес: https://sciup.org/14132319
IDR: 14132319 | DOI: 10.34014/2227-1848-2024-4-50-69
Текст научной статьи Особенности планирования эксперимента по изучению раневого процесса
Введение. Экспериментальные и клинические исследования по моделированию заживления ран достаточно сложны из-за многогранной природы раневой среды и сложности самого процесса заживления, который объединяет множество заинтересованных клеточных элементов и фаз репарации, включая воспаление, пролиферацию, реэпителизацию и ремоделирование [1].
Несмотря на острую клиническую необходимость разработка новых эффективных методов лечения вплоть до настоящего времени ограничена ввиду трудностей экстраполяции результатов исследований с доклинических моделей в клиническую практику. Адаптация экспериментальных животных к проведению доклинических испытаний привела к появлению многочисленных вариаций моделей, которые не были стандартизированы и адаптированы, что значительно затрудняет интерпретацию результатов или потенциальное проведение сравнительного анализа полученных данных [2].
В настоящее время существует множество возможных доклинических моделей для экспериментального исследования, которые можно использовать для имитации различных ран: мыши, кролики, свиньи. Нанесение раны может быть выполнено разными способами, наиболее распространенными из которых являются иссечение и разрез поверхностных тканей. После определения подходящей модели для исследования необходимо выбрать воспроизводимые методы, которые позволят отслеживать динамику раневого процесса. При этом оценка может быть выполнена неинвазивно (трассировка раны, фотографическая документация, включая анализ изображений, биофизические методы) и/или с помощью инвазивных протоколов, которые требуют биоп- сии раны с последующим морфологическим исследованием [1, 3, 4].
Выбор экспериментальной модели. Во время изучения процесса заживления ран исследователи должны учитывать несколько вопросов, связанных с дизайном, включая цели эксперимента, тип воспроизводимой раны, характеристики образца и его доступность, затраты, временные рамки и доступность средств для оценки результатов исследования. Отметим, что комбинация нескольких методов оценки ран может повысить надежность и валидность получаемых результатов и обеспечить дальнейшее понимание механизмов, участвующих в восстановлении тканей [1, 5, 6].
Успешность изучения любого физиологического процесса в первую очередь зависит от выбранной модели. Так, в доступной литературе описано несколько моделей для оценки заживления ран, использование которых позволяет проводить масштабные исследования в этой области, что значительно обогащает знания о механизмах заживления как острых, так и хронических кожных ран [6].
Экспериментальные модели по заживлению ран разрабатывались на протяжении многих десятилетий. Такие модели обычно делятся на две группы: модели in vitro и in vivo (модели на животных, доклинические). Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками. Исследования in vitro хотя и важны, но не могут полностью охватить всю сложность состояния хронической раны. Модели на животных необходимы для доклинических испытаний, а именно для апробации методов лечения [7].
Модели in vivo включают нанесение раны лабораторному животному и наблюдение за процессами заживления в течение определенного времени. При этом в эксперименте также могут быть использованы физические, химические или биологические модификации раневой среды [8, 9].
Необходимо помнить, что в целях соблюдения норм этического и гуманного обращения с животными и обеспечения их благополучия исследования с использованием лабораторных животных должны соответствовать трем принципам: 1) замена – использование неразумных животных или предпочтительное применение каких-либо материалов вместо животных; 2) сокращение – максимальное сокращение количества животных, используемых в эксперименте или процедуре; 3) уточнение – использование методов для уменьшения частоты или степени выраженности боли и стресса у используемых лабораторных животных [1, 10]. Экспериментальные исследования, проводимые на территории России, должны соответствовать Правилам гуманного обращения с лабораторными животными, методическим указаниям Минздрава России «Деонтология медико-биологического эксперимента» (1987), приказам Минздрава СССР от 11.10.1983 и Министерства здравоохранения Российской Федерации № 267 от 19.06.2003, ГОСТ 33044-2014. Принципы надлежащей лабораторной практики. За рубежом регламентирующими документами являются Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (1986), международные правила Guide for the сare and use of laboratory animals (1996), а также Хельсинкская декларация (1975).
Модели in vivo по-прежнему представляют собой золотой стандарт в исследовании физиологических и патологических процессов на доклинических этапах разработки лекарств и новых продуктов тканевой инженерии. Они обеспечивают анализ процессов в организме в целом и, следовательно, всех возможных факторов, а также их влияния на ожидаемый результат [10, 11].
Животные модели. Различные аспекты заживления ран можно исследовать в хорошо воспроизводимой и контролируемой среде с использованием моделей на животных. Хотя заживление ран у животных не может быть прямым и истинным отражением аналогичного процесса у человека [12], эти модели необходимы для проведения фундаментальных исследований и апробации разработок.
Выбранная модель должна учитывать такие характеристики, как точная воспроизводимость раневого поражения, возможность проведения множественных исследований, возможность получения нескольких образцов биопсии, совместимость проведения эксперимента с условиями пребывания животных, простота обращения и время, необходимое для получения результатов.
Свиньи являются стандартной моделью для исследования заживления ран из-за значительного сходства их поверхностных тканей с человеческой кожей. Ключевые сходства включают толщину эпидермиса и дермы, время обновления эпидермиса (около 30 дней), структуру волосяных фолликулов, аналогичное содержание и гистоархитектонику дермального коллагена и эластина, кожный метаболизм, типы присутствующих иммунных клеток и биологический ответ на факторы роста. Возможно, самым главным преимуществом свиных моделей является то, что раны как у свиней, так и у людей заживают в основном за счет реэпителизации, а не сокращения [13].
Однако использование свиней в качестве экспериментальных моделей не лишено недостатков. Во-первых, содержание свиней и их закупка являются достаточно дорогими. Во-вторых, хотя кожа человека и кожа свиньи вполне сопоставимы по ряду аспектов, различия, безусловно, существуют. Кожа свиньи имеет более высокий pH, более выраженную подкожную жировую клетчатку и преимущественно апокринные потовые железы, причем наличие эккринных потовых желез ограничено только специализированными участками кожи. Более того, хотя микрососудистая анатомия людей и свиней одинакова, сосудистая сеть кожи, особенно дермы, богаче у человека [13].
В настоящее время наиболее широко используемыми экспериментальными животными являются крысы и мыши. Хотя существуют документально подтвержденные различия в структуре и физиологии кожи грызунов и человека, исследования, проведенные с их учетом, могут предоставить ценную фундаментальную информацию. Грызунов легко содержать, и для них доступно большое разнообразие специфических реагентов [9].
Особенности крыс как экспериментальных моделей in vivo. Кожа крысы, как и человека, состоит из эпидермиса и дермы. Однако она не полностью имитирует архитектуру кожи человека из-за своей уникальной морфологии. В свое время крыс классифицировали как животных с рыхлой кожей прежде всего из-за ее эластичности и отсутствия прочного сращения с подлежащими структурами [14].
Кожа грызунов уникальна наличием слоя panniculus carnosus (тонкий мышечный слой, который у людей встречается только в платизме шеи), вызывающего быстрое сокращение раны после травмы. Раны на коже человека заживают путем реэпителизации и образования грануляционной ткани. Это является важным различием, которое следует учитывать при оценке трансляционной значимости исследований на грызунах [15].
Считается, что для изучения заживления ран крысы более предпочтительны, чем мыши. Вместе с тем кожа мыши достаточно тонкая и содержит меньше слоев кератиноцитов по сравнению с кожей крысы; раны у мышей заживают примерно за 7 дней, у крыс - за 1214 дней. Размер раны должен быть пропорционален размеру животного, т.е. раны у мышей должны быть меньше, чем у крыс. Однако для экспериментов, требующих минимальных размеров кожного образца для анализа, мыши могут быть более подходящими. Когда же необходим больший размер выборки, лучшим выбором будет использование более крупных животных, таких как крысы или кролики, поскольку одному животному может быть нанесено несколько ран. Таким образом, при проведении исследования необходимо учитывать размер экспериментальных животных [1, 16].
Было предложено большое количество методов моделирования ран на грызунах. Раны в основном создают в бедренно-ягодичной области или в области спины [16]. Для предотвращения контракции и в целях изучения заживления раны посредством краевой эпителизации к окружающей рану коже грызуна фиксируют специальное кольцо или камеру. Для исключения микробной контаминации камеру закрывают крышечкой [17] или используют метод шинирования [18].
Таким образом, крысы являются оптимальным выбором для проведения экспериментов в связи с низкой стоимостью содержа- ния, простотой ухода, высоким исследовательским потенциалом (использование в разных областях и направлениях медицины благодаря сходству с организмом человека), а также по этическим соображениям.
Особенности моделирования раневого процесса. Процесс заживления кожных ран у человека и экспериментальных животных имеет общие фазы течения. Знание анатомофизиологических особенностей разных видов животных и человека позволяет исследователю не только грамотно создать модель раны, но и правильно интерпретировать полученные результаты [16].
Наиболее изученной моделью репаративной регенерации органа взрослого млекопитающего является кожная рана ввиду простоты ее воспроизведения, возможности полного контроля глубины, площади и достоверного визуального наблюдения за репарацией. В подавляющем большинстве исследовательских работ ученые изучают неизменно заживающую рубцом рану на спине у крыс [19].
Инцизионная (резанная) рана может быть полезной для исследований, касающихся апробации хирургических материалов, например изучения деградации различных нитей для наложения швов и их механических свойств путем оценки прочности на растяжение. Инцизионные раны могут быть классифицированы как первичные и вторичные и зашиваться могут либо сразу после нанесения, либо спустя некоторое время. При этом заживление раны первичным натяжением является превосходной моделью для биомеханического анализа его прочности и менее подходит для гистологической оценки заживления или оценки его биохимических аспектов. Модель заживления посредством вторичного натяжения может быть ценной для исследования рубцевания на поздних сроках (более 65 дней после нанесения травмы) [20].
Как правило, рану наносят в области спины параллельно средней линии тела с рассечением эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки до мышц. Модели резаных ран у животных создают скальпелем или остро заточенными ножницами. Значительно реже применяют электрокоагуляцию или лазерные энергетические приборы. При этом необходимо помнить, что использование электрокоагуляции может приводить к термическому разрушению тканей, которое отсутствует в ранах, созданных острыми инструментами (холодным ножом). В модели первичного заживления после выполнения разреза края раны соединяются швами, скобами, клипсами либо повязкой, при этом происходит их быстрое сращение сформированной грануляционной тканью и эпителием [21].
Эксцизионные (иссеченные) раны считаются похожими на острые клинические раны, требующие заживления вторичным натяжением (края кожи не сшиваются вместе). Раны формируются хирургическим удалением у животного всех слоев кожи (эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки) единым блоком. У грызунов и свиней эксцизионные раны удобнее создавать в области спины. Такая модель позволяет исследовать кровотечение, воспаление, образование грануляционной ткани, реэпителизацию, ангиогенез и ремоделирование. Площадь раны может регистрироваться (регулярно фотографироваться) в динамике, а скорость заживления рассчитывается на основе анализа полученного размера раны относительно ее исходной площади. Для получения раневых биоптатов в целях проведения гистологического анализа животных либо усыпляют (мышей и крыс), либо подвергают местной анестезии (модель раны уха кролика). Биоптаты обрабатывают и исследуют, оценивая эпителиальный разрыв (количественная оценка расстояния между краями эпителиальной раны), характеристики грануляционного ложа (рекрутируемые популяции клеток, неоангиогенез и изменения матрикса), организацию коллагена [1, 20].
Общая глубина эксцизионной раны может составлять от 100 мкм до 1500 мкм в зависимости от вида испытуемого животного и расположения раны на его теле. Для создания раны применяют различные инструменты: биопсийный трепан, хирургические ножницы, лазер, скальпель или дерматом. В ходе наблюдения и лечения иссеченной раны, в отличие от резанной, можно проводить биопсию, а также забор экссудата для последующих гистологических исследований. В настоящее время данная модель раны является наиболее часто применяемой [21, 22].
Моделирование кожных иссеченных ран обычно выполняют путем создания разрезов в краниокаудальном направлении по отношению к телу лабораторного животного. Иссеченные раны могут различаться по длине, быть закрытыми или открытыми в зависимости от задач, которые стоят перед исследователем [22, 23]. Перед нанесением раны кожу испытуемого животного готовят путем выбривания шерсти и обработки 70 % этиловым спиртом. Дальнейшая последовательность действий заключается во взятии зажимом кожной складки, одномоментном иссечении предварительно отмеренного участка ножницами с образованием поверхностной овальной раны с ровными краями, расположенной по оси симметрии тела [24].
При такой модели легко создается доступ к раневому ложу в целях нанесения средств для топической терапии (фармацевтических препаратов, культуры клеток, биоматериалов, раневых повязок) с возможностью изучения их влияния на процесс заживления.
Примечательно, что раны на некоторых классических моделях эксцизии, особенно на мышах, заживают за счет сокращения, на долю которого приходится большая часть процесса закрытия. Сужение раны является одним из наиболее существенных ограничений использования животных со свободной кожей для моделирования ран человека. Для решения этой проблемы существуют определенные подходы, которые включают целенаправленный выбор анатомических участков кожи лабораторных животных с прочно прикрепленной дермой и подкожной клетчаткой (например, ухо кролика) или выполнение механической фиксации кожи с помощью определенных устройств или шин. Метод наложения шин для подавления преждевременного сокращения кожи и повышения значимости экспериментальной модели для аналогичных повреждений у человека включает в себя создание двух полнослойных ран, проходящих через panniculus carnosus на спине мыши, с последующим размещением силиконовых шин по центру и фиксацией к коже нейлоновыми нитями. Шинирующее кольцо плотно прилегает к коже вокруг раны, предотвращая сужение. Таким образом создаются условия для заживления путем образования грануляционной ткани и реэпителизации, что аналогично раневому процессу у людей [18].
Модель шинированной раны во всю толщину кожи позволяет наносить местные средства непосредственно на раневое ложе и оценить заживление при системном фармакологическом лечении. Параллельно с другими моделями заживления ран данная методика также позволяет изучать раневые процессы при различных патологических состояниях, например при дисфункции почек, используя соответствующих трансгенных мышей. Кроме того, модель шинированной раны недавно была применена на крысах для изучения гипертрофического рубцевания и новых конструкций шин.
С момента первого описания методики было предложено несколько ее модификаций, включая использование нитиноловых материалов, пластиковых кольцеобразных шин, фиксированных клеем биологических мембран и наложение адгезивной повязки на рану для предотвращения стягивания без фиксации швом и для оценки общей продолжительности эпителизации раны, ремоделирования кожи и регенеративной эпителизации. Эта модель хирургически проста в выполнении и воспроизведении, а вероятность успешной реализации при сохранении шины достигает 80–100 %. При этом, поскольку на спине каждой мыши создаются две симметричные раны, одна может служить парным внутренним контролем. Критериями исключения модели в процессе эксперимента являются раневые инфекции, перелом и частичное или полное отделение шин от кожи [10].
Еще одним методом, направленным на предотвращение преждевременного заживления ран у лабораторных животных, является фиксация краев раны путем их подшивания к подлежащим тканям. Реализация данной методики позволяет предупредить преждевременное сокращение раны, что дает возможность «стандартизировать» площадь раневой поверхности независимо от индивидуальных особенностей процесса заживления у экспериментального животного, а также оценить воздействие изучаемого препарата [25].
Ожоговые раны – это не локальное патофизиологическое событие, а повреждение, вызывающее структурные и функциональные нарушения во многих системах органов, в связи с этим при моделировании ожоговой раны необходимо скрупулезно изучить не только сам раневой процесс, но и параллельно происходящие патофизиологические изменения организма лабораторных животных в целом. За последние два десятилетия был разработан ряд моделей ожогов на животных для изучения различных аспектов данных травм, а также анализа особенностей патофизиологии и поиска потенциальных методов лечения [26].
Широкое распространение получила модель с ожогом горячей водой, которая рассматривается некоторыми экспертами как стандартная для воспроизведения ожогов на животных. При этом ожоги, вызванные горячими жидкостями, являются наиболее распространенными среди детей и пожилых людей [27], что делает данные фундаментальных исследований весьма актуальными для интеграции в клиническую практику. В данной модели волдыри создаются путем воздействия на фиксированный участок кожи горячей водой. Кроме того, имеется методика, состоящая в непосредственном воздействии на кожу горячей металлической пластиной. В обеих моделях волдырь можно снять, обнажив дерму и оставив открытую рану. Модели ожоговых ран могут быть использованы для изучения реэпителизации, особенностей образования грануляционной ткани, ангиогенеза, сокращения, рубцевания и биохимических процессов в зависимости от глубины ожога [1].
C. Caliari-Oliveira и соавт. описали использование модели обширного и тяжелого ожога у крыс, сравнимого с ожогом третьей степени у человека, для оценки потенциала ксеногенных мезенхимальных стромальных клеток в качестве средства, ускоряющего процесс заживления. Обширные ожоговые раны, затрагивающие три слоя кожи, были созданы авторами легким давлением металлической пластины, нагретой до 200 °C, на область спины животного в течение 25 с. Оценку заживления ран выполняли с помощью цифровой фотофиксации в динамике эксперимента, гистопатологических анализов (оценка васкуляризации, грануляционной ткани, общих полиморфноядерных воспалительных клеток, коллагеновых волокон) и теста на миелопероксидазу [28].
Уртикарная модель – метод, который изначально был разработан для измерения концентрации наркотиков в различных участках и слоях кожи, но вскоре стал использоваться и при исследовании заживления ран. Волдырь (лат. urtica) образуется в результате разделения эпидермиса и дермы на базальной мембране между lamina lucida и lamina densa. После нанесения повреждения полость пузыря заполняется тканевой или интерстициальной жидкостью [29].
Уртикарная модель использовалась в течение некоторого времени для изучения различных компонентов заживления ран в клинических исследованиях: оценивалась трансэпидермальная потеря воды и определялась площадь раны. Такая модель имеет определенные преимущества перед неконтролируемыми ранами, поскольку повреждения хорошо стандартизированы и управляемы при широком спектре исследований заживления кожных ран [30].
Абразивная рана , в отличие от предыдущей, представляет собой более инвазивную модель, которая заключается в нанесении стандартизированных поверхностных ссадин путем многократного шлифования кожи хирургической щеткой до появления первых признаков точечного кровотечения. Поскольку эпидермальные клетки относительно слабо прикреплены друг к другу, с помощью этой процедуры происходит удаление почти всего эпидермиса, но при этом базальная мембрана остается интактной. Таким образом, абразивная модель позволяет получить глубину раны, сопоставимую с таковой в уртикарной модели. А поскольку базальная мембрана остается неповрежденной, такие раны заживают без образования рубцов [31].
Модели пролежней . Основной причиной пролежней является повторяющееся ишемиче-ски-реперфузионное повреждение, вызванное длительным механическим давлением, особенно в зоне костных выступов. Пролежни можно моделировать у животных с дряблой кожей, таких как крысы и мыши, путем хирургической имплантации металлической пластины под кожу с последующим периодическим сжатием кожи с помощью внешнего магнита [32].
Инфицированные (контаминированные/ гнойные) раны создаются из острых моделей после внесения на поверхность последней взвеси микроорганизмов (как одного вида, так и комбинации), биопленок или инородных тел. Попадание в рану нескольких микроорганизмов, особенно тех, которые формируют биопленки, приводит к их взаимодействию, что имитирует реальные условия в гнойной ране. Данная модель пригодна для применения как у здоровых животных, так и у животных с моделью диабетической раны [33, 34].
Существуют различные варианты моделей гнойных ран: поверхностные кожные раны и раневые дефекты в толще мягких тканей (модели абсцесса или флегмоны), острые инфицированные раны, а также с замедленным заживлением, в т.ч. осложненные ишемией тканей, гипергликемией или другими факторами. Способы контаминации раневых дефектов и разновидности вносимых возбудителей также могут отличаться, но в итоге должны приводить к одному результату – воссозданию локального воспаления тканей с формированием гнойного экссудата.
При моделировании длительно незаживающих дефектов мягких тканей важным элементом является создание нарушений локальной трофики и предотвращение естественной контракции краев раны. Это достигается различными способами: наложением жгутов, перевязкой питающих сосудов, наложением кисетных швов, а также подшиванием краев раны к различным контурам или фасциальному ложу. В связи с наличием у грызунов выраженного иммунитета для создания реальной модели гнойной раны часто приходится вызывать некроз дна и краев раны, например путем раздавливания тканей зажимом Кохера [35].
Таким образом, выбор подходящих видов животных играет ключевую роль в успешном создании моделей ран. Лабораторные крысы, мыши, кролики, а также свиньи широко используются в зависимости от задач, которые стоят перед исследователем. Моделирование кожных ран на экспериментальных животных диктует необходимость проведения всесторонних исследований. При этом экспериментально нанесенные раны могут быть различной природы, что открывает перед исследователем широкие возможности.
Методы оценки динамики раневого процесса. Прогрессирующие изменения в ранах в процессе заживления можно оценить несколькими методами, задачами каждого из которых является анализ конкретных параметров. Надлежащая оценка раны зависит от понимания патофизиологии заживления, факторов, замедляющих данный процесс, и оптимальных условий моделирования раневого ложа, необходимых для максимального заживления и достижения терапевтической эффективности исследуемых препаратов. Важными моментами являются тщательно спланированное проведение эксперимента, документирование процесса заживления самой раны и реакции окружающих тканей в динамике [30–35].
При исследовании заживления раны обычно определяют ее размер, характеристики раневого ложа, корреляцию данных показателей с показателями роста ткани, степенью рубцевания и другими сосудистыми и патофизиологическими нарушениями, которые могут вызвать патологические изменения процесса репарации.
Методы оценки раневого процесса могут быть как качественными, так и количественными.
Для клинической и экспериментальной оценки раневой реэпителизации ( in vivo и in vitro ) применяют индекс скорости заживления ран – wound healing rate (WHR) или индекс скорости заживления язв – ulcer healing rate (UHR), которые могут быть рассчитаны по формуле
WHR (UHR)=(Ai-Af)/Ai, где Ai – начальная площадь раны, Af – конечная. Полученные значения WHR (UHR)
принято выражать в произвольных единицах (обычно в диапазоне от -1,0 до 1,0) или в процентах заживления раневого дефекта (в этом случае результат из представленной выше формулы умножается на 100). При этом WHR (UHR), равный 1 или 100 %, означает полную реэпителизацию; WHR (UHR), равный 0, – отсутствие признаков реэпителиза-ции; WHR (UHR) больше 0, но меньше 1 или 100 % – уменьшение площади раневого дефекта, а WHR меньше 0 или больше 100 % – увеличение площади исходной раневой поверхности [26–29].
Трассировка ран представляет собой недорогой, доступный и общепринятый метод, используемый как в клинических, так и в экспериментальных условиях для измерения размера раны, а последовательные сравнения трассировок позволяют отслеживать прогрессирование заживления. Для реализации данного метода на раневую поверхность накладывается прозрачная пленка, периметр раны на пленке обводится перманентным маркером. Таким образом, на основании трассировки можно выполнить измерение площади раневой поверхности.
Планиметрию ран осуществляют по методу Л.Н. Поповой, которая предложила фиксировать площадь раны, процент уменьшения площади ран и скорость заживления раневого дефекта [24, 36–39].
При визуальной оценке ран в динамике эксперимента также фиксируют сроки исчезновения отека тканей вокруг раневого дефекта, момент наступления полного очищения раны, время начала образования грануляций и эпителизации.
Хотя метод трассировки относительно неинвазивен, при его использовании существует риск возникновения боли разной степени выраженности, загрязнения раны и повреждения раневого ложа.
В качестве альтернативы предлагается цифровая фотофиксация раневой поверхности с последующим расчетом площади раны с помощью программного обеспечения для обработки изображений [24, 30, 32].
Фотофиксация является ценным инструментом в медицинских исследованиях (особенно связанных с моделированием кожных ран), поскольку изображение может предоставить информацию, способствующую постановке диагноза, данные о морфологических изменениях и цветовых вариациях в процессе заживления раны как в клинических, так и в экспериментальных условиях. Метод неинвазивен и может помочь в документировании конкретного случая, в т.ч. при анализе динамики. Кроме того, цифровые фотографии могут передаваться электронным способом, что идеально подходит для дистанционного лечения ран и междисциплинарного анализа ситуации [1].
При съемке важно использовать камеру с высоким разрешением; количество пикселей (наименьшего логического элемента двумерного цифрового изображения в растровой графике) должно быть достаточно большим (чем больше пикселей, тем больше деталей). Более того, изображения с высоким разрешением позволяют четко идентифицировать рост эпителия по краям раны, повышая надежность результатов [1, 40].
Отметим также, что современные программы для мобильных устройств и персональных компьютеров, используемые для проведения планиметрических исследований, могут служить хорошей заменой традиционным методикам. Использование цифровых технологий позволяет сократить время измерения площади раневой поверхности и уменьшить контакт с раной, что снижает вероятность ее инфицирования [40].
При получении изображений необходимо соблюдать определенные требования. Так, для предотвращения неточности визуального восприятия необходимо стандартизировать расстояние, на котором расположена камера. Фотографии должны быть сделаны перпендикулярно поверхности раны, поскольку неперпендикулярные изображения могут значительно занижать/искажать реальную площадь. Освещение не должно фокусироваться непосредственно на ложе раны во избежание отражения. Использование вспышки камеры не рекомендуется, поскольку может вызвать появление бликов или теней на изображении. Штангенциркуль или линейка должны располагаться рядом с раной. Стандартизированный фотографический протокол позволяет выполнить последующий компьютерный анализ и количественную оценку площади раны: после фотографирования изображение может быть открыто с помощью программного обеспечения, которое преобразует количество пикселей в квадратные сантиметры, позволяя количественно оценить площадь раны [1].
Фотографии, полученные на разных сроках после операции, можно обрабатывать в программе Adobe Photoshop СС: обводить раневую поверхность по краю, измерять ее площадь, а также площадь околораневой зоны (путем соединения плавной линией нанесенных тушью меток внутренней окружности, которая находится на 5 мм медиальнее краев раны) [19].
Еще одним неинвазивным методом оценки заживления ран является биофизический анализ. К нему относят оптическую когерентную томографию (ОКТ), конфокальную лазерную сканирующую микроскопию (confocal laser scanning microscopy, CLSM) и диффузную спектроскопию ближнего инфракрасного диапазона (diffuse near-infrared spectroscop, DNIRS).
ОКТ – новая технология диагностики и мониторинга воспалительных дерматологических состояний, которая позволяет генерировать изображения кожной архитектуры с высоким разрешением в режиме реального времени.
N.S. Greaves и соавт. сравнили ОКТ с гистологической оценкой заживления ран in vivo , чтобы определить уровень валидности методики в отношении воспаления, пролиферации и ремоделирования. Результаты были сопоставимы, и авторы предположили, что ОКТ может являться диагностической альтернативой пункционной биопсии [36].
M.T. Tsai и соавт. использовали OКT для изучения заживления кожных ран после воздействия неабляционных и абляционных фракционных лазеров in vivo . Исследователи отсканировали обработанные участки кожи в разные моменты времени и разработали алгоритм для количественной оценки морфологических изменений на разной глубине ткани в процессе заживления [37].
E.C. Sattler с соавт. провели исследование, чтобы определить, можно ли использовать ОКТ для количественной оценки кинетики раневого процесса. Также авторы сравнили ОКТ и CLSM и пришли к выводу, что ОКТ позволяет визуализировать изменения кожи на большей глубине [38].
DNIRS – это современная технология, с помощью которой можно измерить уровень кислорода в крови в области раны. DNIRS предполагает применение модулированного света частотой 70 МГц в диагностическом окне (650–900 нм). Методика используется для количественной оценки концентрации окси- и дезоксигемоглобина в раневом ложе, изменение которой с течением времени может показывать тенденцию к заживлению или отсутствие таковой [1].
Гистопатологический анализ ран – это очень полезный инструмент для мониторинга прогресса заживления в ходе лечения, лучшего понимания патофизиологии незаживающих ран, оценки морфологических изменений и помощи в постановке диагноза. С клинической точки зрения лучшим местом для биопсии, необходимой для проведения данного анализа, является край раны, поскольку именно там имеется возможность сравнить измененный участок с окружающей недискредитированной кожей. В лабораторных условиях биопсия может охватывать всю рану, включая края. Сразу после сбора образцы ткани помещают в специальные растворы (например, 10 % формальдегид), чтобы сохранить их целостность и клеточную структуру. Далее образцы ткани проходят несколько этапов гистологической обработки. Гистопатологический анализ ран обычно включает количественное определение лейкоцитов (макрофагов, тучных клеток, лимфоцитов и нейтрофилов) для оценки выраженности фазы воспаления; кровеносных сосудов для оценки ангиогенеза; фибробластов и коллагена. Оценка коллагеновых волокон важна, поскольку их расположение и ориентация играют значимую роль на этапе ремоделирования и именно от них зависит окончательный вид рубца после полного заживления раны [22, 41–50].
Рутинно на всех моделях животных при воссоздании раневого процесса изучают объем сформированной полости, площадь раневой поверхности, микрофлору ран, морфологические изменения в ране на 7-е сут. Так, при гистологическом исследовании модели асептической раны было отмечено, что стенка капсулы представляет собой грануляционную ткань, содержащую большое количество тонкостенных полнокровных сосудов. Клеточный инфильтрат, окружающий рану, как правило, образован преимущественно нейтрофильными гранулоцитами с небольшой примесью лимфомакрофагального клеточного компонента, а также фибробластов. Некоторые исследователи отмечают также инфильтрацию окружающих рану тканей фибрином [42].
Иммунологические методы. В рамках сложного каскада биологических событий при заживлении ран важной является оценка взаимодействия клеток друг с другом и с внеклеточным матриксом. Одними из компонентов межклеточной коммуникации in vivo являются растворимые или мембраносвязанные факторы (цитокины и факторы роста), которые стимулируют эндогенные механизмы репарации, передавая сигналы клеткам и приводя к функциональному восстановлению поврежденных тканей. Эти сигнальные молекулы могут быть идентифицированы и количественно определены с помощью иммуногистохимического и иммуноферментного анализов [1].
Иммуноокрашивание (иммуногистохимия) раневой ткани применяется для идентификации молекулярных поверхностных маркеров, цитокинов и факторов роста, имеющих значение для прогноза прогрессирования или регрессирования заживления раны. Окрашивание может быть проведено с использованием либо криоконсервированных, либо пропитанных парафином срезов тканей. Иммуногистохимия включает в себя обнаружение связанного антитела, а также его связывание с представляющим интерес антигеном [51, 52].
Иммуноферментный анализ (ИФА) - распространенный лабораторный метод, используемый для измерения концентрации анализи- руемого вещества (обычно антител или антигенов) в растворе. ИФА позволяет количественно оценить важные компоненты заживления, такие как цитокины и факторы роста [1].
После забора биопсийного материала последний помещают в пробирку с буферной средой (ингибитором протеазы для ИФА), гомогенизируют и центрифугируют. Для анализов используют гомогенаты тканей или супернатанты клеточных культур.
К числу наиболее изучаемых цитокинов и факторов роста при исследовании заживления ран относят провоспалительные цитокины, такие как фактор некроза опухоли, интерлейкин-6, интерлейкин-1в, гамма-интерферон, противовоспалительные цитокины, такие как интерлейкин-10, эпидермальный фактор роста, фактор роста тромбоцитов, трансформирующий фактор роста-в1, фактор роста эндотелия сосудов и фактор роста фибробластов [53].
Биохимические методы также могут быть применимы для мониторинга прогрессирования заживления экспериментальных ран. С этой целью предложены изучение содержания гидроксипролина, N-ацетилглюкозаминидазы, миелопероксидазный анализ и оценка профиля окислительного стресса.
Анализ на гидроксипролин . Коллаген является основным белковым компонентом соединительной ткани и состоит в основном из глицина, пролина и гидроксипролина. Синтез коллагена требует гидроксилирования лизина и пролина, а также сопутствующих факторов, таких как двухвалентное железо и витамин С. При расщеплении коллагена высвобождаются свободный гидроксипролин и его пептиды. Следовательно, гидроксипролин может выступать в качестве биохимического маркера, отражающего содержание тканевого коллагена и индекс оборота коллагена. При этом увеличение концентрации гидроксипролина указывает на повышенный синтез коллагена, что соответствует ускоренному заживлению ран [54, 55].
Гидроксипролин может определяться в ткани (биоптатах) и в супернатантах клеточных культур. Измерение содержания гидроксипролина может быть выполнено колориметри- ческими и ферментативными методами, высокоэффективной жидкостной хроматографией, газовой хромато-масс-спектрометрией. Все упомянутые методы имеют в своем составе две общие стадии: гидролиз образца либо сильной кислотой, либо щелочью с выделением гидроксипролина и определение свободной аминокислоты колориметрическими и флуориметри-ческими методами [54, 55].
Миелопероксидазный анализ позволяет исследовать набор и накопление нейтрофилов в тканях и оценить воспалительную фазу заживления раны. Миелопероксидаза является членом суперсемейства пероксидаз-циклооксигеназ. Это протеолитический фермент, присутствующий в цитоплазматических гранулах полиморфноядерных нейтрофилов и участвующий во врожденных механизмах иммунной защиты [56].
Проточная цитометрия - еще один метод, который может предоставить информацию во время исследований, связанных с привлечением клеток в ответ на лечение при заживлении ран. Эта технология одновременно измеряет и анализирует множество физических характеристик отдельных частиц (как правило, клеток), когда они проходят в потоке жидкости через луч света. Относительный размер частицы, относительная зернистость или внутренняя сложность, а также относительная интенсивность флуоресценции определяются системой оптико-электронной связи, которая регистрирует, как клетка или частица рассеивает падающий лазерный луч и флуоресцирует [57].
Исследование заживления ран методом проточной цитометрии сосредоточено на эндотелиальных и иммунных клетках, которые особенно важны для восстановления капиллярной сети и защиты от раневого бактериального обсеменения. Наиболее часто исследуемыми маркерами человека являются эндотелиальные клетки-предшественники (CD133), эндотелиальные клетки (CD31, CD34 и VEGFR-2), макрофаги (CD68), Т-клетки (CD3, CD4, CD8) и В-клетки (CD20). Те же клетки могут быть изучены на животных моделях, но в зависимости от вида животных (мышь, крыса, кролик)
должны использоваться соответствующие антитела [58].
Таким образом, оценка процесса заживления раневой поверхности включает визуальные наблюдения за изменениями внешнего вида раны (скорость заживления, формирование рубцов и наличие признаков локального воспаления). Актуальными остаются и методы морфологической оценки тканей, включая гистологические и цитологические анализы, а также исследование биохимических маркеров для детального изучения изменений на клеточном уровне и в биохимических процессах. Все это помогает лучшему пониманию молекулярных механизмов, лежащих в основе процессов заживления, что в свою очередь способствует разработке методов лечения.
Выведение животных из эксперимента и контрольные точки исследований. Для гистологического исследования принято иссекать участок раны испытуемого животного вместе с окружающими тканями. Животных при этом принято гуманно выводить из эксперимента следующими методами: краниальной дислокацией под наркозом, передозировкой диэтилового эфира, наркотизацией (внутрибрюшинное введение хлоралгидрата) с последующим вскрытием правого желудочка сердца [19, 22, 25, 41, 43]. Исследуемые участки кожи лабораторного животного, включающие рану с зоной окружающих интактных тканей, фиксируют в буферном нейтральном растворе 10,0 % формалина, обезвоживают в спиртах возрастающей концентрации, пропитывают кислотой и заключают в парафин.
Многочисленные исследования позволили определить основные контрольные точки. Так, при выборе грызунов в качестве лабораторных моделей чаще придерживаются следующих сроков: 0-е сут - моделирование ран, проведение измерений и инструментальных исследований, а также применение методов лекарственного воздействия; 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 14-е сут - визуальный осмотр, взвешивание животных и оценка динамики размеров и состояния ран; 3-и, 7-е, 14-е, 20-е 30-е сут -дни вывода (в зависимости от задачи эксперимента), проведение инструментальных иссле- дований и подготовка ран для последующей морфометрии. При этом на протяжении всего эксперимента осуществляют оценку общего состояния лабораторных животных, анализ потребления корма и воды, поведения [19, 22, 41, 43].
Заключение. Эксперименты по изучению раневого процесса, осуществляемые на лабораторных животных, имеют большие перспективы в биомедицине. Однако некоторые выводы недавно были поставлены под сомнение, поскольку полученные результаты показали, что модель на грызунах не в полном объеме имитирует воспалительные реакции человека. При этом создание животной модели, в полной мере отражающей сложность и неоднородность хронических ран у человека, может оказаться недостижимой целью, поскольку процессы заживления у человека являются результатом взаимодействия многих факторов, как внутренних, так и внешних.
Отметим также, что ни одна животная модель не может быть применима для решения всех вопросов, касающихся заживления ран. Выбор должен зависеть от задачи, стоящей перед исследователем, и от предполагаемого результата эксперимента. Поэтому исследования на животных требуют глубокого понимания сильных и слабых сторон экспериментальной модели, а также патофизиологических механизмов воспроизводимой травмы.
Несмотря на свои ограничения рациональные исследования на экспериментальных животных остаются одним из наиболее полезных инструментов, помогающих получить ответ на разнообразные вопросы, касающиеся основ раневого процесса. Проведение исследований на животных моделях продолжает способствовать получению бесценной информации, которую можно экстраполировать на раневой процесс у человека.
Список литературы Особенности планирования эксперимента по изучению раневого процесса
- Masson-Meyers D.S, Andrade T.A.M., Caetano G.F., Guimaraes F.R., Leite M.N., Leite S.N., Fra-de M.A.C. Experimental models and methods for cutaneous wound healing assessment. Int J Exp Pathol. 2020; 101 (1-2): 21-37. DOI: 10.1111/iep.12346.
- Elliot S., Wikramanayake T.C., Jozic I., Tomic-Canic M. A Modeling Conundrum: Murine Models for Cutaneous Wound Healing. J Invest Dermatol. 2018; 138 (4): 736-740. DOI: 10.1016/j.jid.2017.12.001.
- Andrade T.A., Iyer A., Das P.K., Foss N.T., Garcia S.B., Coutinho-Netto J., Jordao Jr. A.A., Frade M.A.C. The inflammatory stimulus of a natural latex biomembrane improves healing in mice. Braz J Med Biol Res. 2011; 44: 1036-1047.
- Leite S.N., Leite M.N., Caetano G.F., Ovidio P.P., Jordao Junior A.A., Frade M.A. Phototherapy improves wound healing in rats subjected to high-fat diet. Lasers Med Sci. 2015; 30: 1481-1488.
- Masson-Meyers D.S., Bumah V.V., Enwemeka C.S. Blue light does not impair wound healing in vitro. J Photochem Photobiol B. 2016; 160: 53-60.
- Цибулевский А.Ю., Дубовая Т.К., Демьяненко И.А. Моделирование заживления ран кожи. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2020; 10 (4): 64-71. DOI: 10.37279/ 2224-6444-2020-10-4-64-71.
- Zindle J.K., Wolinsky E., Bogie K.M. A review of animal models from 2015 to 2020 for preclinical chronic wounds relevant to human health. J Tissue Viability. 2021; 30 (3): 291-300. DOI: 10.1016/j.jtv.2021.05.006.
- Stephens P., Caley M., Peake M. Alternatives for animal wound model systems In: Gourdie R.G., Myers T.A., eds. Wound Regeneration and Repair Methods and Protocols. New York, NY: Humana Press; 2013: 177-201.
- Nauta A.C., Gurtner G.C., Longaker M.T. Adult stem cells in small animal wound healing models. In: Gourdie R.G., Myers T.A., eds. Wound Regeneration and Repair Methods and Protocols. New York, NY: Humana Press; 2013: 81-98.
- Grambow E., Sorg H., Sorg C.G.G., Struder D. Experimental Models to Study Skin Wound Healing with a Focus on Angiogenesis. Med Sci (Basel). 2021; 9 (3): 55. DOI: 10.3390/medsci9030055.
- Егорихина М.Н., Алейник Д.Я., Рубцова Ю.П., Чарыкова И.Н., Стручков А.А., Ежевская А.А., За-греков В.И., Соснина Л.Н., Загайнова Е.В. Модель биомедицинского клеточного продукта для доклинических исследований на крупном лабораторном животном. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2020; 22 (1): 142-156.
- Zomer H.D., Trentin A.G. Skin wound healing in humans and mice: Challenges in translational research. J Dermatol Sci. 2018; 90 (1): 3-12. DOI: 10.1016/j.jdermsci.2017.12.009.
- Grada A., Mervis J., Falanga V. Research Techniques Made Simple: Animal Models of Wound Healing. J Invest Dermatol. 2018; 138 (10): 2095-2105.e1. DOI: 10.1016/j.jid.2018.08.005.
- Dorsett-Martin W.A. Rat models of skin wound healing: a review. Wound Repair Regen. 2004; 12 (6): 591-599. DOI: 10.1111/j.1067-1927.2004.12601.x.
- Dunn L., Prosser H.C., Tan J.T., Vanags L.Z., Ng M.K., Bursill C.A. Murine model of wound healing. J Vis Exp. 2013; 75: e50265. DOI: 10.3791/50265.
- Довнар Р.И. Нюансы выбора экспериментального животного для моделирования процесса заживления кожной раны. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2020; 18 (4): 429-435.
- Смотрин С.М., Довнар Р.И., Васильков А.Ю., Прокопчик Н.И., Иоскевич Н.Н. Влияние перевязочного материала, содержащего наночастицы золота или серебра, на заживление экспериментальной раны. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2012; 1 (37): 75-80.
- WangX., Ge J., Tredget E.E., Wu Y. The mouse excisional wound splinting model, including applications for stem cell transplantation. Nat Protoc. 2013; 8 (2): 302-329. DOI: 10.1038/nprot.2013.002.
- Кананыхина Е.Ю., Большакова Г.Б. Количественная характеристика полноты регенерации кожи при заживлении раны на спине и животе крыс. Клиническая и экспериментальная морфология. 2016; 1 (17): 27-36.
- Peplow P.V., Chung T.Y., Baxter G.D. Laser photobiomodulation of proliferation of cells in culture: a review of human and animal studies. Photomed Laser Surg. 2010; 28: S3-S40.
- Довнар Р.И. Моделирование кожных ран в эксперименте. Новости хирургии. 2021; 29 (4): 480-489.
- Силина Е.В., Мантурова Н.Е., Артюшкова Е.Б., Литвицкий П.Ф., Васин В.И., Синельникова Т.Г., ГладченкоМ.П., Крюков А.А., Аниканов А.В., Kaплин А.Н., НаимзадаМ.Д.З., Ступин В.А. Динамика заживления кожной раны при применении инъекционных стимуляторов регенерации у крыс. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2020; 64 (3): 54-63. DOI: 10.25557/00312991.2020.03.54-63.
- Neves L.M.G., Wilgus T.A., Bayat A. In Vitro, Ex Vivo, and In Vivo Approaches for Investigation of Skin Scarring: Human and Animal Models. Adv Wound Care (New Rochelle). 2023; 12 (2): 97-116. DOI: 10.1089/wound.2021.0139.
- Трофимец Е.И., Гущин Я.А., Крышень К.Л., Макарова М.Н., Мамыкин С.М. Изучение ранозажив-ляющего действия образца оружейного масла на модели кожной раны у крыс. Фармация. 2020; 69 (8): 43-49.
- Melnikova N., Balakireva A., Orekhov D., Kamorin D., Didenko N., Malygina D., Knyazev A., Novopolt-sev D., Solovyeva A. Zinc Oxide Nanoparticles Protected with Terpenoids as a Substance in Redox Imbalance Normalization in Burns. Pharmaceuticals. 2021; 14: 492. DOI: https://doi.org/10.3390/ph14060492.
- Abdullahi A., Amini-Nik S., Jeschke M.G. Animal models in burn research. Cell Mol Life Sci. 2014; 71 (17): 3241-3255. DOI: 10.1007/s00018-014-1612-5.
- Clouatre E., Pinto R., Banfield J., Jeschke M.G. Incidence of hot tap water scalds after the introduction of regulations in ontario. J Burn Care Res. 2013; 34 (2): 243-248.
- Caliari-Oliveira C., Yaochite J.N., Ramalho L.Z.N., Palma P.V.B, Carlos D., Cunha F. de Q., De Souza D.A, Cipriani Frade M.A., Covas D.T., Malmegrim K.C.R., OliveiraM.C., Voltarelli J.C. Xenoge-neic mesenchymal stromal cells improve wound healing and modulate the immune response in an extensive burn model. Cell Transplant. 2016; 25: 201-215.
- Escobar Chávez J., Bonilla Martínez D., Villegas González M., Molina TrinidadE., Casas Alancaster N., Revilla Vázquez A. Microneedles: a valuable physical enhancer to increase transdermal drug delivery. J Clin Pharmacol. 2011; 51: 964-977.
- Kottner J., Hillmann K., Fimmel S., Seité S., Blume Peytavi U. Characterisation of epidermal regeneration in vivo: a 60 day follow up study. J Wound Care. 2013; 22: 395-400.
- Wigger Alberti W., Kuhlmann M., Ekanayake S., Wilhelm D. Using a novel wound model to investigate the healing properties of products for superficial wounds. J Wound Care. 2009; 18: 123-131.
- Wassermann E., van Griensven M., Gstaltner K., Oehlinger W., Schrei K., Redl H. A chronic pressure ulcer model in the nude mouse. Wound Repair Regen. 2009; 17 (4): 480-484. DOI: 10.1111/j.1524-475X.2009.00502.x.
- Seaton M., Hocking A., Gibran N.S. Porcine models of cutaneous wound healing. ILAR J. 2015; 56 (1): 127-138. DOI: 10.1093/ilar/ilv016.
- Dai T., Kharkwal G.B., Tanaka M., Huang Y.Y., Bil de Arce V.J., Hamblin M.R. Animal models of external traumatic wound infections. Virulence. 2011; 2 (4): 296-315. DOI: 10.4161/viru.2.4.16840.
- Зайцев А.Е., Асанов О.Н., Мясников Н.И. Опыт моделирования трофической гнойной раны в эксперименте. Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2023; 16: 4: 310-315. DOI: 10.18499/2070-478X-2023-16-4-310-315.
- Greaves N.S., Benatar B., Whiteside S., Alonso-Ras gado T., Baguneid M., Bayat A. Optical coherence tomography: a reliable alternative to invasive histological assessment of acute wound healing in human skin. Br J Dermatol. 2014; 170: 840-850.
- TsaiM.T., Yang C.H., Shen S.C., Lee Y.J., Chang F.Y., Feng C.S. Monitoring of wound healing process of human skin after fractional laser treatments with optical coherence tomography. Biomed Opt Express. 2013; 4: 2362-2375.
- Sattler E.C., PoloczekK., Kastle R., Welzel J. Confocal laser scanning microscopy and optical coherence tomography for the evaluation of the kinetics and quantification of wound healing after fractional laser therapy. J Am Acad Dermatol. 2013; 69: e165-e173.
- Григорьян А.Ю., Бежин А.И., Панкрушева Т.А., Суковатых Б.С., Чекмарева М.С., Жиляева Л.В. Многокомпонентное раневое покрытие в лечении экспериментальной гнойной раны. Бюллетень сибирской медицины. 2019; 18 (3): 29-36.
- Боков Д.А., Михайлов Н.О., Лаптиёва А.Ю., Горюшкина Е.С. Современные способы измерения площади раневой поверхности и их сравнение между собой. Молодежный инновационный вестник. 2023; 12 (2): 14-16.
- Степенко Ю.В., Солдатов В.О., Затолокина М.А., Майорова А.В., Сысуев Б.Б., Демиденко А.Н., Ивахно Е.Н., Сарычева М.В., Покровский М.В. Cтимуляция репарации в модели линейной раны у крыс гелем с Бишофитом. Фармация и фармакология. 2019; 7 (1): 42-52. DOI: 10.19163/2307-92662019-7-1-42-52.
- Гуменюк С.Е., Гайворонская Т.В., Гуменюк А.С., Ушмаров Д.И., Исянова Д.Р. Моделирование раневого процесса в экспериментальной хирургии. Кубанский научный медицинский вестник. 2019; 26 (2): 18-25.
- Ушмаров Д.И., Гуменюк С.Е., Гуменюк А.С., Гайворонская Т.В., Караблина С.Я., Поморцев А.В., Сотниченко А.С., Мелконян К.И., Григорьев Т.Е. Сравнительная оценка многофункциональных раневых покрытий на основе хитозана: многоэтапное рандомизированное контролируемое экспериментальное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2021; 28 (3): 78-96.
- Binsuwaidan R., Elekhnawy E., Elseady W.S., Keshk W.A., Shoeib N.A., Attallah N.G.M., Mokhtar F.A., AbdElHadi S.R., AhmedE., Magdeldin S., Negm W.A. Antibacterial activity and wound healing potential of Cycas thouarsii R.Br n-butanol fraction in diabetic rats supported with phytochemical profiling. Biomed Pharmacother. 2022; 155: 113763. DOI: 10.1016/j.biopha.2022.113763.
- Tsukamoto T., Pape H.C. Animal models for trauma research: what are the options? Shock. 2009; 31 (1): 3-10. DOI: 10.1097/SHK.0b013e31817fdabf.
- Seaton M., Hocking A., Gibran N.S. Porcine models of cutaneous wound healing. ILAR J. 2015; 56 (1): 127-138. DOI: 10.1093/ilar/ilv016.
- Grey J.E., Enoch S., HardingK.G. Wound assessment. BMJ. 2006; 332: 285-288.
- RobsonM.C., BarbulA. Guidelines for the best care of chronic wounds. Wound Repair Regen. 2006; 14: 647-648.
- Koschwanez H.E., Broadbent E. The use of wound healing assessment methods in psychological studies: a review and recommendations. Br J Health Psychol. 2011; 16 (Pt. 1): 1-32. DOI: 10.1348/135910710X524633.
- Planz V, Franzen L., Windbergs M. Novel in vitro approaches for the simulation and analysis of human skin wounds. Skin Pharmacol Physiol. 2015; 28: 91-96.
- Andrade T.A., Aguiar A.F., Guedes F.A., Leite M.N., Caetano G.F., Coelho E.B., Das P.K., Frade M.A. Ex vivo model of human skin (hOSEC) as alternative to animal use for cosmetic tests. Procedia Eng. 2015; 110: 67-73.
- Terra V.A., Souza-Neto F.P., Frade M.A.С., Ramalho L.N.Z., Andrade ТЛ.М, Pasta A.A.C., Conchon A.C., Guedes F.A., Luiz R.C., Cecchini R., Cecchini A.L. Genistein prevents ultraviolet B radiation-induced nitrosative skin injury and promotes cell proliferation. J Photochem Photobiol B. 2015; 144: 20-27.
- Okuma C.H., Andrade T.A., Caetano G.F., Finci L.I., Maciel N.R., Topan J.F., Cefali L.C., Polizel-lo A.C.M., Carlo T., Rogerio A.P., Spadaro A.C.C., Isaac V.L.B., Frade M.A.C., Rocha-Filho P.A. Development of lamellar gel phase emulsion containing marigold oil (Calendula officinalis) as a potential modern wound dressing. Eur J Pharm Sci. 2015; 71: 62-72.
- Amirthalingam E., Rodrigues M., Casal-Dujat L., Calpena A.C., Amabilino D.B., Ramos-Lopez D., Perez-Garcia. Macrocyclic imidazolium-based amphiphiles for the synthesis of gold nanoparticles and delivery of anionic drugs. J Colloid Interface Sci. 2015; 437: 132-129.
- Caetano G.F., Fronza M., Leite M.N., Gomes A., Frade M.A. Comparison of collagen content in skin wounds evaluated by biochemical assay and by computer-aided histomorphometric analysis. Pharm Biol. 2016; 3: 1-5.
- Nauseef W.M. Myeloperoxidase in human neutrophil host defence. Cell Microbiol. 2014; 16: 1146-1155.
- Tsuji J.M., Whitney J.D., Tolentino E.J., Perrin M.E., Swanson P.E. Evaluation of cellular wound healing using flow cytometry and expanded polytetrafluroethylene implants. Wound Repair Regen. 2010; 18: 335-340.
- Caetano G.F., Frade M.A., Andrade T.A., Leite M.N., Bueno C.Z., Moraes A.M., Ribeiro-Paes J.T. Chi-tosan-alginate membranes accelerate wound healing. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2015; 103: 1013-1022.