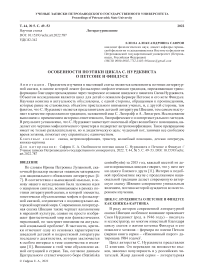Особенности поэтики цикла С. Нурдквиста о Петсоне и Финдусе
Автор: Сафрон Елена Александровна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 5 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Предметом изучения в настоящей статье являются компоненты поэтики литературной сказки, в основе которой лежит фольклорно-мифологическая традиция, переживающая трансформацию благодаря прохождению через творческое сознание шведского писателя Свена Нурдквиста. Объектом исследования является цикл для детей о пожилом фермере Петсоне и его коте Финдусе. Научная новизна и актуальность обусловлены, с одной стороны, обращением к произведениям, которые ранее не становились объектом пристального внимания ученых, и, с другой стороны, тем фактом, что С. Нурдквист является представителем детской литературы Швеции, тем самым выступает в качестве продолжателя традиции, заложенной еще С. Лагерлёф и А. Линдгрен. Исследование выполнено с применением историко-генетического, биографического и интертекстуального методов. В результате установлено, что С. Нурдквист заимствует сказочный образ волшебного помощника, наделяет его чертами мифологического трикстера и подвергает антропоморфизации. Такое превращение имеет не только развлекательную, но и дидактическую цель: чудесный кот, занимая все свободное время хозяина, помогает ему справиться с одиночеством.
Сказка, антропоморфизация, трикстер, волшебный помощник, детская литература, книжка-картинка
Короткий адрес: https://sciup.org/147237967
IDR: 147237967 | УДК: 82-342 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.787
Текст научной статьи Особенности поэтики цикла С. Нурдквиста о Петсоне и Финдусе
По словам Ирины Петровны Лупановой, сказочный фольклор является «важным материалом для национального обновления литературы» [4: 7]. В соответствии с высказанной мыслью, в основу нашего исследования была заложена идея о жанровом синтезе, возникающем в рамках поэтики литературной сказки, в которой элементы, генетически обусловленные мифом и фольклорной сказкой, соединяются с индивидуально-авторской картиной мира. Современная литературная сказка Швеции также черпает вдохновение в народной культуре, однако не просто изображает фантастический мир или фантастических персонажей, но заостряет внимание на актуальной социальной проблеме1. В частности, критики отмечают одну из основных характеристик шведской детской и подростковой литературы последнего десятилетия, которая заключается в особом интересе к теме одиночества и изоляции [11]. Внимание к этой теме обусловлено самой ситуацией в стране. Так, согласно данным Центрального статистического бюро (Statistiska centralbyrån) за 2015 год, каждый шестой из десяти опрошенных шведов говорит, что у него нет ни одного близкого друга [11]. Интерес к подобной проблематике вкупе с продолжением национальной традиции делает современную авторскую сказку Швеции совершенно уникальным явлением, поэтика которой нуждается во всестороннем изучении.
ЦИКЛ С. НУРДКВИСТА О ПЕТСОНЕ И ФИНДУСЕ КАК КНИЖКА-КАРТИНКА
В ряду авторов современной литературной сказки Швеции особенное внимание привлекает Свен Нурдквист (род. в 1946 году) – писатель и иллюстратор, во многом известный благодаря циклу сказок о жизни котенка Финдуса и его пожилого хозяина – фермера по имени Петсон (первая книга серии – «Именинный пирог» датирована 1984 годом)2.
Цикл авторства С. Нурдквиста представлен 12 книгами. Он переведен на множество языков, завоевал популярность и у российских читателей. Жанр данной серии – литературная сказка, но с точки зрения формы – это книжка-картинка, представляющая собой, по словам А. Э. Мильчина, «книжное изоиздание… в котором преобладающей или единственной формой передачи содержания служит изображение, а текст, если присутствует, носит характер подписей к изображениям»3. Такой тип издания4 характеризуется высоким уровнем интермеди-альности – специфическим типом культурной связи, «где и визуальное, и словесное одинаково важны для полноценной коммуникации» [15: 405]. А. Марнер и Х. Ёртегрен подчеркивают, что книжки-картинки помогают юному читателю осмыслить прочитанное благодаря поддержке иллюстративного материала [13].
Согласно классификации У. Редин, в которой выделяются типы «развернутого текста», «текста с иллюстрациями» и «собственно книжки-картинки» [17: 106–108], работы С. Нурдквиста относятся к последней из указанных категорий [17: 79]: в них текст и иллюстрация дополняют друг друга (однако при этом объем иллюстраций превалирует), то есть писатель является одновременно и художником, а действие начинается сразу, без вступлений [17: 108]. М. Николаевская отмечает, что основная особенность иллюстраций С. Нурдквиста заключается во введении дополнительных фантастических персонажей сравнительно небольшого размера, которые в самом тексте не описываются, но их визуальное воплощение образует некий микросюжет, дополняющий основное повествование [14: 226]. Абсурдистские предметы в интерьере Петсона (например, на иллюстрации к «Истории о том, как Финдус потерялся, когда был маленький» изображен хозяин дома, сидящий за столом, на котором стоит ящик комода, полный бутербродов, а также шляпа, внутри которой видна крошечная лестница, сам же Петсон слеп, а глаза его помещены на очки5) помогают лучше понять его внутренний мир [16]: мы видим личность, склонную к детскому, игровому поведению. Погруженные в мир веселых приключений, дети не в состоянии понять трагической глубины одиночества человека пожилого возраста, поэтому автор доносит назидательный смысл до своих читателей через игру, обучая детей тому, как важно быть внимательным к людям, которые оказались в трудной ситуации и не могут рассчитывать на помощь со стороны родственников.
ФИНДУС КАК ВОЛШЕБНЫЙ ПОМОЩНИК И ТРИКСТЕР
Финдуса Петсон получает в подарок от своей соседки. Первоначально поведение котенка полностью соответствует животному (он шипит, царапается, кусается), однако продолжительный контакт с Петсоном приводит к тому, что Финдус начинает овладевать человеческой речью. Далее антропоморфизация переходит с физиологического уровня на психологический: Финдус требует себе одежду [1]. С одной стороны, котенок делает это из чувства стыда, что может быть свойственно исключительно человеку, но не животному, а потребность в одежде может проистекать из ощущения собственной незащищенности и желания выразить новую формирующуюся личность с помощью подбора конкретных аксессуаров. С другой стороны, тот факт, что черные с зелеными полосками штаны точно такие же, как у клоуна, увиденного им в газете, подчеркивает шутовское, карнавальное поведение Финду-са как трикстера, «парадоксально соединяющего черты культурного героя и эгоистичного шута» [12: 11].
Дальнейшее поведение Финдуса позволяет отнести его к персонажам категории так называемых волшебных помощников [8: 139] – существ, сопровождающих героев, вместе с ними преодолевающих различные испытания. По словам В. Я. Проппа, «давая в руки героя волшебное средство, сказка достигает вершины. С этого момента конец уже предвидится, т. е. одиночество героя будет преодолено» [8: 139]. Однако если наличие волшебного помощника в сказке позволяет протагонисту быть совершенно пассивным, то в анализируемом цикле мы такую ситуацию не наблюдаем: Финдус постоянно вынуждает Петсона совершать различные действия, направленные на удовлетворение своих многочисленных фантазий, и тем самым занимает то время, которое теоретически могло быть заполнено погружениями в депрессивное состояние, свойственное одинокому пожилому человеку.
Финдус, зачастую в форме развлечения, помогает своему хозяину и выполняет домашние обязанности – занимается уборкой и приготовлением еды. Волшебное в цикле неразрывно связанно с обыденным: Петсон ведет хозяйство, а котенок подражает ему, играя во взрослого человека. Вместе с тем вся выполняемая Финдусом работа заканчивается проказами, вольным или невольным вредительством. Например, взявшись за уборку, кот выливает целое ведро воды на пол и катается по мокрому полу на щетках, как на лыжах, устраивает переполох в курятнике вместо того, чтобы просто принести хозяину яйца, или селится в домике, переоборудованном из старого деревенского туалета. Все это доказывает, что Финдус не только волшебный помощник, но и трикстер, посредник между крайними социальными полюсами (жителями деревни и Петсоном), в финале снимающий все противоречия и ликвидирующий конфликт [3: 93].
Финдус вместе с Петсоном занимаются созданием многочисленных изобретений, которые только отчасти направлены на решение бытовых проблем, многие же из них совершенно бесполезны (механический Дед Мороз, кастрюля на колесах, тумбочки на лыжах), а также используют инструменты не по назначению (режут хлеб электролобзиком, строгают сыр рубанком). Это, согласно С. Акселль, является способом проявления креативности и игрового поведения [10: 53-56], что позволяет сделать вывод о том, что Петсон и сам ведет себя, как трикстер.
Старик относится к котенку, как мог бы относиться к собственному внуку: не только постоянно разговаривает с ним, но печет печенье, наряжает елку на Рождество, конструирует игрушки. Более того, ради Финдуса он старается не впадать в депрессию, пытается быть бодрым и активным, что достаточно тяжело в силу возраста. По признанию самого писателя, Финдуса он списывал со своего старшего сына, который родился в том же году, что и вышла первая книга цикла, а в Петсоне есть некоторые автобиографические черты [7]. Как замечает М. Тремсгро, Финдус мыслит, как ребенок: в его сознании воображаемое и действительность представлены как единое целое [18: 25].
Ставя Финдуса в один ряд с Буратино, Снегурочкой, Марина Аромштам обращает внимание на то, что, согласно видению С. Нурдквиста, чудесная антропоморфизация очевидна только для Петсона, тогда как остальные персонажи продолжают видеть в Финдусе ничем не примечательное домашнее животное [10]. Поэто-му можно сделать вывод о том, что Финдус либо уподобился ребенку только в фантазиях своего хозяина, либо возрастные психические нарушения Петсона порождают галлюцинации (что неоднократно подчеркивают жители деревни: «Наверно, сосед сошел с ума <^> Лучше сделать вид, что я ничего не заметил»6; «С того самого дня вся деревня считает Петсона чокнутым»7). Однако тот факт, что Петсон обрел сверхъестественные способности и научился разговаривать с животными, также не исключается. Автор не дает нам конкретного ответа на этот вопрос. Таким образом, фантастика С. Нурдквиста попадает в категорию завуалированной [5: 57], в основе которой лежит прием, названный В. Э. Вацуро «двойной мотивировкой», при котором «есте- ственный и сверхъестественный ряд объяснений как бы уравнивались в правах, и читателю подсказывался выбор - обычно в пользу второго» [2: 248]. Очевидно, что ребенок, ориентированный на веру в чудо, склонен будет принять именно сверхъестественную версию описываемых событий.
Соответствие Финдуса образу волшебного помощника и трикстера, а также факт требования клоунской одежды позволяют сделать предположение о том, что С. Нурдквист предлагает нам собственную интерпретацию сюжета сказки Ш. Перро «Кот в сапогах». Неслучайно С. В. Фат-тахова подчеркивает близость этой сказки к плутовскому роману: «...вся сказка стремится показать ловкость кота, рисует его мошеннические проделки, целью которых является благополучие героя» [9: 66]. Плутовство Финдуса, с одной стороны, выражается в свойственной ребенку манере выпрашивать подарки, в применении различных ухищрений для троекратного ежегодного празднования собственного дня рождения, с другой стороны, через ложные проекции сознания самого Петсона, который не может признать факт своей рассеянности, поэтому обвиняет кота в том, что сам постоянно теряет вещи, ставит их в неподходящее место, из-за чего они падают, разбиваются, приходят в негодность:
«И тут он выскочил к тому месту, где стояла корзина с яйцами. Занавеска зацепилась за ручку корзины, и корзина перевернулась. В следующую секунду занавеска обвилась вокруг ноги Петсона, и тот грохнулся прямо в лужу из разбитых яиц. Петсон очень рассердился. И как только выбрался из скользкой жижи, возмущенно уставился на котенка. - Финдус!!! Как тебе пришло в голову оставить корзину с яйцами на скамейке, без-дельник?»8
И брюки Финдуса, и сапоги кота из одноименной сказки могут восприниматься не только как факт антропоморфизации , но и как проявление маскулинности : волшебные персонажи претендуют на доминирование над субъектами мужского пола, демонстрирующими свою несостоятельность (младший сын из сказки «Кот в сапогах» оказывается на улице без средств к существованию, Петсон из сказок С. Нурдкви-ста живет один в деревне и не может нормально организовать свой быт, поэтому все считают его сумасшедшим).
Многие книги цикла заканчиваются совместной трапезой либо с участием котенка и Петсона, либо с участием еще и жителей деревни. Так, в «Рождестве в домике Петсона» в канун праздника у пожилого героя, накануне сломавшего ногу, оказывается вся деревня. Объединение животных и людей под одной крышей соответ- ствует финалу фольклорной волшебной сказки, когда во время праздничного (часто свадебного) пира мир провозглашает себя единой семьей, где, по словам Е. М. Неёлова, «находит свое завершение тот процесс борьбы с неродственностью, который и составляет содержание противоборства Добра и Зла» [6: 268].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, шведская литературная сказка в лице С. Нурдквиста представляет собой сложное синтетическое образование: относясь к типу книжки-картинки, она заполняет понятийные лакуны в сознании юного читателя с помощью визуального сопровождения текста; демонстрирует преемственность фольклорно-мифологической традиции, с одной стороны, благодаря эксплуатации образа волшебного помощника и трикстера, с другой стороны, через постулирование традиционных нравственных ценностей: автор организует текст таким образом, чтобы его пожилой герой преодолел свое одиночество и обрел семью, пусть и благодаря коту; делает игровую модель поведения основой мировосприятия, тем самым удовлетворяя базовые потребности своей аудитории.
Список литературы Особенности поэтики цикла С. Нурдквиста о Петсоне и Финдусе
- Аромштам М. Обыденное волшебство Свена Нурдквиста [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.papmambook.ru/articles/23/ (дата обращения 25.10.2021).
- Вацуро В. Э. Последняя повесть Лермонтова // М. Ю. Лермонтов: исследования и материалы / Акад. наук СССР, Ин-т русской лит. (Пушкинский Дом); [редкол.: М. П. Алексеев (отв. ред.), А. Глассе (США), В. Э. Вацуро]. Л.: Наука, 1979. С. 223-252.
- Кузнецов А. С. Симплициссимус Г. Гриммельсгаузена как персонификация трикстера // Новый филологический вестник. 2015. № 3 (34). С. 90-106.
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск: Госиздат Карел. АССР, 1959. 502 с.
- Манн Ю. В . Творчество Гоголя: смысл и форма. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 744 с.
- Неёлов Е. М. От волшебной сказки к литературе: фольклорная трансформация евангельской традиции в учении Н. Ф. Федорова о воскрешении // Проблемы исторической поэтики. 1994. № 3. С. 262-273.
- Папудогло Н., Белоголовцев Н . Петсон, Финдус и Свен Нурдквист. Как шведский художник стал знаменитым писателем // Мел. 13.09.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mel.fm/zhizn/ istorii/9814235-sven_nordqvist (дата обращения 25.10.2021).
- Пропп В . Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. 335 с.
- Фаттахова С. В . К вопросу о некоторых особенностях поэтики сказок Ш. Перро // Вестник ТГГПУ (Филология и культура. Philology and Culture). 2006. № 1 (5). С. 62-70.
- Axe11 C. Att läsa Petsson och Findus med glasögon // Teknikdidaktisk forskning för lärare: Bidrag frân en forskningsmiljö / Ed. Stolpe К., Höst G. Series: Naturvetenskapernas och teknikens didaktik. 2018. Vol. 2. S. 51-61.
- Ensamhet och utanförskap i dagens barnböcker. Available at: https://www.dalademokraten.se/artikel/opinion/ ensamhet-och-utanforskap-i-dagens-barnbocker (accessed 25.10.2021).
- Lipovetsky M. The trickster's transformations in Soviet and post-Soviet culture. Boston: Academic Studies Press, 2017. 298 р.
- Marner A., Örtegren H. En kulturskola för alla - estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Myndigheten för skolutveckling. Available at: https://www.diva-portal.org/smash/ get/diva2:153319/FULLTEXT01.pdf (accessed 22.03.2022).
- Nikolajeva M. Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur, 2000. 307 s.
- Nikolajeva M., Scott C. The dynamics of picturebook communication // Children's Literature in Education. 2000. Vol. 31. No 4. P. 225-239.
- Olsson V. Det ar svart det dar med sanning. Available at: http://www.diva-portal.Org/smash/get/diva2:783134/ FULLTEXT03 (accessed 22.03.2022).
- Rhedin U. Bilderboken: pa vag mot en teori. 2., rev. uppl. Stockholm: Alfabeta, 2001. 280 s.
- Tremsgra M. Tremsgra, Maria. Vad gor gaddan i bilderboken? // Abrakadabra. 1999. Vol. 2. S. 23-25.